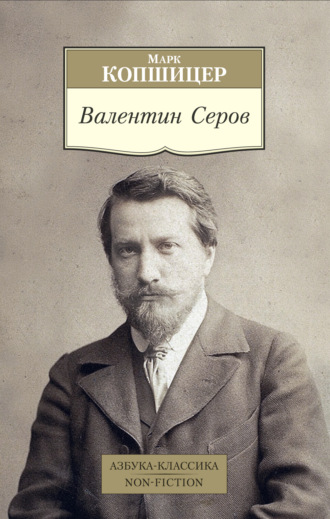
Марк Копшицер
Валентин Серов
Писавший рядом с Серовым «Собор Святого Марка» Остроухов невольно поддался его влиянию. И хотя в остроуховском эскизе не столько воздуха, не столько свежести, но импрессионизм его несомненен.
Здесь можно сказать еще, что Серов очень хорошо знал предшественников импрессионистов – барбизонцев: Коро, Добиньи, Руссо – и относился к ним с огромной симпатией. Так что, опираясь на тех же предшественников, он пришел к результатам, сходным с результатами французов.
Но он даже понятия не имел, что создал что-то значительное и вместе с тем вполне закономерное.
Те принципы, которые стали символом веры импрессионистов, буквально рвались наружу: во Франции – у Курбе и у барбизонцев, особенно у Коро и иногда у Милле («Анжелюс»), в России – у Левитана, Сурикова, Репина, даже еще раньше – у Александра Иванова. Больше того – те или иные черты импрессионизма можно найти у Гойи и Гейнсборо, у Веласкеса и Рембрандта. Так что достижения Серова свидетельствуют, кроме всего прочего, еще о его огромной чуткости и о высокой художественной культуре.
Первые восторги удивления в абрамцевском кружке, вызванные успехом Серова, очень скоро сменились уважением, даже преклонением и безусловной уверенностью в закономерности этого успеха.
Упоминания об этом – очень сдержанные – и в письмах Серова, и Нестерова, и в воспоминаниях о Нестерове, относящихся к более позднему времени. Нестеров был, пожалуй, самым ревностным и стойким почитателем этого портрета Серова[8]. Он увидел его только через год, летом 1888 года, а еще через несколько лет, будучи уже автором замечательных картин «Пустынник» и «Видение отроку Варфоломею», он решил переучиваться и поехал в Петербург к Чистякову, потому что Серов не уставал повторять, что его успех – это торжество чистяковских принципов.
Еще одним последствием успеха (на сей раз материальным) был заказ написать портрет жены одного из сослуживцев Саввы Ивановича, строителя Ярославской железной дороги Чоколова. Осенью 1887 года Серов уезжает в Ярославль.
Екатерина Николаевна Чоколова была очень умной, культурной женщиной. С ней интересно было беседовать, давать ей уроки живописи. Но портрет не шел. И в том же письме, где говорится об успехе портрета Веруши, Серов жалуется: «…вот теперешний портрет что-то того, боюсь, ну да ведь без этого нельзя, как ни легко, а все трудно. Кушаю сладко, а пишу – довольно гадко. Впрочем, ты, кажется, знаешь, каждый портрет для меня целая болезнь». Серов остался недоволен своей работой. Не то чтобы портрет был плох, но он был несравненно слабее портрета Веруши, в нем не было ни свежести, ни самостоятельности, чувствовались всяческие старые влияния: и Репина, и Врубеля. А главное, молодая женщина выглядела на портрете лет на десять старше, чем в жизни, так что даже Савва Иванович, когда увидел ее изображение, сказал Серову:
– А муж тебя не спустил с лестницы за этот портрет?
И странно: в то же время за три-четыре сеанса Серов написал портрет самого Семена Петровича Чоколова, гораздо более удачный, свежий и самостоятельный.
Однако и этот портрет не понравился Серову, и, беседуя впоследствии с Грабарем, Серов рекомендовал не ездить в Ярославль и даже не сказал, чьи это были портреты.
И это несмотря на то, что лет через десять-пятнадцать после того, как портрет был написан, Екатерина Николаевна Чоколова стала совсем такой, как на портрете Серова.
С Серовым еще не раз будут происходить подобные случаи, когда изображаемые им люди окажутся на портрете старше, чем они выглядят в жизни, и лишь по прошествии нескольких лет их облик станет именно таким, какой был предсказан Серовым. И Серов, конечно, знал об этом, во всяком случае, что касается портрета Чоколовой, – знал несомненно в то время, когда беседовал с Грабарем. Но он не ценил свой дар провидца.
В 1886 году Дервиз женился наконец на Наде Симонович, только-только превратившейся из девочки в барышню – ей в этом году исполнялось двадцать лет, – и решил обзавестись гнездом. В то время для состоятельного человека это означало – приобрести имение.
Серов с энтузиазмом встретил планы своего друга, ставшего теперь родственником. Он сам втайне мечтал о «гнезде», о женитьбе, но ему приходилось рассчитывать только на свой труд, на свое искусство, и, значит, нужно было ждать и ждать.
Талант был единственным наследством, полученным им от родителей, но денег этот дар пока что не принес, и мысль об устройстве личной жизни приходилось откладывать на какой-то неопределенный срок.
До сих пор тем «гнездом», где Серов обитал, считалось Абрамцево. Но хоть он и был там принят как родной, и мог считать себя чуть ли не членом семьи, который в любую минуту имеет возможность воспользоваться гостеприимством хозяев, все же он не чувствовал себя там совершенно легко. Слишком уж для многих было Абрамцево своим, и, если учесть чересчур щепетильный характер Серова, можно понять, почему он иногда даже тяготился пребыванием там.
Невесте он признавался: «Если спросишь, как я живу, – отвечу: живу я у Мамонтовых, положение мое, если хочешь, если сразу посмотреть – некрасивое. Почему? На каком основании я живу у них? Нахлебничаю? Но это не совсем так – я пишу Савву Ивановича, оканчиваю, и сей портрет будет, так сказать, оплатой за мое житье, денег с него я не возьму…»
Конечно, покупка имения семейством Дервиз-Симонович не решала для Серова проблемы независимости и самостоятельности, но все же была чем-то вроде отдушины, чем-то почти своим, семейным…
Началось это, однако, с событий далеко не радостных.
Живя все последние годы в Сябринцах, Валентина Семеновна детей своих от Немчинова поместила в Петербурге у сестры. Было их двое: дочь Надя – Надя маленькая, как называли ее в отличие от Нади Симонович, и сын Саша, тихий и милый мальчик, очень талантливый. Как и старший его брат, любил он рисовать, причем особенно – лошадей, и рисовал замечательно. В декабре 1885 года он скоропостижно умер, сгорел чуть ли не в несколько часов от какой-то скоротечной формы скарлатины. Аделаида Семеновна так была потрясена случившимся, что собралась в одну ночь и бежала из Петербурга в село Едимоново на берегу Волги, где находилась первая в России сыроварня, директором которой был Николай Васильевич Верещагин, брат художника. Аделаида Семеновна познакомилась с ним давно, в Швейцарии, куда ездила с мужем к Герцену. Николай же Васильевич изучал в Швейцарии сыроварение.
С Петербургом решено было покончить навсегда. «Понемножку всех собирают поближе к Едимонову, – пишет Серов невесте весной 1886 года, – Колю хотят поместить в тверскую реальную гимназию, Варвару – в Москву. Дервизы тоже, вероятно, будут неподалеку, может быть, и ты приедешь?»
Летом в Едимоново съехались все Симоновичи, приехала Леля Трубникова, приехал Серов, приехала Валентина Семеновна с решением поселиться здесь окончательно, привезла с собой рояль и фисгармонию, библиотеку Александра Николаевича и весь его архив: рукописи, неизданные романсы, чтобы подготовить все для печати.
Но точно рок какой-то преследовал эту женщину. Видно, недостаточно было ей потерять двух мужей и сына; через год после того, как поселилась она в Едимонове и начала уже приходить в себя, забываться в творчестве, которое всегда было для нее спасительным, во время пожара, уничтожившего полдеревни, сгорел и тот дом, где она жила, а с домом все ее имущество и все рукописи Александра Николаевича. Она вышла из огня в чем стояла, держа в одной руке дочь, а в другой – корзиночку с партитурой своей новой оперы.
Но несчастья и тут не покинули ее, ибо (забегая вперед) спасенная эта из огня ее опера провалилась, хотя и старались поставить ее хорошо в Мамонтовском театре и пел в этой опере Шаляпин.
Ну а пока что летом 1886 года в Едимоново приехал Дервиз, снял светелку в доме местного священника и тем же летом обвенчался с Надей Симонович в едимоновской церкви. И вот после этого события тем же летом было куплено Домотканово. Приглядев его, Дервиз повез туда молодую свою жену и Серова с Лелей Трубниковой. Все одобрили выбор Дервиза, и Домотканово надолго стало прибежищем для всей семьи, для близких и дальних знакомых, для всех, кому нужен был отдых, покой для работы.
Дочь Серова пишет в своих воспоминаниях: «Домотканово не было родовым имением с какими-либо сохранившимися традициями, с портретами предков на стенах, с красной или карельской мебелью, с оставшимися доживать старыми слугами.
Дом был простой, в виде большого четырехугольного ящика, низ – кирпичный, оштукатуренный, белый, верх – серый, дощатый. На доме никаких украшений, только в сад выходила небольшая каменная площадка – терраса с большими белыми колоннами, поддерживающими деревянный простой балкон. Таким образом, все же это был „ампир“, хоть простой и скромный.
По бокам террасы – огромные кусты сирени, белой и лиловой. Небольшой садик с клумбами. Тут же начиналась аллея из высоких старых лип, которая спускалась к прудам. Прудов было восемь, и среди темной листвы деревьев они были необыкновенно живописны. Аллеи тенистые. В них было всегда прохладно и влажно.
Особых доходов Домотканово его владельцам не приносило. Владимир Дмитриевич и его жена Надежда Яковлевна слишком мало походили на настоящих помещиков.
Были они оба натурами тонкими, одаренными, гуманными. Близкие, их окружающие, тоже были людьми незаурядными.
Благодаря этому Домотканово заняло совершенно особое место среди тверских помещичьих усадеб. Способствовало этому еще и то, что Домотканово занимало центральное место в разбросанных кругом имениях и от всех находилось на недалеком расстоянии. Кто только не бывал в Домотканове: земские деятели, толстовцы, пчеловоды, доктора, учителя, агрономы, художники, артисты».
Домотканово было благодатью для всех. Дервиз, который как художник далеко не пошел, развил бурную хозяйственную деятельность: перестраивал дощатый верх дома, благоустраивал парк, строил купальню на озере. Аделаида Семеновна, поддавшись потребности закоренелой шестидесятницы и педагога, организовала отменную школу. Валентина Семеновна, которая сюда частенько наезжала из Едимонова и подолгу гащивала, организовала то, что сейчас называется «художественной самодеятельностью», то есть спектакли и концерты для крестьян силами самих крестьян.
Серов с удовольствием бывал здесь. В том же письме к невесте, где он сетует на двусмысленность своего положения в Абрамцеве, он сообщает:
«Да! Раньше чем приняться за работу, я хочу съездить в Домотканово, я их очень давно не видел. Ах, летом там чудесно! Неужели ты не приедешь погостить там у этих восьми прудов? Помнишь, как славно мы туда на телегах ездили и как на возвратном пути продрогли».
Ему приятно вспоминать о Домотканове самое незначительное, даже наивное, вроде вот этого: «…и как на возвратном пути продрогли», и какого-то Сухоручкина, который влюбился в его невесту Ольгу Федоровну и теперь, как передают, «томится» по ней.
Но главное не это. Домотканово сыграло в жизни Серова-художника колоссальную роль: здесь, в обстановке полного душевного покоя, он написал множество вещей, почти все свои лучшие пейзажи. Больше того, именно здесь он нашел себя как пейзажист. Он даже в шутку как-то сказал Дервизу:
– Не знаю, Владимир, как тебе, а мне Домотканово приносит порядочный доход.
Домотканово наряду с Абрамцевом стало началом его успеха. Здесь летом 1888 года он написал свой второй замечательный портрет, героиней которого стала его любимая сестра Маша Симонович. Он писал этот портрет целое лето, используя каждый погожий день, потому что портрет этот должен был быть таким же солнечным и радостным, как и прошлогодний портрет Веруши.
Только такая «сознательная модель», как сестра Маша, могла выдержать подобное испытание. Но она верила в талант Серова, верила в то, что это нужно, и безропотно позировала целыми днями. Серов работал медленно, но с увлечением. Опять вернулось то состояние, в котором он приехал из Венеции, состояние, сопутствовавшее ему во время работы над портретом Веруши. А так как была возможность, он не торопил себя, предаваясь своей слабости писать медленно, обдумывая каждую деталь, рассчитывая каждый мазок.
С утра Маша усаживалась на скамье под деревом, Серов устанавливал мольберт, ящики с красками и потом долго, иногда говоря лишь два-три слова, иногда совсем безмолвно, только жестами указывал, как надо повернуть голову, как передвинуться на скамье. После этого они совершенно замолкали, и Серов все утро писал, а во второй половине дня, когда освещение изменялось, подготовлял рисунок для дальнейшей работы. Они были очень довольны друг другом.
Но бывали такие дни, когда увлечение проходило, и тогда казалось, что работа не ладится. Он отходил от картины, долго глядел на нее и повторял:
– То, да не то, то, да не то…
Однако все же видно было, что получается «то». И для обитателей Домотканова, не видавших прошлогодней работы Серова, радостно было сознавать, что талант их друга, их брата расцвел вдруг таким пышным цветом.
Спустя три месяца, когда Серов все еще собирался продолжать писать, Маша вдруг почувствовала, что пора кончать. Она, как человек искушенный, увидела, что задача, которую ставил перед собой Серов, выполнена и дальнейшая работа может только засушить картину. Сославшись на дела, она уехала в Петербург, будучи уверена, что Серов написал великолепный портрет, но, конечно же, не подозревая, что благодаря этому портрету она станет со временем такой же легендой для русского искусства, какой для мирового искусства стали Джоконда, Форнарина или Саския.
Портрет Маши Симонович стал как бы продолжением поисков, начатых в прошлом году. Серов углубил в нем то, чего он достиг в портрете Веруши.
В обеих картинах он очень удачно находит равновесие между двумя началами искусства: эмоциональным и интеллектуальным, между сердцем и умом, эти две картины как бы соприкасаются, а между ними та линия, которая являет собой полную гармонию этих двух начал.
Но с этого момента Серов все дальше будет отходить от этой линии, все дальше будут идти по пути искусства мысли. Почти все картины, которые он напишет в дальнейшем, будут находиться по ту сторону линии, где находится портрет Маши Симонович. Этот портрет, пожалуй, менее эмоционален, менее обаятелен, чем портрет Веруши Мамонтовой, но он зато более глубок, и обаяние его не в образе, а в самой живописи.
Порой кажется, что Серов начинает стыдиться давать волю чувству, загоняет его внутрь себя, словно боясь обнажить перед другими свое сердце. Но в портрете Маши Симонович это заметно, лишь когда сравниваешь его с портретом Веруши и когда знаешь дальнейший путь Серова. Будучи изолирован от других картин, портрет не производит такого впечатления, в нем еще очень много эмоциональности, много живописности. Серов увлекается красками, передачей на полотне тончайших цветовых переходов, создаваемых светом утреннего солнца, пронизывающим листву старого дерева, движением воздуха, соседством зелени, красивым сочетанием белой блузки и синей юбки.
Рядом с этой великолепной живописью несколько теряется другой портрет, написанный тем же летом и потому, быть может, не оцененный до сих пор по достоинству. Он написан как будто мимоходом на случайно подвернувшемся длинном листе железа. Это портрет хозяйки Домотканова Нади Дервиз с ребенком. Портрет, к сожалению, остался незаконченным; полностью прописано только лицо, наивное, почти детское, с пухлыми губками и немного обиженными глазами, лицо молодой женщины, познавшей уже первые радости материнства и его беду, потому что девочка, которую родила Надя, была больна. И на лице молодой матери тревога, обида и какое-то настойчивое желание пожаловаться кому-то сильному, быть может, как еще совсем недавно, упасть головой на мамины колени и заплакать.
Этот портрет, пожалуй, первый, в котором Серов, пока еще не очень сознавая, что он делает, пытается передать психологию человека. В дальнейшем это станет основной и вполне осознанной задачей почти всех его портретов.
Серов, по-видимому, и сам не ценил достаточно этот портрет, писал его чуть ли не для того, чтобы испытать технические возможности живописи на металле, да и кусок этот железа был случайным, остался после ремонта крыши. И писался портрет не в комнатах, где был в то время ремонт, а на лестничной площадке, и площадка была без перил…
Портрет, неоконченный, так и остался стоять на том месте, где был начат, – на карнизе лестницы. В следующий приезд Серов вспомнил о нем, стал опять писать. У Нади уже был второй ребенок. Серов закрасил прежнего, а нового написать не успел. Так и остался этот портрет стоять на карнизе лестницы, и все привыкли к нему и перестали его замечать, и Надя уже умерла, и Серов умер, как вдруг в 1914 году, перед посмертной выставкой Серова, увидел портрет художник Ефимов, муж младшей из сестер Симонович, увидел, пришел в восторг, изумился его заброшенности и отвез на выставку.
Сейчас портрет в Третьяковской галерее и переведен на холст.
Третьей значительной картиной, над которой Серов работал тем же летом, был пейзаж «Пруд», один из восьми домоткановских прудов.
Поистине он был неутомим, он не желал знать ни дня отдыха.
Пруд он писал в пасмурные дни, когда не мог работать над портретом Маши.
Если в портретах Серов бессознательно использует, вернее, заново открывает некоторые приемы импрессионистов, то в пейзаже школа, которой следует Серов, вполне определенная. Серов сам говорит об этом, считая своими учителями барбизонцев.
В одном из писем Серов в шутку называет написанный им пейзаж «мой Добиньи – Руссо».
Таким образом, по сравнению с живописью портретов Веруши и Маши живопись пейзажа можно было бы считать для Серова шагом назад, если бы то, что он совершил ранее, было совершенно сознательно. Но он в то время сам не понимал, что он сделал, и оценил по-настоящему свои работы лишь значительно позже, будучи зрелым мастером. Он даже стал утверждать, что после портрета Маши ничего не написал равноценного. «Тут весь и выдохся», – сокрушенно говорил он. Однако «Пруд» Серов всегда ценил высоко, хотя от пейзажей, написанных им в предшествующие два года («Осень», «Прудик», две «Зимы»), домоткановский пейзаж отличается лишь своей законченностью и как бы каноничностью. Но Серов не сказал им еще своего слова в пейзаже. А между тем именно здесь, в Домотканове, создаст он впоследствии настоящие, свои «серовские» пейзажи, которые только одним будут связаны с «Прудом» – своей будничностью, безыскусностью сюжета да еще тем, что Серов почти никогда не будет писать солнечных, светлых пейзажей, выбирая для них главным образом осень и зиму. Лето было слишком ярким и разноцветным, оно казалось ему немного безвкусным и аляповатым, осень же обдавала все вокруг своим прохладным дыханием, и яркие цвета меркли, бледные становились ярче, появлялся общий тон, мягкий и немного грустный.
«Пруд», написанный летом, создавался, как уже было сказано, только в пасмурные дни. В нем преобладают коричневые тона, и он действительно очень напоминает пейзажи барбизонцев, особенно Добиньи и скорее Коро, чем Руссо, ибо в тоне облаков и их отражения в воде, в ряске, затянувшей поверхность пруда, есть свойственные Коро дымчато-серебристые оттенки.
Во всяком случае, результатами работы этого лета Серов мог быть доволен. Теперь он решился наконец выставить свои картины на суд публики на официальной периодической выставке, открывавшейся в конце года в Москве.
Выставки эти устраивались ежегодно Московским обществом любителей художеств с 1861 года и имели большое значение для художников, особенно молодых: передвижники к тому времени создали множество бюрократических барьеров для проникновения молодежи, и выставить свою картину начинающему художнику было трудно. Кроме того, общество организовало конкурсы с несколькими премиями: за портрет, за пейзаж, за жанр… И это было тоже очень важно, потому что премии давали возможность молодым художникам почувствовать себя признанными и были для них какой-то материальной поддержкой. Серов привез в Москву из Домотканова портрет Маши и «Пруд». По пути он заехал в Абрамцево договориться о том, чтобы Мамонтовы разрешили выставить портрет Веруши. Мамонтовы, разумеется, разрешили.
Потом ездил по Москве, хлопотал о том, чтобы картины были приняты на выставку, заказывал рамы у московского рамочника Грабье, писал портрет друга своей матери, композитора Бларамберга, который тоже решил выставить.
Всюду ему сопутствовала удача: картины были приняты на выставку, все видевшие их отзывались очень одобрительно. Можно было рассчитывать и на премию, и на продажу картин. (Речь шла, разумеется, только о домоткановских работах.) Теперь Серов чувствовал себя уверенно, чувствовал художником, который может искусством обеспечить существование не только свое, но и семьи.
И значит, теперь можно было взять на себя ответственность – жениться на Леле, которая, бедняжка, жила в одиночестве в нелюбимой Одессе, работала и ждала его.
Решение о том, что с женитьбой дальше медлить нельзя, возникло у Серова в начале сентября. Очень тягостно стало одному, и не давала покоя мысль о том, что невеста живет где-то за тридевять земель и столько лет ждет, ждет… И только письма, наполненные, как и все письма, признаниями, упреками, распутыванием недоразумений, да короткие и редкие свидания, связанные с долгими поездками, на которые уходят все скопленные деньги, – вот все, что было у них эти годы.
Зато теперь все складывалось удачно. «Мама, конечно, все знает, – пишет он, – и, конечно, довольна очень, она говорит, что, если бы я полюбил и женился на другой, ей было бы это совершенно непонятно. Все вообще очень мило относятся к нашей затее. Даже девицы мамонтовские, и Маша (Якунчикова) в особенности, встретили меня радушно и ласково, давным-давно зная все; вначале они, оказывается, были огорчены – кричали и вопили, но потом решили, что это, собственно, эгоизм с их стороны и что так, пожалуй, будет для меня лучше».
Пришлось еще потратить много времени на оформление различных документов. Серов с каким-то внутренним удивлением, немного наивным, даже с досадой сообщает невесте, что он потомственный дворянин, а потому предстоят дополнительные хлопоты, нужен, кроме паспорта от полиции, еще и паспорт от петербургского дворянства, и спрашивает: «Ты ведь тоже дворянка, Леля? Ну а у тебя этих бумаг достаточно?»
Но главным препятствием неожиданно оказалась сама невеста. Все как будто было договорено, но она никак не могла решиться на последний шаг. Сначала ссылалась на какие-то дела, и Серов с грустью пишет: «Никогда у нас с тобой не будет времени, чтобы вот как раз жениться». Потом откровенно призналась: стыдно. Стыдно показаться на глаза людям после замужества.
Она даже предложила первое время жить в Киеве. Там, вдали от знакомых, привыкнуть к своему новому положению молодой жены. Серов согласен на все: «В Киев так в Киев», – но все же замечает: «Стыдно – знаешь, Леля, всюду первое время будет стыдно. Но скажи, пожалуйста, как вообще у людей хватает духу венчаться и жить вместе всем напоказ, – невероятно, но так, ничего не поделаешь, приходится примириться. Вот мы и примиримся – нет? Все, однако, сводится к одному: мне необходимо – или нам необходимо – свидеться поскорее».
Письмо это написано в начале октября. Через несколько дней после этого, получив у Саввы Ивановича бесплатный билет, Серов отправился в Одессу и в Киев.
В Одессе он сделал предложение, и оно было принято, но с тем все же условием, чтобы после свадьбы они поселились в Киеве. И на обратном пути из Одессы в Москву Серов решил остановиться на несколько дней в Киеве. Эта необходимость совпала с его давнишним желанием повидать Врубеля.
Перед отъездом Серова Савва Иванович сострил. Он сравнил Серова со своим сотрудником Арцыбушевым.
– Оба они столько уже раз пытаются попасть в Киев, но не могут, – смеялся Савва Иванович, – у Арцыбушева магнит не доезжая Киева: все сворачивает в свое имение, у Серова – за Киевом: все проскакивает в Одессу.
Теперь наконец желание исполнилось.
Однако посещение друга принесло Серову больше огорчений, чем радости. Он был поражен обстановкой, в которой жил Врубель. Врубель называл это «гомеризмом». Но Серов знал – это была нищета. В комнате не было ни стола, ни стула. Весь гардероб Врубеля был на нем: засаленный, весь в красках сюртук, латаные сапоги. Врубель сам как-то признался в письме к сестре, у которой часто вынужден был просить взаймы, что деньги, присланные ею на поездку в Харьков к отцу, он истратил на починку сапог, ибо на них «было столько же глубоких ран, сколько на Цезаре в день его сражения с сенаторами».
Внешне он изменился разительно. Красивые его волосы – золотистые, блестящие, крупными волнами – теперь потускнели, были в беспорядке; у него часто болела голова, и от этого и от жестокой нужды на лице его лежала печать страдания и болезненности; он похудел, потому что часто в кармане его не было ни копейки даже на хлеб.
Он не сумел показать Серову ни одной законченной работы. То немногое, что он доводил до конца, приходилось немедленно продавать за гроши ростовщику Дахновичу. Дахнович ценил талант Врубеля, понимал, что в убытке он не останется. Им были куплены «Муза», «Восточная сказка», «Портрет мужчины в старинном костюме» и многие другие вещи. (Дахнович не ошибся в своих расчетах, впоследствии он за огромные деньги перепродал эти картины киевским коллекционерам Ханенко и Терещенко.)
Серову было неудобно за свой успех. Он рассказал Врубелю о веселой и интересной жизни в Абрамцеве и Домотканове, о предстоящей выставке и предстоящей женитьбе. Но Врубель был старым другом и по характеру своему, мягкому и доброжелательному, неспособен был завидовать. И он действительно был рад за Серова. Но вместе с тем, хоть Серов и оставался единственным человеком, с которым Врубель чувствовал себя легко, он с огорчением замечал, что почему-то прежней полной близости уже нет. Может быть, причиной была некоторая, больше обычной, сдержанность Серова, вызванная тем, что ему было неудобно, он боялся рассказами о своем успехе навести Врубеля на неприятные размышления о его собственной судьбе. И Врубель понимал это, замыкался в себе и часто задумывался.
Неужели прав был отец! Когда старик приезжал в последний раз в Киев, он был потрясен, увидев сына в нищете. И даже не это было главным. Главным было отсутствие перспектив. Врубель-отец усердно посещал художественные выставки. На них все чаще появлялись картины Мишиных товарищей, даже не сверстников, его сын был старше многих. И вот они уже известны, о них пишут в газетах, сын же его продолжает прозябать, несмотря на талант, о котором он с такой самоуверенностью говорит и который действительно есть у него. О чем он думает, чего ждет? Почему не работает? Что это за бредовая идея – «Демон», с которой он носится столько лет? Что он сделал хотя бы для этого самого «Демона»?
Врубель показал отцу набросок. Старик возмутился. И это будущее великое творение? На холсте небольшого размера одной серой масляной краской изображена голова и торс, которые отцу показались скорее образом злой и чувственной женщины, к тому же довольно пожилой. Сын оправдывался: Демон – это дух, объединяющий в себе мужское и женское начала.
Но отцу было ровным счетом безразлично, отчего «Демон» оказался именно таким, а не другим. Он знал лишь то, что Мише уже за тридцать, что ему давно пора бы достичь чего-нибудь определенного, а не висеть между небом и землей.
В самом деле, чего он добился: университет окончил плохо, воинскую повинность отбыл плохо, Академию бросил из-за своего выдающегося таланта и в результате остался на бобах. А ведь столько блестящих надежд было!
И теперь вот. После удачных росписей в Кирилловской церкви ему не поручили ни одной серьезной работы во Владимирском соборе, роскошном храме, гордо возвышающемся в центре Киева. Ему доверили писать только какие-то орнаменты. Врубель говорил, что его преследуют несправедливость и неудачи. Насчет последнего отец не сомневался, в первое же верил плохо. Между тем Врубель говорил правду.
И, уезжая из Киева, Серов решил, что при первом же удобном случае он перетянет Врубеля в Москву, в Абрамцево – к Мамонтову.
Окрыленный первым успехом, Серов решил попытаться написать большой парадный портрет.
Приближался юбилей композиторской деятельности его отца, двадцатипятилетие его первой оперы, и администрация Мариинского театра готовилась к постановке «Юдифи». Валентина Семеновна написала воспоминания о своем покойном муже, собрала из старых газет и журналов и подготовила к печати сборник его критических статей. Валентин Серов решил отметить юбилей отца большим парадным портретом и выставить его в Мариинском театре в день премьеры. Он поселился в Петербурге, куда приехала и его мать, и вместе с ней деятельно занялся сбором материала. Разыскал в Апраксином дворе конторку, такую, как была у отца, стоя у которой он оркестровал «Рогнеду» в ту ночь, когда родился его сын. Собрал вещи, принадлежавшие отцу, с помощью матери воссоздал обстановку, в которой работал Александр Николаевич. Установил в глубине комнаты книжные шкафы, расставил на полочках статуэтки, посреди комнаты поставил конторку, наколол на нее старые афиши, на круглый стол бросил небрежно листы нотной бумаги и раскрытую книгу…
Но не было главного. Не было человека. Отца он помнил плохо. В Третьяковской галерее он сделал акварельную копию с его портрета работы Келлера, но это не помогло. Писать было трудно, он совсем не мог писать без натуры. Он сам оделся в костюм отца, стал заложив ногу за ногу, как, помнилось ему, виделось, словно в тумане, приплывшем из далеких лет, стоял отец, когда задумывался вдруг среди работы, небрежно сунул в оттопыренный карман пиджака носовой платок и так сфотографировался. Но все же это было совсем не то; работа не клеилась.
Он читал воспоминания матери об отце, расспрашивал о подробностях их жизни, задавал грустный вопрос: «Расскажи, как умер отец?»
За окном стояла промозглая петербургская осень. Окна квартиры, превращенной Серовым в мастерскую, выходили на север, и писать, чуть время подходило к вечеру, становилось невозможно. И мать в который раз рассказывала сыну о смерти отца.
После возвращения из Вены, с юбилея Бетховена, Александр Николаевич почувствовал себя не совсем здоровым, но бодрился, говорил даже, что хочет почему-то поехать в Индию. И вдруг слег. И болел он на первый взгляд несерьезно, во время болезни был весел и оживлен.




