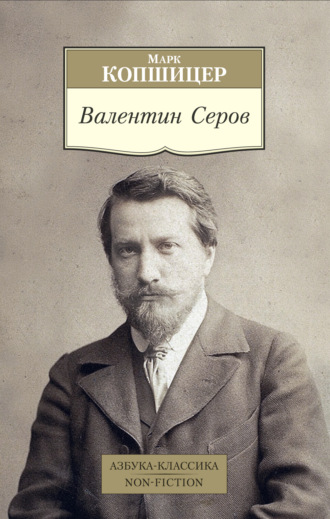
Марк Копшицер
Валентин Серов
К сожалению, дружная эта компания просуществовала меньше года.
Весной 1884 года в Петербург приехал профессор Прахов, занимавшийся реставрацией старинной Кирилловской церкви в Киеве. Он обратился к Чистякову, чтобы тот порекомендовал ему художника. Выбор пал на Врубеля. Врубель согласился уехать, он очень бедствовал в Петербурге, перебиваясь буквально с хлеба на воду грошовыми уроками в ожидании субсидий от отца, который и сам нуждался, да заимствуя иногда небольшие суммы у старшей сестры, с которой был очень дружен.
Врубель уехал в Киев в мае 1884 года, а в январе 1885 года уехала в Одессу Ольга Федоровна Трубникова. Там ее ждала педагогическая работа и самостоятельная жизнь. Она была очень щепетильным человеком и считала себя достаточно взрослой, чтобы перестать обременять приютившее ее семейство.
Серов остался один. «Разбросало нас, как осенние листья ветром», – тоскливо писал он Ольге Федоровне.
Дервиз все больше времени проводил с Надей Симонович, готовился жениться, думал о покупке имения, намеревался бросить Академию, а пока что болел и злился оттого, что должен был ехать лечиться в Германию.
В это время умер Немчинов, муж Валентины Семеновны. Она тосковала, живя в Сябринцах, и Серову пришлось поехать к ней, разделить ее одиночество. Сам он начал было писать ее портрет, но ничего не вышло. Она разрыдалась, увидев на себе его взгляд, взгляд не сына, а художника, пытливый и острый, старающийся проникнуть в сокровенное, в то, чего она не хотела открыть даже ему.
Было решено ехать за границу, развлечься, послушать новые оперы Вагнера. Серов с радостью согласился сопровождать мать. Он даже отложил поездку в Одессу к Ольге Федоровне, по которой очень тосковал. Она была уже его невестой, но мысль о женитьбе жила где-то рядом, ни разу не вторгаясь в мысли об искусстве, не становясь на их пути.
Поездку за границу он не мог упустить. Предстояло побывать в Баварии и Голландии.
Он с детства мечтал посетить две страны: Испанию и Голландию. Сейчас мечта эта наполовину должна была осуществиться. Поездку же в Испанию до некоторой степени мог заменить Мюнхен. В то время Серова очень заинтересовал Веласкес. А в Мюнхене находилась одна из лучших работ этого мастера, «Портрет неизвестного молодого человека», и Серов решил заняться ее копированием.
Возможно, здесь не обошлось без влияния Репина. Репин всю жизнь восторженно относился к Веласкесу и за два года до описываемых событий специально ездил в Испанию, где в галерее Прадо копировал картины Веласкеса «Менипп» и «Ребенок из Валлескаса».
Веласкес был близок Серову, так же как и Репину, своим суровым реализмом, правдивостью своих образов, беспощадным отношением к натуре и, что самое главное, изумительным, непостижимым мастерством.
В середине мая Серовы уезжают из Петербурга в Мюнхен.
Опять город, в котором жили десять лет назад. Трогательная встреча с Кёппингом; старый немец умиляется, увидев «своего Валентина» взрослым, с бородкой, студентом Академии. В Мюнхене все еще живет тетя Таля с мужем. Мечтает ли она о воспитании людей идеального общества? Вряд ли… Она обзавелась собственными детьми, и, как пишет Серов, «у них превесело».
А по улицам стучат копытами все те же огромные лошади с бочонками пива, которое все те же баварцы распивают в тех же виртшафтах.
В письме невесте, написанном дней через десять после приезда, он сообщает: «Пишу я копию с Веласкеса, чудный портрет, пока идет, как будет дальше – не знаю, но работаю с энергией. Эту галерею, хотя я и был в ней когда-то, я совершенно забыл, так что она была новостью для меня – есть много, очень много интересного, хотя уступает нашему Эрмитажу. Рембрандт здесь особенно плох. Зато здесь много рубенсовских вещей, и хороших. В эту галерею хожу почти каждый день (наз. Пинакотека) и пишу приблизительно так от 10 до 3. Что значит все-таки Европа: мне, например, ровно никаких хлопот не нужно было, чтобы мне позволили копировать, а у нас там в распрекрасном Петербурге я полгода маялся, просил, умолял просто, чтоб дали копировать этого злосчастного Мурильо – и ведь так-таки не дали. Никаких трудов не стоило изъясниться с ними, дать сторожу несколько монет – и разрешение, и мольберт, и скамейки – бери холст и краски и пиши, как я сейчас же и сделал».
Серов довольно долго писал копию и был разочарован результатами своей работы. Не то чтобы копия получилась неудачной, нет, напротив, она вышла очень хорошей, но было тем более обидно, что, сделав хорошую копию, он не разгадал секрета мастерства Веласкеса. Он пытался писать «под старых мастеров», он пытался освоить в самостоятельных работах полученный урок, но работы эти выходили одна хуже другой. К нему пришло сознание собственного бессилия, тягостное, мучительное, и вызвало апатию, растерянность, почти отчаяние.
Надо, однако, сказать, что Серов был не прав в своем пессимизме. Для него не прошло бесследно знакомство с Веласкесом, он научился напряженно думать над создаваемым образом. Это сказалось позже. Без этого умения Серов никогда не стал бы тем Серовым, автором «умных» картин, каким мы его теперь знаем.
Полностью он, конечно, и не мог овладеть методом Веласкеса. Обладая иными чувствами, иным кругом наблюдений, мироощущением человека конца XIX века, Серов ни в коем случае не мог бы писать так, как писали мастера давно ушедших эпох. Всякая попытка должна была неизбежно окончиться неудачей.
Но Серов не понимал этого. Ему хотелось добиться той свежести, которую видишь в натуре, которая есть у старых мастеров, но которой он не видел ни у Репина, ни у кого другого из своих современников. Он чувствовал, что это необходимо, но не знал, как это сделать. Он отошел от заветов Репина и Чистякова во имя заветов Возрождения и XVII века, но, растеряв, как ему казалось, одно, не смог приобрести другого. Ему казалось, что он уже никогда не сможет подняться над возникшим противоречием, никогда не создаст ничего талантливого.
Много лет спустя, будучи уже зрелым и всемирно известным художником, Серов много дней проведет в Эрмитаже, копируя веласкесовский шедевр, портрет папы Иннокентия X. Он сделает превосходную копию, лучшую из всех, сделанных до него и после него, копию, которую невозможно отличить от оригинала, но секрета мастерства гениального испанца так и не разгадает.
В конце июля пребывание в Мюнхене временно прерывается поездкой в Голландию, куда за день до Серова уехал Кёппинг.
Приехав в Амстердам, Серов сразу же кинулся в музеи, но они принесли лишь разочарование своей неожиданной бедностью: Рембрандта было поразительно мало, всего пять картин, из которых лишь две действительно хорошие. Много так называемых «малых голландцев», но их было много всюду: и в Мюнхене, и в Петербурге. Зато поразила его сама страна. Когда он вышел из музея, то чуть не ахнул от изумления. На улицах, за городом, на берегу моря то же, что на картинах, которым по двести – двести пятьдесят лет. Страна будто замерла. Казалось, мимо нее пронеслись годы войн, революций и ломки быта. Те же каналы и дамбы, аккуратные домики, обложенные красным кирпичом, ветряные мельницы, упитанные коровы, те же лица, те же костюмы, опрятные голландки в белых головных уборах, все эти словно ожившие Вермееры, Тенирсы, Терборхи, Поттеры, Воуверманы, это остановившееся, казалось, течение жизни, навевавшее покой и благодушие…
Вот рыбная лавка. Великолепно поблескивают только что принесенные рыбаками мокрые угри, ползут огромные крабы, судорожно вздымает жабры какая-то неведомая рыбина. А запах… запах именно такой, каким он представляется, когда долго смотришь на огромную картину Снайдерса. Тут же рядом другая лавка с кусками красноватого мяса, не разделанными еще тушами, подвешенным за задние ноги зайцем. А дальше лавки с овощами, фруктами. И всего много, и все недалеко друг от друга. Удивительно удобный, мастерски приспособленный для жизни город.
Особенно понравились ему голландки. Они напоминали ему невесту. Он часто потом говорил, что Леля похожа на голландку и внешностью, и аккуратностью, и спокойным характером. Он писал ей длинные письма о картинах, о городах, о Кёппинге, о голландских лошадках, своей неизменной привязанности («толстенькие лошадки, можно просто влюбиться»), о местечке Саардам, где Петр Великий изучал кораблестроение и где, как реликвия, сохраняется его дом, о синагоге, где произошла драма Уриэля Акосты, о котором писала оперу Валентина Семеновна. Он пишет о том, как ему здесь все нравится: голландки, дважды в неделю поливающие свои дома из особых шприцев, трущие до жаркого блеска оконные стекла, уют, тишина улиц, удобство и довольство. «Все домики до того милы внутри и снаружи, в каждом домике готов поселиться, завидуешь голландцам».
На всю жизнь остались у него приятные воспоминания об этой чужой, но сразу полюбившейся стране.
В Голландии он пробыл две недели, потом побывал в Брюсселе на Всемирной выставке, откуда вернулся в Мюнхен и с Валентиной Семеновной через Берлин и Дрезден возвратился в конце лета в Петербург.
Опять Академия. Опять опостылевшие классы и коридоры, те же натурщики, даже тот же запах… И главное, то же ученичество.
Все больше зрело желание бросить все это, уехать в Одессу, где жила Лелюшка, работала и терпеливо ждала, когда он станет художником и сможет на ней жениться. В Одессе с июня жил Врубель и тоже звал его туда. Врубель окончил работы в Кирилловской церкви, побывал в Венеции и теперь мечтал организовать в Одессе артель свободных художников, подобную тем, какие были когда-то в Италии. Серову и самому хотелось испробовать силы на самостоятельной работе, разобраться в возникших противоречиях, поставить на свои места все полученное от Репина, Чистякова, Веласкеса.
Неожиданно академическое начальство принялось уговаривать его не бросать Академию: всего несколько месяцев осталось до получения диплома, а он имеет, кроме того, все шансы еще и на получение медали и пенсионерства, его заметил великий князь – президент Академии…
Но он уныло повторял лишь одно слово: «Осточертело…»
Его не соблазняли ни диплом, ни медаль, его самолюбию не льстило благоволение великого князя. Ему нужно было быть художником. Единственным авторитетом и судьей в этом вопросе он считал Чистякова, а Чистяков еще раньше заявил, что Серов вполне постиг его систему, нарисовав более года тому назад профильный портрет Врубеля.
Результатом всех этих размышлений было то, что поздней осенью 1885 года Серов уехал в Одессу, не будучи, однако, еще уверен, что навсегда расстается с Академией.
В Одессе Серов поселился в одном доме с Врубелем и еще больше сблизился со своим академическим другом.
Серов полюбил Врубеля, быть может, потому, что они были совершенно разными. Врубель был неисправимым фантазером и мечтателем.
Будучи человеком трезвым и уравновешенным, Серов всю жизнь питал слабость к искренним мечтателям и романтикам и многое прощал им.
Кроме того, Врубель был несчастлив. Несчастье коренилось в его характере, словно предначертанное ему судьбой. Он родился несчастным и несчастным умер.
И даже теперь, несмотря на первые успехи в самостоятельных работах, несмотря на удовлетворение от фресок в Кирилловской церкви, Врубель казался несчастным.
Врубель пробовал забыться в творчестве. Он мечтал создать «Демона». «Демону» предстояло стать его трудом и мечтой на всю жизнь. Иногда он видел его так ясно, что, казалось, мог бы подойти и притронуться к его заломленным в отчаянии рукам, к его изломанным при падении крыльям.
Врубель брал какую-то фотографию и медленно поворачивал ее. Перевернутая, она становилась сказочным пейзажем. Какие-то горы, кратеры лунных вулканов, что-то не существующее на земле. В такой обстановке должен обитать его Демон…
Нельзя сказать, чтобы пребывание Серова в Одессе было очень удачным. Правда, он повидался со своей невестой, но, начав писать три ее портрета, ни одного не окончил. Артель, о которой мечтал Врубель, не удалась – они с Врубелем были плохими организаторами. Серов принял приглашение художника Кузнецова поехать к нему в имение, где написал картину «Волы», которая хоть и не разрешила его сомнений, но вполне его в то время удовлетворила. «Потел я над ней без конца, – вспоминал он после, – чуть не целый месяц, должно быть, половину октября и почти весь ноябрь. Мерз на жестоком холоде, но не пропустил ни одного дня, – мусолил и мусолил без конца, потому что казалось, что в первый раз что-то такое в живописи стало словно разъясниваться».
Этим дело и окончилось. Врубель в декабре уехал в Киев. Серов зиму прожил в Одессе. Продолжая понемногу писать начатые портреты Ольги Федоровны, написал по заказу чей-то портрет, но остался недоволен. Короче говоря, Одесса не удалась.
Весной Серов уехал в Москву, где ждала его более подходящая для творчества атмосфера абрамцевского кружка художников.
Глава III
Делай, как видишь, но пой громче.
О. Роден
Важнейшие события последующей жизни Серова, его первый творческий успех связаны с подмосковным имением Абрамцевым.
Абрамцево расположено в 57 километрах к северо-востоку от Москвы, недалеко от Хотьковского монастыря и знаменитой Троице-Сергиевой лавры.
За время своего существования это старинное имение несколько раз переходило от одного ничем не примечательного владельца к другому, пока в 1843 году не было приобретено писателем Сергеем Тимофеевичем Аксаковым.
Абрамцево привлекло Аксакова удивительными пейзажами, с холмами и оврагами, с густыми лесами, полными птиц, красиво извивающейся речкой Ворей, где во множестве водилась рыба.
С этих пор, собственно, и начинается история Абрамцева, та история, которая отличает его от десятков и десятков других барских имений, разбросанных вокруг Москвы. Здесь были написаны Аксаковым прославившие его «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука», «Записки об ужении рыбы», «Записки ружейного охотника». Сюда приезжал к Аксакову Гоголь, а потом молодой Тургенев, здесь находился один из центров славянофильского движения, активными деятелями которого были сыновья Аксакова, Константин и Иван; здесь всегда дом был полон гостей: писателей, артистов, журналистов. Аксаковское Абрамцево было одним из значительных центров общественной и культурной жизни России.
В 1851 году Сергей Тимофеевич умер. Через год умер его сын Константин.
Вдова осталась с дочерьми, старыми девами, да сыном Иваном, тоже славянофилом и поэтом. Но Иван Аксаков не имел тех свойств притягивать сердца, которые были присущи его отцу и брату. Все реже появлялись в Абрамцеве люди и наконец совсем забыли дорогу туда. Аксаковы перебрались в Москву. Абрамцево захирело.
Но вскоре новая, еще более бурная жизнь наполнила имение. В 1870 году его купил у наследников Аксакова Савва Иванович Мамонтов, крупный предприниматель, строитель железных дорог.
Абрамцево было куплено Саввой Ивановичем и его женой Елизаветой Григорьевной по той причине, что имение отца Мамонтова, незадолго до этого умершего, отошло к старшему брату и Абрамцево должно было стать местом летнего отдыха их семьи.
Они там застали аксаковскую обстановку – драгоценные реликвии русского быта сороковых годов – и старого аксаковского слугу Максимыча. Вещи они бережно сохраняют, а Максимыча оставляют управляющим.
И сейчас же начинается веселая кипучая работа по переустройству и обновлению ветхого имения. Ведутся постройки, переделки, усовершенствования.
Зимы Мамонтовы в ту пору проводили в Италии из-за болезни сына Андрея, сначала во Флоренции, потом в Риме, и там, влившись в русскую колонию, близко сошлись с Антокольским, работавшим тогда над статуей Христа, с Поленовым, который жил в Риме как пенсионер Академии художеств, с Праховыми. Там под руководством Антокольского Савва Иванович начал заниматься скульптурой, а Елизавета Григорьевна рисованием, там было положено начало мамонтовскому кружку художников, центром которого впоследствии стало Абрамцево.
В 1874 году в Рим приехала вдова композитора Серова, Валентина Семеновна, чтобы показать Антокольскому рисунки девятилетнего сына и спросить его совета: что делать с мальчиком. Рисунки были признаны талантливыми, маленького Серова решено было везти учиться в Париж, к Репину. Переезжать в Париж собрался и Поленов.
Мамонтовы познакомились с Валентиной Семеновной, смотрели рисунки ее сына, одобряли ее решение переехать в Париж, сами обещали приехать туда и пригласили по приезде в Россию, не церемонясь, заезжать к ним в Абрамцево.
В Париже знакомство это укрепилось. Тоша Серов был уже учеником Репина, и Репин предсказывал, что Серов будет настоящим художником. Уезжая в Россию, Мамонтовы взяли с Валентины Семеновны слово непременно быть их гостьей. Самые настойчивые приглашения получил, разумеется, и Репин.
Валентина Семеновна сдержала обещание. В 1875 году, вернувшись в Россию, мать и сын Серовы остановились в Абрамцеве. Таким образом, Серов оказался едва ли не первым из русских художников, нашедшим приют в семье Мамонтовых.
Сыновья Мамонтовых вспоминают, что Антон (Мамонтовы вслед за Репиным стали называть его этим именем) был в то время мешковатым мальчиком, на вид лет десяти-одиннадцати, одетым в черную тирольскую курточку, на которой белел чистый, выпущенный наружу отложной воротничок.
Скоро, однако, вся эта европейская респектабельность слетела с Антона. Первое, что поразило его по возвращении в Россию, которую он совершенно не помнил, это обилие еды, подававшейся у Мамонтовых по нескольку раз в день. После скудных европейских обедов это казалось чем-то просто невероятным, каким-то пиром сказочных чудовищ. Но он очень скоро привык к обилию яств и даже после обеда бегал с Сережей и Андрюшей Мамонтовыми на огород грызть сырую морковку.
Он стал их коноводом. Ни одна игра, а более того, ни одна шалость не обходилась без его участия. Он коротко сошелся не только с детьми Саввы Мамонтова, но и с их двоюродными братьями, детьми Анатолия Ивановича Мамонтова, и они развлекались все вместе.
Но больше всего его заинтересовали в Абрамцеве лошади. Он быстро перезнакомился со всеми конюхами и кучерами и вечно торчал около лошадей, выучился отлично ездить верхом, подходил к лошадям смело, и они слушались его.
Он как-то признался своим новым друзьям, что мечтает найти клад и завести конюшни, где были бы лошади всех пород мира: и арабские, и русские, и шотландские. А он бы только и делал, что ездил на них и рисовал их.
Первое время он в Абрамцеве действительно много рисовал лошадей с натуры и по памяти, но потом совсем забросил всякое рисование. Требования его превысили его мастерство. Этот десятилетний мальчик хотел совершенства, но чувствовал свое бессилие. Он уничтожал свои рисунки, а потом и совсем перестал рисовать.
Это было тем более легко, что в Абрамцеве шла развеселая жизнь, художников там еще не было. То и дело устраивались пикники, поездки на плотах по речке Воре, катание на лодках, ужение рыбы. Он впервые наслаждался радостями жизни. Радость, однако, продолжалась недолго. Осенью Валентина Семеновна увезла сына в Петербург. Потом Серовы уехали в Киев к Немчинову, и только спустя три года, в 1878 году, Серов опять появился в Абрамцеве, на сей раз уже как ученик Репина, поселившегося в Москве.
К этому времени Савва Иванович успел создать кружок художников, о котором мечтал со времени поездки в Рим.
Первым в этом кружке оказался Неврев, старинный друг Саввы Ивановича.
Неврев приезжал в Абрамцево ненадолго, но часто, и без него не обходилась ни одна почти затея кружка.
Поленов и Репин появляются у Мамонтовых в 1876–1877 годах. Ежегодно приезжает из-за границы и гостит в Абрамцеве Антокольский. Таким образом, опять, очутившись в Абрамцеве, Серов попадает в ту художественную атмосферу, которая способствует его работе.
Зимой он живет у Репина, посещает вместе с ним московский дом Мамонтова на Садово-Спасской, летом – вместе с Репиным в Абрамцеве или в близлежащих селах: Хотькове, Репихове, Быкове. Здесь Репин пишет «Крестный ход», «Проводы новобранца», набрасывает первый эскиз «Запорожцев». И вместе с ним, а нередко и без него гостит в Абрамцеве Серов.
«Серов, попавший к нам в семью ребенком, был для нас как родной, – вспоминает В. С. Мамонтов. – Недаром он, будучи особенно привязан к моей матери, неоднократно говаривал, что любит ее не меньше своей родной матери».
Поистине он был родным в этом доме. Он жил там месяцами. Он там озорничал вместе с молодыми Мамонтовыми и даже больше их.
«Я не помню подробностей того, когда и при каких обстоятельствах Серов… переселившийся со своей матерью в Петербург, снова появился в Москве – у меня осталось чувство, будто он постоянно проживал у нас. Все, какие ни возьми, наши мальчишеские подвиги неразрывно связаны с Антоном».
Он там болел очень опасно и очень долго, и Елизавета Григорьевна ухаживала за ним, лишилась сна, так, как если бы это был ее сын. Она разделила эту роль, да и то когда опасность, в сущности, миновала, только с Валентиной Семеновной, когда та, почуяв что-то неладное, примчалась к Мамонтовым. Елизавета Григорьевна Мамонтова была второй женщиной, подарившей ему женскую, материнскую ласку, которой ему так недоставало в детстве (первой была фрау Риммершмидт).
«Ты ведь знаешь, – пишет он несколько лет спустя невесте, – как люблю я Елизавету Григорьевну, то есть я влюблен в нее, ну как можно быть влюбленным в мать. Право, у меня две матери».
Он не мог написать невесте большего. Истина была гораздо горше: Елизавета Григорьевна была ближе ему, чем мать. Об этом говорят его воспоминания о заброшенности в Никольском, о тоскливом одиночестве в Мюнхене и Париже, о холоде в Петербурге и Киеве, воспоминания, которыми он поделился с Грабарем и по которым Грабарь писал первые главы своей монографии; об этом же говорит письмо Серова Елизавете Григорьевне, полное откровений, горьких и трогательных. Оно написано в 1889 году, то есть тогда, когда он вышел уже из-под ее опеки и стал совершенно самостоятельным человеком.
Он написал его 6 января, в день своего рождения, о женщине, его родившей: «Еще одно больное место: холодность моя к ней. Она права, нет во мне той теплоты, ласковости к ней как ее сына. Это правда очень горькая, но тут ничего не поделаешь. Я люблю и ценю ее очень как артиста, как крупную, горячую, справедливую натуру, таких не много, я это знаю. Но любви другой, той спокойной, мягкой, нежной любви нет во мне. Если хотите, она во мне есть, но не к ней, скорее к Вам. Странно, но это так. Мне кажется, Вы знаете это, Вы не можете этого не знать».
И через много лет, когда Елизавета Григорьевна умерла, Серов, этот суровый человек, некоторым казавшийся даже злым, о котором можно было подумать, что другой человек интересует его лишь как объект психологического исследования (часто оно действительно так и было), этот человек, превратившись в маленького Тошу Серова, исступленно рыдал над могилой этой необыкновенной женщины. Он переживал ее смерть острее, чем ее дети. И кажется, тогда же он, так не любивший позы и фразы, сказал: «Смерть любимого человека железным обручем сжимает голову». Но это не было фразой, это было кристаллизацией засевшей в мозгу мысли, рожденной страданием.
Итак, Серов утвердился в Абрамцеве. Но поначалу он проявил себя в мамонтовском кружке не столько художником, сколько артистом. Театр был едва ли не самым большим увлечением Саввы Ивановича. Увлечение это началось в Риме и Париже, когда только зарождался мамонтовский кружок. Сначала это были «живые картины», столь модные в то время.
Потом, когда Мамонтовы начали проводить зимы в Москве, театральные увлечения стали более серьезными. Каждую неделю в большом кабинете Саввы Ивановича за длинным столом, покрытым зеленым сукном, собирались «артисты» и происходили чтения. Читали комедии Островского и Гоголя, трагедии Шекспира и Шиллера. Главные роли исполнял сам Савва Иванович, остальные распределялись между членами кружка. Читали Неврев, Поленов, Репин и Антокольский, многочисленные родственники Саввы Ивановича и Елизаветы Григорьевны. В числе последних был, между прочим, молодой Костя Алексеев, двоюродный брат Елизаветы Григорьевны, впоследствии великий артист и режиссер Константин Сергеевич Станиславский.
Савва Иванович и в драматургии проявил незаурядные способности. Разумеется, он был дилетантом в драматургии, как и в скульптуре и в пении, но он написал несколько, по-видимому, неплохих пьес.
И то, что не только декорации и костюмы изготавливались здесь своими руками и роли исполнялись своими актерами, но и пьесы создавались на глазах у всех и в них всегда отражались события, происходившие здесь же, в то время пока писалась пьеса, придавало какое-то особое обаяние спектаклю и той атмосфере, в которой шла подготовка к нему.
Савва Иванович все больше и больше становился кумиром художников. За глаза они называли его просто Савва, и это очень шло к его широкой натуре и звучало не фамильярно, а, скорее, тепло и как-то по-свойски.
Называли его еще Савва Великолепный, вроде Лоренцо Великолепного, как называли художники Возрождения мецената Лоренцо Медичи.
Серов обнаружил неожиданно для всех блестящий актерский талант. Когда он становился артистом, он преображался, с него словно ветром сдувало угрюмость. Он так умел перевоплощаться, что присутствовавшая на спектакле Валентина Семеновна не узнала своего сына. Впрочем, для нее-то не был неожиданностью этот талант Тоши. Она знала, что он унаследован от отца. Когда Тоша был еще маленьким, Александр Николаевич иногда «представлял» ему по его просьбе то старуху, то гориллу, причем так натурально, что Тоша пугался, прятался у матери. А потом сам Тоша подобным образом забавлял детей Репина.
Играл Серов очень охотно, особенно комические роли. Когда ставили гоголевскую «Женитьбу», он играл одного из женихов, отставного моряка Жевакина, и одновременно роль извозчика, произносящего за сценой несколько слов. У него вообще была какая-то слабость к голосам за сценой, звукоподражаниям и звуковым эффектам: в пьесе Мамонтова «Черный тюрбан» он ржал конем и ворковал голубком. В другой пьесе Мамонтова, «Царь Саул», он кричал за сценой голосом великана Голиафа, причем кричал так, что одновременно слышалось эхо, повторяющее последний слог каждой фразы.
Он был блестящим импровизатором и любил изображать различные «типы» московской жизни. Особенно удавался ему извозчик, уговаривающий барина «прокатить за гривенничек». Страстный любитель животных, он и здесь, так же как у Репина, мог изобразить льва со всеми характерными повадками этого зверя, лошадь, роющую землю.
Это было чудесное время в кружке, время расцвета замечательных талантов, время беспрерывного веселья и дружеских шуток…
В Абрамцеве Серов познакомился с Виктором Васнецовым, и знакомство это сыграло значительную роль в его художественном развитии.
Летом 1883 года, когда Васнецов работал в Абрамцеве над фризом «Каменный век», заказанным ему Историческим музеем, Серов очень увлекся его работой.
Картина Васнецова была чем-то совершенно новым в русской живописи, чем-то совершенно не похожим на все, что знал Серов до этого: ни на Репина, ни на Чистякова, ни на «стариков».
В это время Серов был уже учеником Академии и зимы проводил в Петербурге, но летом он опять работал с Репиным в Хотькове, опять гостил у Мамонтовых, опять становился членом огромной, веселой, талантливой абрамцевской семьи.
Все лето 1883 года Серов жил под обаянием работы Васнецова. Он неотступно следует за ним, он старается понять секрет этой так по-новому поразившей его живописи. Он всячески стремится помочь художнику, быть ему полезным хотя бы тем, что становится его натурщиком.
Сохранилось несколько подготовительных рисунков Васнецова к «Каменному веку», на которых изображен обнаженный Серов в различных положениях, какие Васнецов думал придать героям своей картины.
Таким образом, после Репина и одновременно с Чистяковым нечто совсем на них не похожее, совсем другое – Васнецов – заняло мысли Серова. На время Серов растерялся, словно бы утратив почву под ногами. К счастью, это состояние, довольно естественное для начинающего художника, продолжалось недолго. И урок Васнецова не прошел для него впустую, он сумел найти его рациональное зерно, сумел понять, в чем состоит процесс работы над исторической картиной, процесс, в результате которого порой знаниями, порой интуицией художника восстанавливается картина далекого прошлого с такой реальностью, что зритель верит ее художественной правде. Этот опыт очень пригодился Серову впоследствии, во время его работы над историческими композициями.
Но все же Чистяков берет верх в душе Серова. Помогло этому то, что зима 1883/84 года была отмечена особенно тесной дружбой с Врубелем, работой над «Натурщицей в обстановке Ренессанса», спорами в квартире Симоновичей.
И следующим летом, в 1884 году, наблюдая завершение работы над «Каменным веком», Серов хоть и восторгается по-прежнему картиной Васнецова, но уже более трезво и более осмысленно глядит на нее. И, отмечая преимущества чистяковской системы, пишет невесте: «Сейчас буду хвастать: рисовали мы, Васнецов и я, с Антокольского, и, представь, у меня лучше. Строже, манера хорошая и похож, если и не совсем, то, во всяком случае, похожее васнецовского. Антокольский хвалил, особенно за прием – это последнее меня очень радует, что прав Чистяков и его манера (это передай Дервизу)».
Летом 1884 года Серов много рисовал в Абрамцеве, пользуясь любым удобным случаем: согласилась позировать родственница Мамонтовых Якунчикова на коне в костюме амазонки, заснул на стуле мсье Тоньон, домашний учитель, или приехал Антокольский.
А если нет никакого случая сделать портрет, он идет в конюшню и рисует лошадок – страсть к ним не остывает: он делает исключительные по тонкости и изяществу рисунки лошадей. Чистяковская система полностью овладела им: ни один штрих не нанесен даром. Он настолько изучил лошадь, что мог рисовать совершенно без натуры. Он даже устраивал своеобразные состязания с другими художниками: предлагал по памяти нарисовать лошадь и всегда торжествовал победу. Это было немножко смешно, но это была его слабость.
Даже как-то раз, когда он приехал ненадолго к Мамонтовым – а он часто приезжал в Абрамцево или в Москву освежиться, развеяться после гнетущей обстановки Академии, – владелец московских рысистых конюшен Малютин, прослышавший, что есть такой художник, отлично рисующий лошадей, заказал ему «портреты» своих рысаков.
Серов был очень рад: сама работа сулила удовольствие – это было повеселее академических рисунков – и заработать можно.




