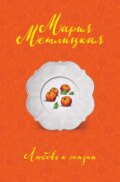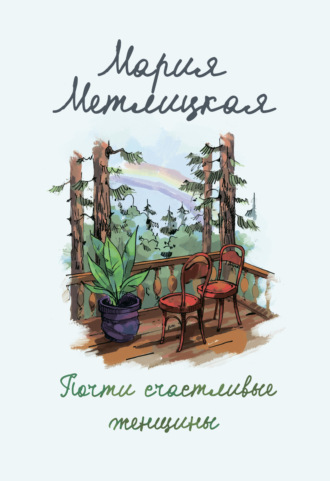
Мария Метлицкая
Почти счастливые женщины
Новая жизнь была совершенно другой, не похожей на прежнюю, провинциальную, донельзя скромную и, если по правде, невозможно скучную. Конечно, по маме и бабушке Липе Аля очень тосковала. Но спустя полгода поймала себя на мысли, что думает о них не так часто, как раньше. Раньше, к примеру, она вспоминала их по сто раз на дню. А теперь раз в три дня, не чаще. Это, конечно, ужасно. Но разве это зависит от нее? Просто та ее жизнь осталась за чертой. А эта, новая, – вот она! И, если признаться, не такой уж она оказалась плохой.
Отношения с Софьей Павловной стали другими – она к ней привыкала. Теперь это была не просто чужая, незнакомая женщина. Это была, нет, не бабушка, но и не чужой человек. Наверное, так.
Часто ходили в театры. Пару раз в месяц в ресторан, послушать Лилю и побаловать себя вкусненьким.
Гуляли по улицам, и Софья рассказывала Але про Москву.
Иногда Софью кидало в воспоминания, и она была откровенна, что-то рассказывала про свою жизнь. А Аля любила слушать. Софья рассказывала интересно, совсем не нудно, с откровенными подробностями, совершенно не стесняясь внучки.
Про деда она говорила так:
– Пьесы твой дед писал дерьмовые, все про советскую власть. Поэтому и стал знаменитым. Писал бы про другое – ты ж понимаешь! Я никогда не стеснялась и лепила ему правду-матку. Он злился, кричал, мы страшно ругались. Упрекал меня, что всеми благами я пользуюсь, а труд его ни в грош не ставлю. И был, разумеется, прав! А я, вредная, колючая, все время подначивала. Поначалу мне было его немного жаль – талант был, но он его, как говорится, продал. Продался. Хитрым был, по-своему умным – знал, к кому и какой нужен подход, с кем подружиться, кому выразить восхищение. А я была гордой и за это его презирала! Хотя его можно было понять, а вот меня – вряд ли. Правда, если ты такая гордая – откажись! Если презираешь – уйди и не пользуйся! А я пользовалась, всем пользовалась. Насмехалась над ним и ни от чего не отказывалась!
Жили мы весело, бурно, такой бесконечный праздник, шумный и бестолковый, но спасительный – не было времени задуматься. Бесконечные гости, премьеры, курорты, заграничные поездки, морские круизы. Ты можешь себе представить – в шестьдесят пятом году своими глазами увидеть Рим и Париж? А круиз по Дунаю? Магазины, тряпки, обувь, украшения. Рестораны! Красивая жизнь, да?
Про быт я не думала – какое! Кружилась по жизни, как в вальсе, иногда переходя на фокстрот.
Мы подходили друг другу – ему нравилось, что его сопровождала красивая, умная и остроумная жена, а мне… Мне нравилось все остальное. Ну и как такая легкая и чудесная жизнь могла быть не по нраву? – Софья Павловна замолчала, задумалась. – Нет, ты не думай, что все было безоговорочно прекрасно. Дед твой любил красивых баб и заводил романы. Я быстренько наводила справки. Как правило, все было довольно безопасно: замужние женщины, жены успешных мужчин. Романчики легкие и необременительные, так, для «развлечься».
Я успокаивалась – сто раз такое бывало, пройдет и в сто первый. И никуда он не денется – вот кому это точно не надо! Но пару раз испугалась.
Отпраздновали его пятидесятилетний юбилей, и он как с цепи сорвался – в этом возрасте такое бывает. Увидев его избранницу, я удивилась – все его прежние дамы были женщинами яркими, броскими, с бурным прошлым.
А здесь? Здесь была скромная врачиха из литфондовской поликлиники – тридцатипятилетняя серая мышь. Вернее, мышка. Маленькая, худенькая, с узким и бесцветным личиком. Если приглядеться и включить всю доброжелательность, довольно милая, но очень неброская, знаешь, как говорится, вызывающе скромная.
Врачиха была вдовой и растила сына одна. Жила где-то у Кольцевой, в маленькой квартирке, с пожилой мамой.
Ну и представь – тут такой экземпляр! Известный, богатый да к тому же и очень фактурный мужчина! Смешно упустить подобный шанс.
Сначала я наблюдала. Встречи по выходным, мне было забавно наблюдать за неверным муженьком – собирался он с особенной тщательностью: новый костюм, итальянские ботинки, белая рубашка. Поливался одеколоном так, что приходилось проветривать. Видела, что нервничает, и это меня удивляло.
Два раза в неделю он встречал свою пассию после работы – наивный! Мне тут же докладывали! Медсестра из поликлиники, билетная кассирша, моя старинная приятельница, – мой муженек брал у нее билеты в театр.
Ну и просто знакомые, случайно встречавшие наших влюбленных.
А я все посмеивалась: седина в голову – бес в ребро. Ничего, перебесится! Сколько раз такое бывало. Но приятно, как понимаешь, мне не было.
А один звонок окончательно вывел из равновесия. Мне позвонила моя знакомая, жена одного киносценариста. И предложила встретиться – по очень важному делу. Я долго раздумывала – сплетни в нашем кругу крутились давно, я все знала и выслушивать чьи-то советы совсем не хотела.
Но на встречу все же пошла.
Ирина – так звали ту женщину – была очень серьезна.
– Софья, милая, – сказала она, – поверь, что здесь все непросто! Лева так смотрит на эту! Я видела их в ресторане и обалдела! Здесь, извини, любовь, я уверена.
Не могу сказать, что я испугалась, но взяла под контроль.
А через два месяца твой дед сообщил, что в Варшаву едет один, без меня. Такого еще не было, мы всегда ездили вместе. Ну я и узнала – он едет с врачихой, с этой бледной немощью. И это, признаться, меня испугало.
Надо было действовать. Но как? Идти в партийную организацию? Нет, это был не мой метод. Попробовать его испугать?
И я сказала, что все знаю и иду с заявлением в парторганизацию. Ему-то ничего особенного не грозило – ну влепят выговор, пожурят да и отпустят. А вот его пассия однозначно потеряет работу – вылетит как миленькая, там такие шутки не проходят.
Именно этого он испугался. Он вообще был трусом, впрочем, как и все мужики. Умолял меня этого не делать, пожалеть ее и его.
Но их мне точно жалко не было. К тому же моя жизнь терпела крах – твой отец окончательно сорвался с катушек, пропадал по неделям и месяцам, превращаясь в окончательного бомжа. Потом пару недель «отмокал», отсыпался, мылся, брился, отъедался и приходил в себя. А дальше как по сценарию – придя в себя, он крал из дома какую-то вещь и пропадал.
Разумеется, я убирала все драгоценности и деньги хранила у Маши. Всякую чепуху вроде вазочек или посуды мне было не жаль – да и всего было полно, твой дед постарался.
Но мой милый сынок умудрялся выносить что угодно – постельное белье, отцовскую шапку, часы, картины, книги – все, что можно было продать и пропить.
С этим я давно смирилась. Если с подобным можно было смириться… Лечить его было нельзя – он отовсюду сбегал и от всего отказывался. Боялась я одного – чтобы он не привел в дом сожительницу. Такое бывало, приходилось привлекать милицию.
К тому же я серьезно заболела – обнаружилась опухоль в груди. Все объяснимо – переживания не проходят даром.
Мне сделали операцию, все оказалось плохо, однако не смертельно – опухоль удалили вместе с частью груди. Но метастазов не было, я могла жить.
Итак. Мне сорок семь. Что я имею? Язву желудка на нервной почве. Полторы сиськи (к слову, вскоре после смерти сына отрезали и вторую). Ненавидящего меня мужа – страх и ненависть читались в его глазах. И совершенно пропащего сына – алкоголика, наркомана и вора.
И все это я получила по заслугам. Так я считала.
А потом он привел в дом твою мать. Нет, я ничего не имела против. Хорошая, скромная девочка, таких у него не было – даже странно, как ему такая попалась. Только зачем она ему? В то время он пил, но законченным алкоголиком все-таки не был – пока только пьяницей. Работать не хотел, но все же работал – вяло, слабо, но на работу ходил. Правда, увольнялся быстро, максимум через пару месяцев. А то и недель. Куда только мы его не пристраивали! Но я еще на что-то надеялась. Итак, жена, семья.
Я видела, что твоя мать страдает. Говорила ей, что с ним надо строже, что только ее он послушается. – Софья Павловна махнула рукой. – Какое! Но твоя мать – извини! – умела только плакать и страдать. Он тут же это понял и стал плевать и на нее. Ни в грош ее не ставил, делал, что хотел. Пил, гулял, приходил выпачканный в помаде, телефон обрывали девицы, а она все рыдала. Умоляла его одуматься, подумать о семье. Да не о чем говорить, я давно поняла – его не исправить. А потом родилась ты. Я была в своих проблемах: наркоман и пьяница сын, гулящий муж, ну и моя непростая болезнь и вторая операция.
Все развалилось как карточный домик: была счастливая жизнь – и тю-тю! Нет, не счастливая – беззаботная, легкая и веселая. И я посредине этого землетрясения и кошмара – стою и не понимаю, как дальше жить. Просто не понимаю. А за стеной рыдает чужая несчастная женщина и орет грудной младенец. А мне не до них, я сама еле жива. Я не оправдываюсь перед тобой, Аля! Просто объясняю, почему так все сложилось.
Аля смутилась – она не знала, что сказать. Она была совершенным ребенком, наивным, провинциальным, с трудом способным привыкнуть к новой, непонятной и незнакомой жизни, привыкнуть к чужому, по сути, человеку, внезапно ставшему ей единственно родным и на деле спасшему ее от ужасного будущего. Она не привыкла к подобным разговорам, но ценила, что Софья Павловна разговаривает с ней как со взрослой.
Чувства к Софье Павловне – а про себя она по-прежнему называла ее именно так – были разными: и благодарность, и страх, что вдруг та передумает, устанет от чужого ребенка и отдаст ее обратно. Она переживала оттого, что Софье Павловне приходится с ней столько возиться и столько на нее тратиться. И осталась обида, конечно, осталась – за маму, которую Софья Павловна не защитила или не захотела защитить. Обида за себя – как она могла их не искать? Ей было жалко ее и одновременно не жалко. Ведь как выходило – единственного сына Софья Павловна упустила. Мужем не дорожила, жила себе как стрекоза, а лето красное закончилось. Кого в этом винить? Правда, все это она признавала и никого не обвиняла в несложившейся жизни. И ей опять становилось жаль Софью. Но иногда жалость и сочувствие сменялись злостью – а нечего было!
И отыскать она их могла, и помочь. А вот теперь, на старости лет, почему бы не заполучить готовенькую и вполне приличную внучку? А что, удобно! Будет кому скрасить одиночество. И тут же стеснялась этих неправильных мыслей – нет, все не так. И Софья Павловна абсолютно бескорыстна, какие глупости! Просто так сложилась жизнь, вот и все!
Была еще одна сложность – как обращаться к ней? По имени-отчеству? Глупо. Но назвать ее бабушкой не получалось, и все, хоть ты тресни. Обращалась Аля к ней то на «ты», то на «вы», без имени, без отчества и безо всякой там «бабушки».
Софья Павловна усмехалась, но ничего не комментировала.
А спустя полгода сказала:
– Аля, ты не мучайся! Я же все вижу! Называй меня Софья! Ну или Соня! Что, подходит? А там разберемся.
Аля покраснела как рак:
– Так не смогу, извините! – И быстро вышла из комнаты.
Все оставалось по-прежнему.
Але очень хотелось посмотреть фото отца. Но попросить стеснялась – вдруг Софье будет больно?
Однажды, когда той не было дома, решилась. На кухне шуровала Маша, которая, по ее собственному мнению, спасала Алю с Софьей.
Маша бестолково тыкала шваброй в углы, как всегда, бормотала что-то непонятное, за что-то ругала хозяйку, ворчала, роняла кастрюли и очень мешала делать уроки.
– Маша! – Аля вышла из своей комнаты. – Вы не могли бы дать мне альбом с фотографиями? Хочется посмотреть.
Маша глянула на нее как на врага народа:
– Сама, что ли, взять не можешь? Руки отсохли? – Но кивнула на комод в гостиной: – Тама возьми! А что Сонька? Не дает?
– Я не просила.
В нижнем ящике комода лежали два тяжеленных бархатных фотоальбома, темно-синий и темно-зеленый. Еле вытащила и плюхнула на стол.
Открыла. Маша выглянула из кухни, решив присоединиться.
Обтерла о фартук руки и с тяжелым вздохом присела рядом.
Аля пододвинулась и открыла альбом.
Софья Павловна, бабушка. Родная бабушка, но пока еще чужой человек.
Софья – девушка, стройная, высокая, чуть сутулится, стесняясь высокого роста. Но взгляд дерзкий, открытый, решительный и пронзительный. Длинные темные волосы заплетены в слегка распустившуюся косу, небрежно перекинутую на грудь. Узкая ладонь придерживает на груди шаль. Платье расшито кружевом – по подолу, по рукавам, по груди, стоечкой воротничок, тоже из кружев.
Тонкая длинная девическая шея. Тончайшая талия, маленькая, но пышная грудь. Вся – изящество, грациозность, статность и элегантность. Совсем молода, а в глазах бесенята. Ботиночки по щиколотку, острые мыски, пряжечка сбоку. Стоит, опершись на стул с высокой резной спинкой. Фотография студийная, постановочная. Сепия на твердом картоне, в углу золотой вязью название фотоателье.
Аля перевернула фотографию – витиеватым девичьим почерком очень кокетливо: «Сашеньке от Сонечки».
Кто этот Сашенька? Интересно.
Фотографии каких-то пожилых солидных людей в длинных платьях, сюртуках, шляпах и шляпках.
Фотография девочки лет пяти, сидящей в кресле, – кружевные панталончики, бантики, рюшечки, ленточка в кудрявых волосах, капризно поджатые губки. Пригляделась – Сонечка. Будущая Софья Павловна. Какой милый ребенок!
Софья Павловна-девица, с подругами, четыре девушки стоят в обнимку. Нежные милые молодые лица, взгляды, полные надежд. Что с ними стало, как распорядилась суровая жизнь? Революция, войны. Где эти девочки, теперь уже старухи? Все ли дожили до старости?
Фотографии молодого человека, статного, серьезного, в простой просторной блузе с пояском, в галифе и сапогах. Густые волнистые волосы, орлиный нос, строгий, даже суровый, пронзительный взгляд. Поняла – дед Лев, известный драматург. Долго вглядывалась в его лицо, пытаясь отыскать хоть какое-то сходство. Не нашла.
Потом фотографии совместные, семейные, в путешествиях и поездках. На берегу моря, у ворот санаториев, групповые и нет.
Дед величавый, выше почти всех, голова гордо откинута, прекрасные волосы, орлиный профиль и строгий взгляд.
Софья по-прежнему стройна, прекрасно одета и все норовит похвастаться длинными, пышными волосами – и так перекинет косу, и эдак. То соберет в пучок, то невзначай распустит, то небрежно заколет. Везде улыбка – широкая, радостная, во весь рот. Чудесные зубы. Длинные, немного цыганские серьги, всегда разные, густые нитки бус.
Обратила внимание, что та любила платки и шали, то на плечах, то на голове, а то искусно и ловко повязанные вокруг талии. Всегда на каблуках, любительница пышных и ярких юбок. А может, мода тех лет. Но никаких пиджаков, узких юбок и светлых блузок.
Рим, Париж, Монте-Карло. Лондон, Мадрид. Столы, покрытые белыми скатертями, поднятые бокалы. Заморские блюда. Кто мог позволить себе все это? Единицы, сливки общества. Дед с бабкой как раз и были этими самыми сливками.
Пока Аля с мамой, полуголодные и почти раздетые, нищие и обездоленные, дрожа от страха, скрывались в крохотном городке у чужого, по сути, человека, считая каждую копейку и экономя на всем, дед с бабкой наслаждались красивой жизнью. И если бы не бабушка Липа, они бы просто погибли.
Аля почувствовала, как у нее сжалось сердце. Какие же они дураки! Бедная мама боялась, что их будут искать и, не дай бог, отнимут ребенка! А они, эти «сливки», о них ни разу не вспомнили. Сплошной карнавал, карусель удовольствий и житейских радостей. Наряды, украшения, курорты, путешествия. И крошечный, латаный-перелатаный домик в Клину, на Лесной, пустая каша на ужин, сто раз перешитые платья и чиненая обувь.
И никто не вспомнил о них – ни веселая и красивая, всегда нарядная бабушка, ни строгий и важный дед. Как будто Али с мамой и вовсе не было на этом свете. Деду и бабке, праздным, нарядным и сытым, было не до единственной внучки.
Аля захлопнула альбом и медленно вышла из комнаты.
Вот и получи за свое любопытство! Вот и получи.
Легла на диван, отвернулась к стене и заплакала. Вспоминала жизнь на Лесной, нищету и убожество их скромнейшего быта, но там было другое – любовь! Там все было пропитано нежностью, заботой, любовью. «Мамочка, бабушка, мои дорогие, родные! Как же мне плохо без вас! Нет, я не променяла вас на дубленку и сапоги. Я не забыла вас, и я по вам очень скучаю. Просто разве я виновата, что все так получилось? Разве я виновата, что вы оставили меня и что она забрала меня к себе? Я ничего у нее не просила, это она сама так решила. И никогда ни о чем не попрошу! Потому что она мне чужая и никогда не будет родной».
А фотографии отца Аля так и не нашла, хотя очень хотелось. Да просто так, из обычного интереса. Просто посмотреть, похожа ли она на него, ну хоть немножко. Хотя совсем не хотелось быть похожей ни на него, ни на всех них!
Через полчаса в дверь постучала Маша:
– Чего легла среди дня? Давай пить чай.
Пошла, не хотелось ее обижать. Маша такая – обидится на пустяк и будет молчать пару недель. А Маша тут ни при чем.
Чай пили молча, вприкуску, как говорила Маша, размачивая в стакане сухую баранку и грызя карамель.
– Насмотрелась, – усмехнулась она, – ну, на фотки эти? Налюбовалась?
– Да я фотографии отца хотела найти. Но не нашла.
– И не найдешь! – в момент подхватила Маша. – Сонька все изничтожила! Прямо после его смерти. Порвала все – и в ведро! Я парочку выцепила, из рук прямо вынула! Ну чтоб на память. И ее, Соньку, понять можно. Сколько крови Сашка у них высосал – чистый вампир! А мне все же жалко папашу твоего беспутного. Хоть и дурной он был, прости господи, а все одно жалко. Жопу ведь ему мыла, нос вытирала. Я ж ему нянькой была. Все остальные-то не задерживались – сбегали: то с Сонькой поругаются, то малый достанет. А я всегда на месте. И швец, и жнец. И жалела его, и ненавидела. А злилась как, знаешь? Ну все у тебя, гаденыш, есть, то, что другие не видели. А ты? – Маша налила себе еще чаю, с удовольствием отхлебнула. – И деньги он у меня воровал, и матом крыл – всякое было.
А все равно жалко. Неприкаянный он был и, если по-честному, никому не нужный. Мать-то с отцом все по путешествиям и курортам, а он? Почитай, со мной и вырос. Какие они родители? Одно название. Я до сих пор Сашка́ вспоминаю и плачу… Красивый был и умный, но такой бестолковый! А все равно жалко – человек. И ушел таким молодым. – Маша хрустнула баранкой, всхлипнула и махнула рукой.
– А маму мою вы помните? – не поднимая глаз, спросила Аля.
– А что ж не помнить? Помню, конечно. Тихая такая девочка, скромная. Беленькая, тоненькая, большеглазая. Скромная – кушать стеснялась. Отломит кусочек и клюет, как воробей. Я Соньке сразу сказала – не уживутся! Заморит он ее, бедную! Заморит как есть. Слишком тихая она, ни слова поперек. А ему, дураку, не такая нужна. Ему бой-баба нужна, чтоб если что – по башке, по кумполу! А эта? И рот открыть не может. Он орет, пьяный, а она плачет. И ни слова в ответ. А когда ты родилась, так вообще охренел! Ребенок орет, жена плачет. Он и разоряется: ненавижу, достали! Зачем ему ребенок? Докука одна. А ей, бедной сироте, и уйти некуда. Вот и терпела, покуда руки не стал поднимать.
Врать не буду – Сонька его ругала, орала как резаная: сволочь, подонок! Милицией грозила. Да разве на собственного сына милицию позовешь – посадют! Да и стыд какой – такая семья, такой папаша, а тут сын алкоголик и драчун. Позор. Вот и скрывали. А если б не скрывали, тогда б, может, и спасли. Хотя кто знает… Бесноватый он был, Сашка. Как Сонька говорила, не-у-пра-вля-е-мый. Черт был, а не человек. Если по правде, скотина. Никого не жалел, ни мать, ни отца. Ни тебя. В меня чашки пулял, орал «отвали!». Да и женился он назло. Назло им, своим! Все пугал: вот приведу в дом невестку – поплачете! А плакала твоя мать. Да и вообще не знаю: любил ли он кого-нибудь? Мне кажется, нет. Есть такие люди – без сердца.
– Неужели, – почти прошептала Аля, – ничего в нем не было хорошего? Совсем ничего, ни капли?
– А кто его знает? Может, и было. Мать-то твоя за что-то его полюбила? Выходит, что было. А фотографию его я тебе принесу. Хочешь? Полюбуешься на своего папашу.
Аля кивнула. Снова было стыдно. Как будто воровка, потихоньку от Софьи, через Машу. А если та расскажет? Нехорошо.
Маша сдержала обещание и фотографии принесла. Всего две, больше она не спасла. Но и этих было достаточно. Одна совсем выцветшая, размытая: компания на берегу речки, расстеленное полотенце в полоску, разбросанная колода карт, бутылки с пивом. И несколько юношей вкруг. Среди них Саша Добрынин, Алин отец. Смотрит в камеру и усмехается. «Красивый, – подумала Аля. – Мокрый, взъерошенный, а все равно ничего. Большие глаза, хорошие волосы. Красивый, широкий подбородок с ямочкой – как у любимого актера Жана Маре. Руки красивые, крупные. Да, симпатичный, и даже очень. Маму можно понять. Но взгляд – странный взгляд, в никуда. И глаза отрешенные, пустые. Безжалостные глаза, жестокие».
Аля вглядывалась и никаких своих черт не находила. Хотя нет, что-то есть. Кажется, брови, разрез глаз. Но больше она похожа на маму. Та была миловидной. Тихая среднерусская красота, как однажды сказала Софья. На первый взгляд ничего примечательного, а приглядишься – и хочется смотреть и смотреть. Как свежей воды напиться.
На языке вертелся вопрос к Софье: а что же ты не смотрела?
Но ничего не сказала, трусиха.
Но, если по правде, Але было не на что жаловаться. В школе все складывалось, преподаватели были доброжелательны, девочки к ней не приставали и даже опасливо сторонились, а потом и вовсе потеряли к ней интерес – молчаливая, вещь в себе, ничего интересного. Да и ей был никто не нужен – у нее была Оля. Правда, все время точила мысль: а не бросит ли она ее, не откажется ли от нее, такой серой, скучной, неинтересной? Яркая, смелая, отчаянная и нахальная Оля – зачем ей такая, как Аля? Может, только потому, что им по дороге, они соседи?
Но однажды Аля поняла, что и у Оли нет близкой подруги – выходит, они просто нашли друг друга.
Оля частенько зазывала ее в гости. Кажется, по родителям она не очень скучала, всем была очень довольна. Или притворялась? К домработнице Даше она относилась с нескрываемым пренебрежением – что с нее взять, с деревенской дуры? Тупая как пробка.
Квартира Олиных родителей была странной – множество красивых и явно дорогих вещей, но все как-то в кучу, по углам. Словно люди готовятся к переезду. Склад, а не квартира. Например, посреди гостиной стояла огромная нераспакованная коробка. Оля небрежно сказала, что в ней сервиз, Катя притащила из Англии. Волокла как ишак, а разобрать времени так и не нашлось, не доходят руки. Возвращаясь из очередной командировки, мать отлеживается, отдыхает.
– Так и стоит заморская красота уже два года, ты представляешь? – и Оля недовольно кривилась.
На диване лежал пыльный сверток.
– Что? Да занавески! – отмахнулась Оля. – Приперли из Италии, а пошить и повесить времени нет! Ну ты представляешь? – Она презрительно хмыкала. – Мещане! Все тащат, тащат, прут отовсюду, а толку! Катя все приговаривает: «Вот когда уйду на пенсию…»
Ты представляешь? На пенсию! Через сто лет! А пока это все будет лежать и потихоньку гнить! И Валера такой же – прет всякое дерьмо, полные чемоданы. А кому это все нужно? Ведь дома их почти не бывает. До чертей все надоело! Но как только представлю, что они выйдут на пенсию… Вот тут вообще мрак, понимаешь?
– Ты по ним вообще не скучаешь? – осторожно спросила Аля.
– Я от них отвыкла. Вернее, я к ним не успела привыкнуть. Сколько себя помню, их не было. Вырастила меня Даша, она мне и мать, и отец, и воинский начальник. Да и потом, мне с ней свобода. А когда эти приезжают, сплошные окрики: «Ольга, это нельзя, туда не ходи, это не бери!» Ну и как ты думаешь? Мне это в кайф?
Странная семья. И Оля странно их называет – не мама и папа, а Катя и Валера.
В загроможденной, захламленной и, кажется, никогда не убиравшейся квартире был вечный бардак. Домработница Даша смотрела телевизор или сидела на лавочке у подъезда, щелкая семечки. Обедами здесь тоже не заморачивались – Даша попеременно жарила картошку или варила макароны. И то, и другое ели с сосисками.
Оля покрикивала на Дашу, дескать, та совсем распустилась, совсем обленилась и выжила из ума.
Но, по большому счету, всех все устраивало, обе давно привыкли и к беспорядку, и к безалаберности, и к полной, неограниченной свободе.
По вечерам Аля приходила к Оле «делать уроки». На деле никаких уроков не было и в помине – девочки садились на кухне и прямо со сковородки ели картошку с сосисками, и ничего вкуснее на свете не было. На широченном подоконнике горела настольная лампа, разливаясь неярким, теплым и приглушенным сиреневым светом. Даша им не мешала – смотрела в своей комнате телевизор.
А девочки говорили о жизни.
Очень скоро Аля поняла – у них с Олей куча общего. По сути, обе сироты, правда, Оля при живых родителях. Но им она не очень нужна. Судьбы, конечно, у них были разные. Но многое их сближало.
Однажды у Оли нечаянно вырвалось:
– Если бы у меня была такая бабка, как твоя Софья!
Аля смутилась и промолчала. Выходит, Оля ей позавидовала? Хотя у Али ни матери, ни отца.
Говорили о школе, о ребятах, учителях. Оля рассказывала про родителей. Аля почти ничего не рассказывала – про маму и бабушку было больно, про нищету неудобно, а уж про отца и его семью – стыдно. Впрочем, Оля не особенно и расспрашивала – она была не из любопытных.
Но иногда, когда все же у Али что-то вырывалось, Оля с удивлением и состраданием смотрела на нее:
– Сколько тебе пришлось пережить! А я тут еще что-то вякаю.
«У меня все хорошо, – как мантру, повторяла Аля. – У меня есть дом, своя комната. Я живу с бабушкой, а не в детдоме. У меня есть подружка! Да, у меня все отлично!» Но именно в этот момент становилось горше всего и почему-то всегда чесался нос. И она еле сдерживалась, чтобы не разреветься. Иногда не получалось, тогда она давала волю слезам.
И очень хотелось в Клин, к маме и к бабушке. Страдала три дня и наконец решилась, попросила Софью поехать навестить своих.
Та удивилась, на секунду поморщилась и кивнула в окно:
– Аля, посмотри на улицу! Погода адская! Дождь, ветер! Какая поездка, какое кладбище, о чем ты? – И, внимательно посмотрев на расстроенную и потухшую внучку, мягко добавила: – Потерпи до лета. Погода выправится – и поедем. Поверь, так будет лучше.
Аля молча кивнула – а что еще оставалось? Но обиду на Софью затаила. Думала о том, чтобы поехать самой. Страшновато, конечно, да и без спроса… Но почему-то захотелось сделать назло.
Поделилась с Олей. Та удивилась:
– Конечно, поедем! И наплевать на старуху. Тоже мне, царица полей! Поедем – и все. Точка. В конце концов, это твое личное дело! И твоя мама. И не Софье решать, когда тебе к ней ехать. Пусть вообще спасибо скажет, что ты здесь. Она-то грехи замаливает, с ней все понятно.
От Олиной решительности и резких, хотя и правдивых слов Алю коробило. Оля никому не подчиняется, на Дашу ей наплевать, Олины решения не обсуждаются. Но уехать без спроса и разрешения? Так самовольничать? Хватит ли у нее сил?
И все же решилась. Ехать собрались в воскресенье, с самого утра. По воскресеньям Маша не приходила, а Софья Павловна вставала не раньше десяти.
В шесть Аля проснулась и выглянула в окно. Софья была права – погодка стояла кошмарная. Середина апреля, а весной и не пахло. Темно-серое небо, казалось, лежало на голых кронах деревьев. Сыпал мелкий, колкий дождь. Кружа над помойкой, как ястребы над добычей, громко орали огромные черные вороны. Под деревьями грязными черными опавшими кляксами еще лежал черный спрессованный снег.
На градуснике было плюс два.
Аля поежилась и вздохнула. Отменить поездку, позвонить Оле?
«Ну вот еще, ни за что! Пусть даже Оля откажется, а я все равно поеду! – подумала она. – Не сахарная, не растаю! Просто потеплее оденусь».
Не позавтракала, боялась разбудить Софью. Взяла с собой два бутерброда с сыром и два яблока. «Горячий чай купим на станции. Или выпьем у Лены». Надела резиновые сапоги, теплую юбку и дубленку. Подумала и переоделась в куртку – на улице дождь, дубленку можно испортить.
На цыпочках подошла к двери Софьиной спальни. Тишина.
Уже на улице вспомнила, что забыла оставить записку. Но возвращаться не стала. Обойдется.
Олю ждала минут двадцать. Наверняка та проспала. А может, и вовсе передумала. С Олей такое запросто, человек она не очень надежный. Наконец Оля появилась – хмурая, недовольная, невыспавшаяся. Молча кивнула и пошла вперед.
Аля пошла за ней. На вокзале было шумно и суетно, сновали нагруженные сумками люди, носильщики кричали вечное «поберегись», зычно гудели поезда, и вкусно пахло углем и жареными пирожками.
Сели в электричку. Красные, замерзшие пальцы не сгибались. Но в электричке было тепло. Оля плюхнулась на сиденье у окна и отвернулась. Было видно, что о поездке она жалеет, но Аля ни о чем ее не спрашивала, не до того. Молчит, и пусть молчит. Аля закрыла глаза и задремала.
На сердце было черно. Она ехала в свой родной городок, где выросла и прожила больший отрезок жизни с любимыми и дорогими людьми, где было много счастья и много горя. А теперь она ехала на свидание с прежней жизнью. Станет ли ей легче? Или будет еще горше и тяжелее?
На станции выпили горячего чаю с пирожками, и Оля немного пришла в себя. На кладбище доехали на автобусе. Автобус трясся на кочках, подпрыгивал и переваливался с боку на бок.
Оля недовольно хмурилась. При подъезде к кладбищу дождь окончательно обнаглел и полил как из ведра. Оля накинула капюшон и сунула руки в карманы.
Дорожка из рыжей глины размокла и расползлась.
До места не шли – ползли. Оля что-то бурчала, а Аля не отвечала. Не до того.
– Долго еще? – раздраженно буркнула Оля.
– Не долго, – коротко ответила Аля и подумала: «Если так злишься, зачем поехала? Я бы и без тебя обошлась».
На могиле валялся старый венок – пластиковые цветы выцвели, проволока заржавела, а размокшая земля была усыпана бурыми листьями и обломанными ветками.
Покосившийся, мокрый от дождя темный крест накренился.
Фотография мамы размокла, и изображение было нечетким и неопрятным, как размокшая, блеклая переводная картинка.
Аля поправила крест, протерла фотографию, обернутую целлофаном, и вытащила из кармана маленький пластмассовый букетик голубых незабудок, заранее купленных в универмаге.
– Венок на помойку, – сказала Оля.
Аля, погруженная в свои мысли, ничего не ответила и не тронулась с места. Оля решительно взялась за венок. Аля растерянно смотрела на нее.
– Жду тебя у входа, – буркнула Оля. – А ты тут сама. – И, ухватив мокрый, тяжелый венок, поплелась к выходу.