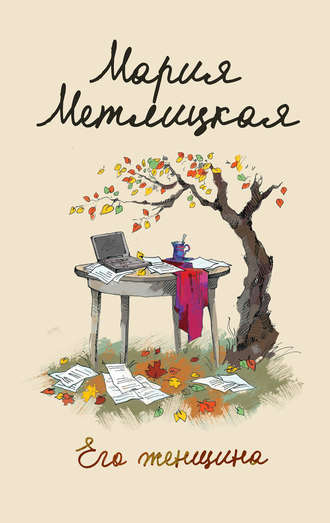
Мария Метлицкая
Его женщина
Я глянула на свои руки – длинных ногтей я никогда не носила, музыканту, тем более пианисту, не положено. Но раньше я за ногтями следила – маникюр, светлый лак. А теперь…
Я встряхнула руками, словно хотела сбросить их уродство.
Кожа… Бледная, серая, измученная кожа. А ведь когда-то у меня была прекрасная кожа, тонкая, нежная, с еле заметным румянцем и редкими, как говорил Сережа, забавными веснушками. Многие мне завидовали.
Морщины под глазами. Морщины у рта – «скобки печали».
Неужели это невозможно исправить? Я почувствовала, как холодею от страха. Значит, меня это волнует? Меня волнует моя кожа, мои руки, мои волосы? Значит, я живая? Или это не значит ничего? Так, сиюминутное настроение? А завтра мне будет опять на себя наплевать?
Я плюхнулась на диван и подумала: «Как же было хорошо, когда меня все это не волновало! Как хорошо, а главное – дешево! А тут… Даже представить страшно! Ремонт. Парикмахерская. Магазин». Как же я испугалась!
«Я не потяну всего этого. Просто не потяну, и все. Тогда – зачем? Может быть, снова в старый халат, на облезлый диван?»
Нет. Я поняла – я больше так не хочу. И не просто не хочу – не могу!
Я хочу по-другому!
Наревевшись вволю, я отправилась спать. Утро вечера мудренее. Именно завтра я начну новую жизнь.
Сквозь сон я услышала, как открывается дверь и в квартиру заходит Ника.
«Слава богу! – подумала я. – Теперь точно спать! Потому что мне теперь очень нужны силы. И еще – не дай бог, если наутро, когда я проснусь, все исчезнет – мои планы, мои дерзкие замыслы. Мое вдохновение».
Все, с нытьем покончено. И с прошлой Мариной тоже. Я вспомнила, как на меня накатило чувство брезгливости, когда я разглядела себя в зеркало.
Я намеренно губила себя, уничтожала, топтала. К своей единственной и драгоценной жизни я относилась с пренебрежением, словно проживала черновик, а набело еще успею! А не успею, так и слава богу, не очень и хочется.
Мне стало страшно. В те минуты я думала, что жизнь давно должна была на меня рассердиться, разобидеться, запрезирать и даже возненавидеть. Я совсем не ценила ее, она откровенно меня тяготила.
Утром, открыв глаза, я прислушалась к своим ощущениям – не дай бог, чтобы я оставалась прежней. Это было бы страшнее всего. Больше так жить я не хотела. Но, слава богу, впервые я проснулась бодрой, хоть и страшно перепуганной предстоящими действиями и грядущими переменами. И все же я была готова к борьбе за саму себя. А это, знаете ли, самое сложное.
Ника сидела на кухне и пила чай. На доске лежал кусок подсохшего хлеба и такой же кусок старого сыра, похожего на отломанный кусочек пластмассы.
Я брезгливо взяла его двумя пальцами и, сморщив нос, выкинула его в помойное ведро.
– Мам! – От возмущения и удивления моя дочь поперхнулась. – Ты что, совсем ку-ку?
– Почему? – весело спросила я, отряхивая пальцы. – В каком смысле, Никушка?
От моего веселого тона, от моей улыбки и слова «Никушка» – давно позабытого, разумеется, – дочь еще больше округлила глаза.
– Ты лишила меня завтрака! – возмущенно выкрикнула она. – Мам!
– Ерунда – ответила я. – Ну какой это завтрак? Кусок линолеума, а не сыр! Туда ему и место! А завтрак я сейчас тебе сделаю.
Я достала из шкафа пакет с остатками муки, из холодильника – старый кефир и яйцо, нашлась и горсточка засохшего изюма – и принялась за оладьи. Ника смотрела на меня, не отводя глаз. Она ничего не говорила, но в глазах ее явно читался испуг.
По кухне поплыл давно забытый запах свежего теста и только что смолотого кофе – запах жизни. Мы сидели напротив друг друга, пили кофе, макали горячие оладьи в густое засахаренное земляничное варенье – спасибо маме – и молчали. Дочь рассматривала меня исподлобья, но с интересом.
Наконец она решилась:
– Мам, ты в порядке?
Я громко выдохнула:
– Теперь да, Ник! Я в этом уверена. Ну почти, – нерешительно добавила я.
Дочка подошла ко мне и обняла меня за шею. И в эту минуту я точно почувствовала, что я точно жива.
На ремонт мы взяли кредит. Совсем небольшой, но иначе не справиться. Кое-что подкинула мама – у пенсионеров всегда есть заначки. Конечно, все было очень скромно и очень расчетливо – обои, клей, краски и прочее мы покупали на строительных рынках, дотошно выбирая, где подешевле.
С рабочими нам помогли родители моей ученицы. Из Брянска приехала их родня – муж и жена. За две недели сделали все, о чем мы договаривались. Эти дни мы жили у мамы.
Я словно только проснулась, очнулась от зимней спячки и с удивлением разглядывала окружающий мир. В нем было и кое-что новое – новые магазины, новая мода, новые книги и новые фильмы.
Я принялась жадно читать, проглатывая по ночам книгу за книгой.
Тогда мне попалась первая книга Максима Ковалева. Какое же это было открытие! Какое же счастье!
Конечно же, я постриглась, покрасила волосы и, кажется, помолодела. Я стала красить глаза и ногти – по счастью, у моей дочери было навалом косметики. Мне хотелось яркое платье в крупных цветах, босоножки на каблуке, сумку с блестящим замком. Сладких цветочных духов. Крупных серег и браслетов.
Мне хотелось мяса – большой, толстый кусок хорошего мяса, истекающий соком.
Мне ужасно хотелось пива – крепкого, темного, горького.
Мне очень хотелось сладкого – жирного торта с разноцветным кремом, высоких пирожных со сложным декором.
Маринованных огурцов, шампанского, ванильного мороженого.
Мне хотелось! И это было огромным счастьем. Жизнь победила. Победила меня.
Конечно, на все не хватало. Но Ника, чуть пришедшая в себя от радости за меня, тут же устроилась на работу – по выходным, официанткой в кафе. Ну и я набрала учеников. Теперь мой день был расписан почти по минутам. Еще мы купили в кредит новую кухню и диван для Ники.
Я приходила домой, плюхалась в кресло и оглядывала квартиру. Чувствовала, как на моем лице расплывается глупая и счастливая улыбка.
Свой обожаемый старый халат я все-таки выкинула, если честно, после долгих раздумий. Этот несчастный халат олицетворял мою старую жизнь – серую, заштопанную, пыльную и унылую.
И еще я снова стала готовить, да с таким удовольствием, как, кажется, не делала это раньше. Даже для своего Сережи.
По выходным я пекла пироги – с капустой, картошкой, грибами и луком. Пекла и торты – моя Ника большая сластена. «Наполеон», «рыжик», «медовик» и «сметанник». Кажется, наша квартира пропиталась запахом ванили, лимонной цедры и медовых коржей.
По одежде, которая мне стала чуть тесна, да и по отражению я видела, что поправилась – налились и округлились бедра и грудь, порозовели и наполнились щеки, гладкими стали плечи и руки.
У меня изменилась походка – я стала ходить плавнее, слегка покачиваясь, как груженая лодка, смеялась моя остроумная дочь.
– Спасибо, что не ледокол, – отвечала я.
Ника стала чаще бывать дома. С порога кричала:
– Мам! А что у нас сегодня на вкусненькое? А на основное? А на десерт?
Мы брали диски с новыми фильмами – конечно, это делала Ника – и усаживались перед телевизором. Вместе. Перед нами стояла тарелка с какой-нибудь закуской, пиво или чай, орешки и семечки.
Мы смотрели кино, переговаривались, делились впечатлениями, спорили, соглашались друг с другом или нет, но главное, мы были вместе. И мы были счастливы.
Я нашла в себе силы жить дальше. И моя дочь помогла мне в этом.
Максим
Нина появилась через год после моих бурных загулов, и началась наша семейная жизнь.
Почему я вдруг решил жениться? Да потому, что почувствовал страшное одиночество. Мне надоела бесконечная череда случайных подружек – на ночь, на две или на месяц.
Никого у меня не было. Ни матери, ни отца, ни любимой. Даже близкого друга не было – так, приятели. Петька Васильев, дружок детства, уже год как уехал на Север, заколачивать бабки.
От него пришло пара писем – тяжелой жизнью он, кажется, был доволен. «Да, пашем как негры, – писал Петька, – но и денег здесь можно заработать! Приезжай, Макс! Соберешь на тачку, на прикид, рванем на юга – а там такие девчонки! Гульнем от вольного, а? Напишешь парочку репортажей про нашу веселую жизнь! Пойдет на ура! Здесь, дружище, такие персонажи, такие экспонаты – закачаешься!»
Мне хотелось рвануть к Петьке на Север, но я все откладывал – то одно, то другое. Я понимал, что могу собрать по-настоящему интересный, богатый материал. И это было бы отличным пропуском в хорошую газету или журнал. Но я тянул, думая, что еще успею. А через полгода Петька погиб. Сидел на обочине пьяненький, и на него наехала машина, тяжеленный самосвал с прицепом. Кошмарная смерть – прицеп мотнуло и Петьке снесло башку.
Похоронили его там же, в поселке старателей. И никто на его похороны не приехал – деда давно не было в живых, а Петькины родители давно и тяжело пили, совсем потеряв человеческий облик. А я узнал о его смерти спустя пару месяцев.
Итак, я был одинок.
Наверное, сам виноват. Хотя в чем, господи? В том, что мой слабовольный папаша спился? В том, что мать никогда не любила меня? В том, что сбежал от Даши и не женился на Ирке?
Не знаю.
Нина мне нравилась. У нее был спокойный и добрый нрав и правильный взгляд на вещи. Она была взрослой. По сути своей, по природе, Нина была пуританкой, синим чулком, старой девой, которая неожиданно вышла замуж. Во всем она любила порядок, и в мыслях – в первую очередь. Она была скуповатой на эмоции, скрытной и сдержанной. В ее семье не было принято обсуждать личное – это казалось чем-то неприличным, слишком интимным. Рассудительная и мудрая Нина – это не бесшабашная и беззаботная Ирка. И я совершенно искренне думал, что именно такая женщина мне нужна. В каком-то смысле это был брак по расчету – по моему расчету, конечно. Я рассчитал, что так будет правильно. Ирка, мои постоянные загулы, череда женщин – все это меня утомило, я хотел устроенности, порядка, покоя. Только вот я не подумал, что устроенность и покой – не всегда счастье.
Что Нина будет идеальной женой, я понял в ту же минуту, когда попал к ней домой. Там царил идеальный порядок, пахло чистотой, уютом, едой. Было видно, что здесь живет здоровая, нормальная, даже патриархальная, семья, где главу семьи все уважают и немного побаиваются, где мать – хранительница очага, прекрасная хозяйка и верная подруга.
Где соблюдают семейные традиции, поддерживают семейный уклад – елка на Новый год, кулич и красные яйца на Пасху. Где большая родня вместе справляет дни рождения и другие праздники. Где непременно дети звонят родителям и навещают пожилых родственников. Где всегда помогут друг другу – деньгами, советом и делом. Где все встают стеной, если пришла беда. Где, наконец, в августе варят варенье, а осенью квасят капусту.
Мне нравилась их квартира на Власова – маленькая, но уютная, теплая. На стенах фотографии родных, в вазах – цветы. В чайнике – свежая заварка, на столе, под рушничком – аппетитные пирожки.
Меня это каждый раз поражало и радовало – мне казалось, что я наконец обрел семью.
Моя многомудрая теща учила дочь всем тем премудростям, которые знала сама. Даже в ранней молодости Нина, моя будущая жена, прекрасно готовила, отлично вязала и шила, умела планировать бюджет и грамотно экономить. Это в семье считалось совсем не зазорным.
«Нина будет моей женой! – с радостью думал я. – Как же мне повезло! Как я все правильно сделал. Нина – человек для жизни, надежный, уверенный, правильный. А ее семья – это подарок. Компенсация за мое одиночество».
Родители Нины приняли меня как родного сына. Конечно, Нина рассказала им про мою жизнь. Сначала меня пожалели, а потом полюбили. Ну или готовы были любить. Правда, через несколько лет, когда родилась Наташка, меня просто терпели. Как мужа дочери и как отца своей внучки. Никчемного мужа и никчемного отца. Никчемного кормильца и неудавшегося литератора. Помню, как теща шептала дочке:
– Ниночка! А что он там пишет? Книгу? Господи, а зачем?
Тесть намекал про вторую работу, раз на первой платят копейки! Он считал, что это нормально – пахать во благо семьи. «Мужик должен кормить семью» – его любимая присказка. Он искренне удивлялся, что я торчу дома и сижу за пишущей машинкой.
– Чего это он? – недоуменно спрашивал он у дочери.
Что они обо мне думали?
Их дочь я не ценил и не жалел. К больному ребенку был равнодушен и даже брезглив. Денег не зарабатывал и не старался.
Нахлебник и бездельник, к тому же любитель поныть, позанудствовать, поразмышлять о несовершенстве жизни. Иногда мы сцеплялись с тестем по поводу власти – он, конечно, стоял за нее, а я пытался ему объяснить, как может быть по-другому. Споры у нас были жаркие, женщины нас разнимали. Как-то теща упрекнула меня:
– Ты бы помолчал, Максим! Отец ведь психует, а тебе нравится!
Я принялся все отрицать, но она была права – мне нравилось дразнить и подзуживать тестя. Конечно, потом они меня почти ненавидели. Получалось, что эти радушные и хорошие люди встретили меня с открытым сердцем. А оказалось, что я мелкий, никчемный подлец. И уж конечно, они не могли простить мне Наташу.
Последние годы с Ниной мы жили ужасно. Унизительно, в сплошных скандалах и претензиях, которые никогда не кончались.
Когда дочке исполнилось два года, мы поняли, что девочка наша больна. Это была странная и довольно редкая болезнь, которая, увы, не лечилась. Мы мотались по неврологам, ортопедам, хирургам. Обошли всех светил и просто хороших врачей. Ездили к бабке на Украину – во что не поверят несчастные родители, когда разводят руками врачи? Дочка лежала год в гипсе. На короткое время гипс снимали, и мы возили ее в коляске. Это было странное зрелище – большая, крупная, даже дебелая, девочка сидит в детской коляске. Я страшно стеснялся ее. Да, очень стеснялся. Я видел здоровых и шумных детей, играющих в мяч или в салки, ковыряющихся в песочнице, прыгающих в «классики». И сердце мое рвалось от тоски. Я смотрел на дочь и ловил себя на стыдной мысли, что мне неловко от того, что у меня родился такой ребенок. Я понимал, что я не люблю ее. Это было ужасно.
Я называл себя последними словами, презирал, ненавидел, взывал к совести. Но ничего поделать не мог. Я так и не смог ее полюбить. Жалеть – да. А вот любить не получалось.
Я был молодым, и мне хотелось свободы. А больной ребенок сковывал по рукам и ногам. В доме говорили только о болезни Наташи, больше тем не было. А я жаждал свободы! Какой ценой? Да не важно, я об этом не думал.
Моя мать Нину не любила. Хотя чему удивляться? Моя мать никого не любила, даже меня. Но, когда я думал об этом, мне становилось страшно: кажется, история повторялась – я не люблю свою дочь.
Когда случилась беда с Наташкой, мать обвинила во всем Нину: «В нашей родне убогих не было! Значит, ты что-то делала не так во время беременности или утаила от мужа семейную тайну».
Нина этого ей не простила. И без того крайне редкое общение тут же закончилось.
Последние три года из шести мы жили ужасно. Я часто не ночевал дома – по два-три дня жил у приятелей. Поддавал. Изменял ей. Старался поскорее свинтить из дома. Из дома, где была вечная тоска, вечные крики и вечные слезы. Не знаю, кто бы выдержал это. Даже если бы на моем месте был порядочный и честный человек.
Наша с Ниной любовь испарилась, словно ее и не было. Утекла, как песок сквозь пальцы. Это и неудивительно – слишком много на нас навалилось. Точнее – на Нину. Ее мать и смотрела на меня так, что мне тут же хотелось исчезнуть.
А тут еще меня выперли из газеты за прогулы. Как говорится, одно к одному. Я пошел в школу у дома – преподавать литературу и русский язык. Детей я не любил и побаивался. Бабский коллектив меня раздражал. Педсоветы я игнорировал. Это было жуткое время. Мне тогда ничего не хотелось. Ничего. Я ненавидел каждый день своей жизни и не знал, как разорвать этот порочный круг. Мне казалось, что выхода нет. Моя жизнь уперлась в тупик.
По ночам на кухне я писал свои рассказы и повести. В один из таких черных дней я обнаружил, что теща выкинула их на помойку. Счастье, что я вовремя спохватился и бросился вниз, к мусорным бакам. Пьяненькая дворничиха теть Надя копалась в своем хозяйстве. Я рванул в зловонный отсек, где стояли мусорные баки, и начал в них рыться. Тетрадки свои я нашел, но как они пахли…
Тогда я подумал: так пахнет, а точнее – воняет вся моя жизнь.
С женой мы почти не разговаривали, разве что по делу: «Купи хлеб, снеси в прием стеклотары молочные бутылки, вынеси мусор». Я исполнял эти несложные функции, и мы опять замолкали надолго. Нина продолжала битву за дочь, а я тогда почти отстранился.
Как-то вечером, уложив Наташку, она устало сказала:
– Уходи, Ковалев! Ты мне надоел. Проку от тебя – как от козла молока. А на нервы ты мне действуешь страшно. Что у нас общего, Ковалев? Кажется, уже ничего. Так что вали!
Сказано было это совершенно спокойным и, казалось, равнодушным тоном. Потом я понял, что Нина ждала моих возражений, восклицаний, слов: «Как ты можешь так говорить?» Ждала, что я начну возмущаться, непременно обижусь: «Как это – нет ничего общего? А Наташа?»
Но я промолчал, ничего не ответил. Я ликовал. Просто трясся от счастья. Ну вот! Наконец-то! Дождался! Ведь собрать вещи и уйти самому мне не хватало силенок. Как же так, что скажут люди? Бросил больного ребенка!
Я знал, что Нина очень меня любила. Верила в меня. Сначала – очень. Потом все меньше. А потом и вовсе перестала. Да и было ей, откровенно говоря, не до меня – все силы были брошены на борьбу за здоровье дочери. А я был помехой, неудобной мебелью, вечным и бестолковым раздражителем – действительно, что от меня? Одна морока. А тут еще – покорми его, постирай, погладь рубашку. И какого черта, спрашивается? Ненужный балласт, лишняя обуза. Мы давно не спали вместе – Нина спала вместе с дочерью.
Она сделала все правильно, моя жена. Без меня ей станет легче.
Я смотрел на ее измученное лицо и вспоминал другую Нину – ту, которую я любил. Умную, серьезную, терпеливую, едкую, остроумную, теплую и родную, готовую за меня в огонь и в воду.
В ее нескончаемое терпение и вечную любовь я верил, конечно, наивно. Нескончаемого терпения нет. Все кончается и проходит. Нина правильно сделала. У нее сил хватило. А я, как мелкий и подленький нашкодивший трус, пытаясь скрыть радость, торопливо собирал свои вещички.
Я часто вспоминал наши скандалы. Вспомнил, как Нина боялась заболеть – по больничному листу она теряла деньги, которых нам всегда не хватало. Помню, как, надрывно кашляя и сбивая аспирином температуру, бежала на работу. Я пытался ее остановить, но слышал презрительное: «А что мы будем есть? Об этом ты не подумал?» Я принимался оправдываться, потом начинал кричать, оскорблялся, и, конечно, все заканчивалось страшным скандалом. Нина принималась плакать и упрекать меня в жестокости: «Мало того что мне так плохо, ты еще добавляешь!»
Конечно, ей надоела нищета – ничего приятного и лишнего мы позволить себе не могли. А подчас не могли и необходимого. Я помню унизительные минуты, когда мы выуживали из карманов мелочь, чтобы хватило на кусок колбасы.
Помню, как увидел в ее глазах злость и обиду, когда она натягивала на ногу старый сапог, на котором в очередной раз полетела молния. Как она горько и безутешно плакала, зацепив стрелку на колготках.
А на мое наивное и глупое: «Да что ты, Нинка! Завтра купим новые! Чего ты ревешь, глупая девочка?» – зло и жестко ответила:
– Не купим! Ни завтра, ни послезавтра! Потому что нет денег даже на молоко и на хлеб. А до моей зарплаты, между прочим, еще почти неделя!
Я опять обижался. Я обижался и надувал губы, когда она принималась рассказывать про обновки подруг:
– У Зойки новый замшевый костюм, представляешь? Настоящая серая замша! Димка купил просто так, на Восьмое марта. Ленке Кочетовой муж купил новую шубу, ты представляешь? У нее еще старая вполне себе ничего, а тут… – растерянно добавляла она и тут же грустнела.
– Завидуешь? – желчно осведомлялся я. – Нехорошо. Нехорошо завидовать, Нина! Тем более подругам!
Нина смотрела на меня с нескрываемой ненавистью:
– Я? Завидую? Ну и сволочь же ты, Ковалев!
И мы замолкали на пару недель.
Я понимал: Нина еще вполне молодая и симпатичная женщина, а судьба у нее оказалась незавидной и трудной: никчемный муж, больная дочь и нищета.
Конечно, я комплексовал. Конечно, злился на жену. А злиться надо было бы на себя.
Но себя я оправдывал. Человеку же это свойственно, правда?
Верил ли я тогда в свою счастливую звезду? Навряд ли. Я не из оптимистов.
Но мне определенно нравилась моя роль непризнанного гения. Не неудачника, нет, именно гения. На все претензии по поводу денег я обиженно отвечал:
– Я пишу! Ты что, не в курсе? Я полночи писал, если ты не заметила!
Нина презрительно фыркала и хлопала дверью. Однажды не выдержала:
– Сколько можно, Максим? Ну сколько можно играть в эти игры? Считаешь себя непризнанным гением, великим писателем? Нет, ерунда! Тебе нужно одно – оправдание своей лени!
Я, конечно, обиделся, понимая, что Нина права. Уж кое в чем – точно.
Конечно, я мог бы зарабатывать больше. С большим трудом, но подработка бы нашлась. Да что угодно – почта, дворницкая, разгрузка вагонов, котельная. Но – я же писатель, я – небожитель, талант.
Нина злилась, скандалы учащались. Раздражение накапливалось и выплескивалось через край. Бедность всегда унижение. В этом я абсолютно уверен. Бедность и нищета – это невозможность осуществить свои планы, реализовать мечты. Бедность не смиряет – она раздражает и портит характер, загоняет человека, как волка, в капкан.
Бедность и долги. А у нас всегда были долги, всегда. Мелкие, пустяковые и от того еще более унизительные. Средненькие, но такие же пошлые. Большие, безжалостно давящие и не дающие спать по ночам.
Мы занимали у одних и перезанимали у других, чтобы отдать в срок. А скоро нам стали отказывать – слишком хлопотно было иметь с нами дело.
Я не помогал жене по хозяйству, бравируя тем, что неприхотлив. А на деле все было иначе. Я требовал горячий ужин и возмущался, если к макаронам не подавалась котлета или сосиска.
Я не мыл посуду, не подметал пол. Редко, после очередного скандала, тащился в магазин, но там впадал в полный транс и ступор от растерянности.
Отношения с тещей испортились окончательно. Давно прошли те времена, когда мы с ней ладили. Я понимал, что она меня ненавидит. Но я был обязан терпеть! Она помогала с Наташей. А я раздражался, корчил рожу, не выходил к ужину, демонстрируя всем своим видом свою неприязнь.
А ведь был обязан терпеть. Не комментировать. Не насмехаться. Как ни крути, а на ней многое держалось. Без ее помощи мы бы не справились.
Я был плохим мужем, нищим и бестолковым. Я был равнодушным отцом, неласковым и холодным. Я был сволочью, что говорить! Единственное, что хоть кое-как оправдывало меня, я был молод.
Я понимал Нину.
В прошлом мы очень любили друг друга. Мы были не только пылкими любовниками, что совсем несложно в молодые годы, но и большими друзьями. Мы читали одни и те же книги и любили одну и ту же живопись. Мы могли говорить до утра, и нам никогда не было скучно друг с другом. Мы могли подолгу молчать, и это нас не удручало. Мы грустили и расстраивались по одним и тем же поводам и радовались одним и тем же вещам. Мы невыносимо скучали друг по другу – даже расставаясь на пару часов. Я ждал ее у работы, чтобы поскорее обнять.
Но – это было давным-давно, в начале нашей совместной жизни.
Поэзия, как известно, в браке быстро кончается и начинается проза, суровая, жесткая, безжалостная.
Я был неудачником. Мы были бедны. У нас был больной ребенок. Мы оба были несчастны. Достаточно, чтобы все развалилось?
И еще – кончилась наша любовь.
Можно ли было что-то исправить? Наверное.
Но мне хотелось только одного – поскорее сбежать.
И поскорее начать новую жизнь. Она же будет прекрасна, думал я.







