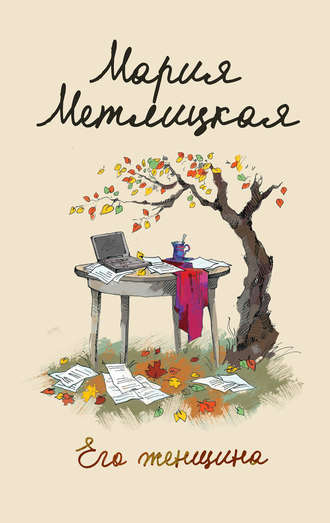
Мария Метлицкая
Его женщина
Так сложилось, что за столом мы оказались рядом. Хозяйка квартиры, вездесущая и ловкая Оля Рошаль, наверняка нас «подсадила». Весь вечер поглядывала на нас, отслеживала. Оля – умелая сваха. А я не возражал. Я строил из себя джентльмена, ухаживал за своей приятной соседкой с большим, надо сказать, удовольствием. И она не возражала – я это видел и чувствовал.
С вечеринки ушли мы вместе. В гости ее я, по вполне понятным причинам, не приглашал – ее встреча с Вованом и Райкой в мои планы не входила. И она не приглашала – впрочем, я ничего про нее не знал – замужем, живет с детьми, с родителями?
Вечер был чудным – с легким морозцем, пощипывающим носы, с медленно и плавно летящим крупным снегом – красота! И к тому же погодка явно способствовала романтическому настроению. Говорила она мало, по делу и без глупостей, что особенно ценно. Никаких дурацких кокетливых смешков, закатывания глазок – что и в молодые-то годы меня раздражало, а уж сейчас, в зрелости…
Девочку она из себя не строила – сказала коротко и скупо: «Живу с сыном, формально замужем, но это не так. Работаю много, но работу свою люблю. Содержу родителей-пенсионеров». Про мужа, находящегося в психушке, она ничего не сказала. И про то, что несколько лет ездит к нему, возит продукты, лекарства и деньги врачам, обмолвилась не скоро, через год, и то случайно. «Ни на что не жалуюсь, – улыбнулась она. И всем довольна».
Я, как известный зануда и нытик, очень ценил людей, способных находить во всем позитив. Восторгался ими, зная, что на подобное сам не способен – сколько хочешь тренируйся, читай умные книги, прислушивайся к церковным канонам и заповедям, что уныние – страшный грех.
Я проводил ее до дома, и мы распрощались. Она оставила свой телефон, чему я очень обрадовался. В ту ночь я не спал – смотрел в окно, наблюдая, как падает мягкий, пушистый снежок. На душе впервые было благостно и спокойно. Даже мои извечные творческие муки куда-то отступили и на время оставили меня в покое. Помню, что заснул я с улыбкой.
Я позвонил Галке на следующий день и, признаюсь, волновался как мальчик. А она была все так же сдержанна и вполне доброжелательна. Согласилась на встречу в тот же вечер – мне это понравилось: не ломалась, не набивала себе цену – вела себя как умная взрослая женщина, к чему терять драгоценное время?
Мы сидели в кафе, что-то ели, пили кофе и белое вино.
На улице она посмотрела на меня испытующим взглядом – с легким прищуром и чуть заметной улыбкой.
– А может, ко мне? Сын у моих стариков – каникулы.
Я только поспешно кивнул, боясь, что она передумает.
Мы взяли такси и всю дорогу молчали. Я осмелился взять ее за руку, и руки она не отняла.
После всего, что произошло – а это было прекрасно, – она потянулась за сигаретой, перегнувшись через меня, и, усмехнувшись, спросила:
– Ты удивлен?
– Чем? – Я сделал вид, что не понял вопроса.
– Да всем этим. – Она обвела взглядом кровать.
Я помотал головой – дескать, о чем ты?
– Знаешь, – тихо продолжила Галка, крепко затянувшись, – мы ведь не дети, верно? И времени на эту лабуду, типа свиданий, букетов и лимонада с пирожными, у нас не так-то много. К чему корчить из себя недотрогу? Мы ведь оба этого хотели.
– Ты совершенно права! – жарко откликнулся я. – Ты настоящая женщина. И все эти глупые атрибуты… К чему нам они? И что они изменят?
Я испугался, что за этим монологом последует ее: «Не думай обо мне плохо. Я не такая. Так – только с тобой. И в первый раз, поверь!»
Но слава богу, ничего этого не последовало – она просто легла на мое плечо и быстро уснула.
Я был поражен – обычно так поступают мужчины. И эти вечные женские обиды – а понежничать? А поговорить о любви? О нас с тобой, о совместных планах? Где-то я вычитал, что мужик так устроен – после хорошего секса он засыпает. Что-то там с гормонами, а не с безразличием и равнодушием. А вот дамам надо поговорить – проговорить, так сказать, все произошедшее. Услышать подтверждение, что ты ее любишь, что она тебе стала еще дороже.
Спала Галка крепко и спокойно. Не спал я – рефлектик и идиот. Это мне, а не ей хотелось поговорить о любви. Я боялся утра – утром всегда сложнее. Но и утром она меня не разочаровала – выглядела свежо, не вскочила спозаранку, чтобы навести марафет и сделать горячий завтрак – что-то вроде только что испеченных блинов или сырников.
Она сладко потянулась, выгнулась по-кошачьи, провела пальцем по моему лицу и, не открывая глаз, сказала:
– А кофе в постель? Тормозишь! – И тут же открыла глаза и засмеялась чудесным и звонким, девичьим смехом.
Я только развел руками:
– Не знаю, где у тебя кофе, прости! Но обещаю исправиться!
Ей надо было спешить на работу – впереди был Новый год, и дамы торопились навести марафет. Она быстро оделась, вскипятила чайник и нарезала хлеб и сыр. Торопясь, на ходу, мы выпили кофе и выскочили за дверь. Внизу стояла ее машина. Вела она смело, умело и ловко. У метро я вышел. Мы ни о чем не договаривались – просто помахали друг другу рукой. Весь день я мучился – мне казалось, что для нее эта ночь была чем-то незначительным, привычным, рядовым. И мне было тревожно и обидно. Слишком прагматичной, слишком уверенной, слишком прозаичной показалась мне эта история.
Стало немного не по себе.
Галка позвонила мне тем же вечером и тихо сказала:
– Спасибо тебе!
Я смутился:
– О чем ты?
– Спасибо! – настойчиво повторила она. – Ты был так нежен, так осторожен. Поверь, пойти на это мне было непросто! Совсем непросто, но… очень хорошо!
Я чувствовал, как жар волнения и нежности, благодарности и радости заливает меня с макушки до пят.
– И тебе… спасибо, – хрипло ответил я. – Ты была… замечательной!
С того дня и начался наш роман.
Мы не теряли напрасно времени – встречались почти каждый день. Пару раз посидели в кафе и даже сходили в кино. Правда, фильм не досмотрели – она наклонилась ко мне и шепнула:
– Слушай, мы дураки! Зачем мы теряем драгоценное время? Тем более на такую вот чушь! Пошли, а? И побыстрее!
Я кивнул, и мы стали пробираться сквозь ряды.
Уже дома, чуть выдохнув, она сказала:
– Ну? И кто был прав? А ты бы и не решился, верно?
И мне оставалось только кивнуть – она все равно все понимала, моя Галка. Хотя никто не обязан понимать другого всегда – ни мать дитя, ни отец сына, ни муж жену и наоборот. Ведь кроме понимания важно еще и ощущение того, что человек, который рядом с тобой, тебя чувствует, даже если не понимает.
Сошлись мы довольно скоро – через полгода после первой встречи. Быстро стало ясно: нам вдвоем хорошо.
Тогда еще был жив Галкин муж, и расписались мы только после его смерти. Гера жил у ее родителей – она много и допоздна работала и уследить за ним не могла. Но каждые выходные его навещала или забирала к себе.
Я так и не привык к пасынку – я его не растил. Когда он находился у нас – точнее, у себя, в квартире его матери, – то сидел у себя в комнате или болтался во дворе.
Было видно, что нами он тяготится и стремится поскорее вернуться к бабке и деду.
Ко мне, как мне казалось, он был вполне индифферентен – в разговоры не вступал, вопросов не задавал, а на мои отвечал коротко и скупо. Но и я не стремился к близости – меня это вполне устраивало.
Правда, однажды у жены проскочило:
– Тебе были выгодны такие отношения с Геркой – меньше спросу и меньше ответственности!
Она была права, но я сделал вид, что немного обиделся.
Хорошим отчимом я не стал. Впрочем, и отцом я был никудышным. Да и вообще я понял, что отнюдь не чадолюбив. Что уж поделать. Наверное, я был слишком погружен в себя, слишком много думал о неудавшейся карьере и нескладной судьбе.
Я был эгоистом и никогда этого не скрывал.
Опять растекаюсь мыслью по древу! Это моя, так сказать, профессиональная и человеческая особенность. За это меня ругает редактор, моя дорогая Лариса.
Все, все! Все. Я начинаю работать!
Марина
Я очнулась и поняла, что жизнь проходит мимо, в один день. А вот отношения мои с Никой довольно быстро испортились. Я слишком рьяно и горячо включилась в воспитательный процесс. А ей, давно отвыкшей от контроля, это, естественно, не понравилось.
Я без конца цеплялась к ней, зудила и «приматывалась», по ее словам. Я так ретиво взялась за дело, что у нас начались кошмарные и постыдные скандалы. Она отвыкла от моего участия в своей жизни и воспринимала все это критически: «А, наша мама очнулась! Вспомнила о своих обязанностях!»
Я контролировала ее учебу – требовала тетради и дневник. Ника саркастически и театрально смеялась: «Наивная мама! При чем тут дневник? Это уже анахронизм, если ты не в курсе!»
Конечно, она исхитрялась иметь несколько дневников – для учителей и для меня.
Я грозила ей, что пойду в школу, – на мои угрозы она отвечала, что уйдет из дома.
Я испугалась. Цель была достигнута. В школу я не пошла, но скандалы по-прежнему затевала и сдерживать себя не могла. Это было моей ошибкой. Я словно попрекала дочь ее же несчастьем – неудачной первой любовью, ее легкомыслием и, как следствие – абортом.
К тому же мне очень не нравилась ее новая подружка Тихонова – Тишка, как называла ее дочь.
Тишка ушла из школы после восьмого класса и работала в какой-то гостинице на окраине города. Кем? Говорила, что горничной. А кем бы еще ее взяли с восемью классами образования? А что было на самом деле, не знаю. Но деньжата у Тишки водились.
Тишка была девицей перезрелой и наглой – нахально, без стеснения, курила у нас на балконе, бесцеремонно лазила по кастрюлям и в холодильник, оставляла пепельницы, полные окурков, и, кажется, чувствовала себя полноценной хозяйкой. На мою глупую дочь она действовала как удав на кролика – эта дурочка, открыв рот, с восторгом слушала басовитый голос новой подруги.
Тишка была красивой девицей, если бы не чрезмерная, не по возрасту полнота и слишком агрессивный макияж.
Я боялась всего – предполагая, какие у этой Тишки друзья, например. Моя бурная фантазия представляла, как она продает мою дочь заезжим кавказцам или чернокожим. Я залезала в Никины карманы и сумки – не завелись ли там деньги? Нет, слава богу. Хотя она могла бы их где-то прятать – например, у той же Тишки. Запросто.
Семейка у этой Тишки была тоже, прямо скажем, не фонтан – пьющий папаша и мамаша торгашка. Мамаша стояла на улице «на лотке», торговала яйцами. Я рассматривала ее из-за угла – ужасная, страшная бабища. Красное отекшее лицо, ополовиненный от зубов рот, бордовые, мужские ручищи. А как она цеплялась с покупателями!
Хотелось швырнуть ей яйца в лицо. Правда, разве это – лицо?
Тишка часто оставалась у нас ночевать. Мне, конечно, это было неприятно. На кухне стояли чашки от чая и кофе с красными ободками от помады, нестерпимо воняло окурками и резкими, убойными духами непрошеной гостьи. Бр-р-р-р!
Я оттирала чашки содой и ошпаривала кипятком. Мне казалось, что от этой Тишки можно запросто подхватить что-нибудь венерическое.
На мои вопросы и крики: «А что у вас общего? Ты же девочка из приличной семьи! Папа был бы в ужасе, увидев такую твою подругу!» – Ника демонически усмехалась и отвечала: «Лучше такая подруга, чем никакой!»
И это была чистая правда – подруг у меня давно не было. Те, кто был, давно исчезли. Вот удовольствие – общаться с вечно страдающей женщиной! А мне ни с кем не хотелось обсуждать свою жизнь, ныть и жаловаться на злодейку-судьбу. А на чем она зиждется, женская дружба? На откровениях, искренности и доверии, так ведь? Откровенничать мне не хотелось. И доверять тоже. Да и что доверять? Секретов у меня не было, личной жизни тоже. Вспоминать мою жизнь с Сережей? Нет уж, увольте! Это мое и только мое. И прошлое счастье только мое. И мое необъятное горе. У меня нет любовников. Я не интересуюсь тряпками, не люблю сплетни. Мне не нужны утешения в виде разговоров. Мне совершенно неинтересны чужие проблемы – хватает своих. Я не хочу обсуждать свою дочь – потому что мне стыдно. У меня нет свекрови – она давно умерла, царствие ей небесное! – не хоронила своего сына, бог ее пожалел. На чем будет держаться эта дружба? Не понимаю.
И вообще – от пылкой дружбы, что была в юности, у меня осталось странное послевкусие – некрасивая тогда получилась история. До сих пор больно… зарубка на сердце осталась – как ни крути.
Свою подругу Аню я обожала – умная, смелая, ловкая. Аня много читала и в отличие от меня имела на все свое мнение. Я восхищалась ею и немного завидовала – ах, мне бы так! Мне бы чуть-чуть Аниной смелости и красоты!
Я смотрела ей в рот, повторяла ее жесты, стриглась «под Аню», читала то, что читала она. И сама не замечала, как говорю с ее интонацией.
Кончилось все довольно печально – Аня, моя верная и единственная подруга, которой я так восторгалась, украла у моей мамы кольцо и деньги. Да, именно так. Мама копила, откладывала деньги на летний отпуск, отказывала себе во всем, мечтая вывезти меня на море. Деньги были в маминой комнате в старой деревянной шкатулке с репродукцией картины Шишкина «Рожь». Там же лежали и мамины «драгоценности». Ну это вообще громко сказано: обручальное колечко, которое она сняла с руки после ухода отца, пара золотых недорогих сережек, бабушкины золотые часики без браслета – конечно же, неработающие, просто память. И единственная более-менее ценная вещь – золотое кольцо с аметистом. Для нас с мамой это было богатством.
Мама, хватившись колечка и денег, стала спрашивать:
– Марина! Кто у нас был?
– Никого, – спокойно ответила я. – Никого мам, честное слово! Только Анька, и все!
– Анька? – повторила задумчиво мама – Анька, и все?
Я беспечно кивнула:
– Ага!
Мама тяжело опустилась на диван и проговорила мертвым голосом:
– Марина! Море отменяется. – И заплакала. Заревела и я. Я кричала, что моя Анька сделать этого не могла!
– Украсть наши деньги? Мама, ты что! Как ты можешь такое подумать? Анька – мой самый близкий друг и честнейший, порядочный человек!
– Тогда кто? Ты? – все тем же мертвым голосом спросила мама.
Помню, что я на маму сильно обиделась – сама небось куда-то засунула и очернила человека!
Мама перерыла весь дом. Ничего. Назавтра дом перерыла я. Все то же.
Потом я принялась вспоминать. Я готовила на кухне чай, а Анька оставалась одна в комнате. Минут десять, не больше. А разве для того, чтобы украсть кольцо и деньги, нужно больше?
И до меня наконец дошло. Как же я плакала, господи! Как же убивалась! Не из-за денег и не из-за кольца, о котором я, кстати, мечтала! Я не думала о море, которое мне снилось несколько лет. Я думала о предательстве.
Я доверяла Аньке самые сокровенные мысли и секреты. Я рассказала ей про уход отца, а это было самым болезненным. Анька охала и утешала меня.
Ну а мама вообще замолчала – тяжело переживая потерю денег и утрату нашей мечты о море.
Это случилось в пятницу после школы. Обычно на выходные мы созванивались и, конечно, встречались. Ездили в центр, ходили в кино, болтали. В эти выходные Анька не позвонила. Я увидела ее в понедельник, через два дня. Увидев меня, она слегка покраснела и нахмурилась. Я пересела за другую парту. Анька меня ни о чем не спросила. Тогда я окончательно убедилась в справедливости своей страшной догадки. Я еле высидела тот день и после уроков нашла силы к ней подойти.
– Как ты могла? – хриплым голосом спросила я. – Как ты могла?
Анька мотнула головой:
– Ты о чем, Мань? Не пойму!
Но я видела, как бегают ее глаза.
Я смотрела ей в лицо и понимала, что я ее ненавижу. Ненавижу так сильно, как не ненавидела еще никогда и никого. Даже отца, когда он нас бросил. Мне хотелось вцепиться в ее наглое и красивое лицо, исцарапать его, исхлестать. Кричать на всю улицу, чтобы все знали, что она воровка и предательница!
Но я ничего этого не сделала. Не смогла. Не смогла даже дать ей пощечину, плюнуть в ее подлые глаза. Не смогла крикнуть – горло словно перетянули тугим жгутом.
Я ничего не смогла! Я половая тряпка! Насекомое. Пыль под ногами.
А она усмехнулась и покрутила пальцем у виска – дескать, лечиться надо! И с наглой ухмылкой пошла прочь. А я осталась стоять на месте – оплеванная и униженная.
Через три месяца Анька с родителями переехали в другой район, в новую квартиру. Я слышала, как Анька хвастается новыми хоромами и приглашает девчонок в гости. Кстати! Гуляла она теперь в новых джинсах! Настоящих, синих, шикарных «Вранглерах».
Слава богу, она укатила, и мне стало легче дышать.
Все, все! Не буду. Больше не буду! До сих пор больно.
Моя карьера концертмейстера закончилась – я сломала два пальца на правой руке. Поскользнулась на мокрой ступеньке в подъезде. Я потеряла любимую работу. Я аккомпанировала певцу – немолодому баритону и хорошему дядьке. Пик его короткой известности давно прошел, и мой шеф колесил по маленьким городишкам и поселкам. Ну и я вместе с ним. Я относилась к нему как к отцу, немного жалея его. Он был женат на молодой женщине, которая, как мне казалось, была страшно рада его гастролям. В гостинице я стирала ему рубашки и отпаривала брюки – мне было неловко, что он неопрятно выглядит на сцене. Кажется, и он сам все понимал про свою молодую жену – однажды я застала его плачущим в номере.
Денег мы зарабатывали немного. Меня пару раз пытались переманить – я считалась неплохим аккомпаниатором. Но я не бросала его – жалела. После травмы у меня был один путь – музыкальная школа. Что ж, думала я. Так – значит, так. В конце концов, командировки семье не на пользу. И я довольно легко с этим смирилась, разве что поплакала пару ночей.
Кстати, Сережа тогда смеялся:
– Нашла от чего плакать, Маруся! Главное, что мы вместе! А все остальное – фигня. Просто будем видеться чаще – что, разве плохо?
В музыкальной школе я, конечно, общалась с коллегами. Почему-то мне было приятнее общаться c женщинами в возрасте. Они не хвастались мужиками, а были озабочены детьми, внуками, болячками и говорили об учениках. Молодым все это было до фонаря.
Коллеги не лезли мне в душу, понимая, как мне тяжело – у них уже был жизненный опыт. Конечно, они жалели меня – такая молодая, а уже вдова. Такая молодая, а профессию потеряла!
Нежнее всех я относилась к Тамаре Павловне – завучу нашей школы. Ей было хорошо под пятьдесят, и она все время боялась, что ее «уйдут» на пенсию. А на руках у нее был престарелый лежачий отец и взрослая нездоровая дочь. Об этом все знали.
Мы вместе ходили обедать и вместе пили кофе в комнате отдыха.
Тамара Павловна все еще оставалась красавицей – невысокая, стройная, с сохранившейся талией и хорошими ногами. У нее было гладкое лицо и прекрасные зубы. В молодости она занималась гимнастикой и фигурным катанием. Первым – почти профессионально, а вторым – по зову души.
Она была сдержанной, невозмутимой и остроумной. Говорила мало, но мысли свои выражала четко, смело и с большим юмором. Как говорится – не в бровь, а в глаз. Она ни разу не задала мне ни одного вопроса про Сережу, о котором, конечно, все знали. Но она не была любопытной. Она спрашивала про Нику, интересовалась здоровьем мамы. Говорили мы про кино, про книги, про театры.
Тамара Павловна была киноманкой и театралкой. Прекрасно знала русскую классику и современную живопись. Это она открыла мне Муху и Климта – до нее я про них и не знала.
Мы никогда не сплетничали про коллег, не обсуждали начальство, не жаловались на родню и на болезни. Мы тихо и приятно дружили.
Однажды Тамара моя заболела, и я поехала ее навещать. Вызвалась сама, не предупредив больную. И это было ужасной ошибкой. Я долго не могла себе этого простить. Дверь мне открыла девушка – если можно это назвать девушкой. Это была огромная, горообразная туша с лицом олигофрена – отечным, раздутым, бессмысленным. Крохотные, абсолютно пустые, без каких-либо эмоций глазки, крошечный, словно с лица младенца, нос. Полное отсутствие бровей и ресниц и огромный, мокрый, бесформенный, полуоткрытый рот. Волос на голове тоже почти не было – розовая кожа просвечивала сквозь утиный пух. Все это довершали огромные, раздутые ноги в шерстяных носках и байковый серый больничный халат. И это была дочь моей прекрасной, красивой, стройной Тамары.
Девушка смотрела на меня в упор – растерянно и с испугом.
– Кто там, Леночка? – услышала я голос Тамары. – Доктор?
Леночка замычала и довольно проворно юркнула в комнату.
– Кто здесь? – взволнованно выкрикнула встревоженная Тамара – Кто?
Мне бы рвануть вниз по лестнице, убежать, утечь, как меня не было. И никто бы не узнал, что это приходила я.
А я… Я не сообразила.
Я вяло откликнулась:
– Я. Это Марина, Тамара Петровна! К вам, навестить…
Молчание. А потом чуть хрипловатый, со вздохом голос:
– Марина? Ну проходите.
И я прошла. Я старалась не смотреть на Тамару. А она уже взяла себя в руки.
– Да, Мариночка. Такое вот горе. Такая, выходит, судьба. У меня и у Леночки – что тут поделать?
Я молчала. Мое горе показалось мне… Нет, не мелким и не незначительным, конечно же нет! Мое горе было бездонно, черно и вечно. И все-таки я подумала о своей Нике – вполне симпатичной, здоровой и нормальной Нике. Перед глазами пролетели наши скандалы и ссоры. Господи! О чем это я? Какие скандалы? Какая учеба и тройки? Какая там Тишка, предмет моих недовольств и страданий? Какая же это чушь, какие мелочи! Моя дочка здорова. Все! И дальше нечего обсуждать.
Я выложила на стол апельсины, бананы, конфеты и сок. И тут же сообразила – какая же я идиотка! Нужно было взять курицу, кусок мяса, сыр, колбасу, пачку масла и яйца, Тамара болела давно, недели две – пневмония. Наверняка в доме не было никакой еды.
Я всполошилась и заторопилась в магазин. Тамара меня остановила:
– Не надо, Мариночка! Спасибо, я ничего не ем – только пью чай и теплое молоко, все это приносит соседка. А Леночка всегда ест одно и то же – белый хлеб и варенье. И больше ничего, представляете? Только хлеб и варенье, – с тяжелым вздохом повторила она. – На завтрак батон, на обед и на ужин. Полкило варенья на день. Ах да, еще она любит сгущенку! Но ее невозможно достать. А наши запасы давно истощились. Вот и разнесло мою девочку – ну вы и сами видели. Леночка очень упрямая – это свойство ее болезни. И настаивать ни на чем нельзя – начинаются нервы и слезы. Вот я и смирилась. Куда деваться?
– Это… с рождения? – тихо, не поднимая глаз, спросила я.
– Да, – ответила Тамара. – Муж скрыл от меня свою семейную историю – боялся, что я не стану рожать. Его родная сестра была такой же, как Леночка. Но она жила в специальном доме, вы понимаете. А я свою дочь не отдала. Не смогла. Хотя понимала, что ждет меня впереди. Он, конечно, каялся, чувствовал свою вину. Но через семь лет ушел. Сказал: прости, я не выдержу. Слишком хорошо знаю про это.
Конечно, ему хотелось нормальную семью, здоровых детей. Я его понимаю. Совсем молодой и крепкий мужик. И у него получилось – двое прекрасных детей, двое мальчишек. И слава богу – здоровы! Он счастлив.
– А вы? – вырвалось у меня.
– Я? Что говорить про меня? Вы сами все видели. Значит, такая судьба.
Я молчала. Ну почему? Почему эта чудесная, эта прекрасная женщина и – такая судьба? Она вполне могла выйти снова замуж, родить здорового ребенка и быть счастливой! Разве нет? А Леночка жила бы спокойно в специальном интернате. Вряд ли она что-то понимает про эту жизнь. Но я, разумеется, промолчала. Это чужая жизнь и чужая судьба. А я лишь случайно, по неосторожности, коснулась чужой беды, чужого горя.
– А дома может одна оставаться? Это не страшно?
Тамара покачала головой.
– Конечно же нет! Приходит няня, хорошая женщина. Готовит ей чай, приносит свежий хлеб – каждый день свежий. Вчерашний она есть не будет. Няня, конечно, недешево, но деваться некуда. По крайней мере, я могу работать и зарабатывать хоть какие-то деньги. Нет, ее отец помогает! Это подспорье. Алименты давно закончились – Леночке уже двадцать три, но ее отец исправно нам помогает. К тому же ее пенсия по инвалидности. Но это, конечно, копейки. Газ я перекрываю, окна на специальных запорах.
Мы помолчали.
– Слава богу, три месяца назад ушел мой отец.
Я вздрогнула.
– Слава богу?
– Да, да! Не удивляйтесь, Марина! Именно так – слава богу! Последние восемь лет жизнь его была невыносимой – он не вставал. Отмучился, как говорится. Ну и я вместе с ним – признаюсь, это было ужасно.
– Но вы же могли выйти замуж, такая красавица!
– Замуж? – рассмеялась она. – Да господь с вами, Марина! Куда я с таким багажом? Кто это выдержит, а? Если родной отец… Зря вы пришли. Вот, расстроились, да? И зачем вам это, правда?
– О чем вы? – возразила я.
– Да, зря. Упрямая вы! Но понимаю, хотели как лучше. И значит, спасибо! А то, что вы стали свидетелем…
– Не волнуйтесь! – перебила ее я. – Никто не узнает! Честное слово! Вы же знаете – я умею молчать!
– Ну и спасибо! – Тамара накрыла мою руку своей. – Езжайте домой! И не думайте о нас. У всех свои беды и своя судьба, верно? Только вот что, Марина, – она замолчала, подбирая слова, – вы должны помнить о том, что жизнь – увы! – коротка! Вы молоды, да… Но все так быстро проходит. Словом, вы меня поняли! Не отказывайтесь от своего человека – ни в коем случае не отказывайтесь!
– А как понять, что он мой? Он уже был у меня, этот мой.
– Да почувствуете! Уверяю вас – сразу поймете! Родство душ – это же сразу понятно! А про то, что был… Вы слишком молоды, чтобы поставить крест на себе. Запомните это! И еще – нельзя жить в постоянном горе. Нельзя! Нельзя уничтожать себя, изводить. Лучше и легче никому от вашей тоски не будет – и вам в первую очередь. Отпустите свое горе, Марина! И это не будет предательством, уверяю вас!
Я шла медленно и повторяла: «Своя судьба. Да. У всех своя судьба. Горе и счастье. Печали и радости. Значит, так надо».
И еще я думала о достоинстве. Человеческом достоинстве. О Тамаре. Ни слова нытья. Ни минуты жалоб. Ни одной слезы на людях. Хотя, наверное, и слез у нее не осталось – все давно выплакано. Бедная, бедная, бедная моя дорогая подруга! А я несносная и бестактная дура. Ну почему я не сбежала?
Только после этого визита я кое-что поняла и ослабила хватку в отношениях с Никой. Стало лучше. То есть польза от того разговора с Тамарой была. Но еще долго я переживала из-за своей бестактности. Это был урок – быть сильной, терпеливой, терпимой. И еще – никогда, ни при каких условиях не забывать, для чего тебе дана твоя жизнь, единственная и неповторимая.
Которая больше никогда не повторится.
С этого ужасного дня мне стало легче жить. Чужие горести не утешают, но немного примиряют с собственной жизнью.
Я впервые обратила на себя внимание и ужаснулась. Я стала похожа на зачуханную, несчастную пенсионерку. Знаете, из тех, что бредут, опустив голову, и что-то бормочут себе под нос. Глаза у них пустые, равнодушные, застывшие. А если вдруг они слегка оживают, то на мир смотрят с растерянностью или, что хуже, с ненавистью. Они вне социума, вне жизни. Вне всего. Их не интересуют даже собственные дети, они не желают вылезать из своей скорлупы, потому что банально боятся.
Я такая же. Я живу в своем мирке, в своей ракушке, и ничего не хочу видеть и знать. Мне не то чтобы комфортно в нем – нет. О комфорте речь не идет. Мне в нем не так страшно. Я привыкла к нему, даже пригрелась и обустроилась. А выглянуть из своей скорлупы мне страшно. Просто страшно, и все. Я боюсь всего – людей, машин, музыки, разговоров, новостей и событий. Не дай бог – новых знакомств! Перемен и перемены участи – вот этого я боюсь больше всего.
Только дома мне становится легче, меня чуть отпускает, потому что здесь, дома, меня никто не трогает, никто ни о чем не просит и не докучает. Я коротко отзваниваюсь маме – едва сброшу туфли и надену халат. Старый халат, в заплатках и с дыркой на рукаве. Он большой и теплый – советская байка. Когда-то он был голубым, сейчас почти серый. Серый и выцветший, как моя жизнь. Букетики мелких цветочков давно стерлись от многочисленных стирок и расплылись – их почти не заметно. Но мне в нем тепло и уютно – он, этот старый и страшный халат, моя домашняя скорлупа. Даже здесь, дома, мне нужна скорлупа. А вот тапочки у меня новые – старые выкинула Ника, сказала, что они оскорбляют ее эстетический вкус и портят интерьер квартиры. Господи, какой там интерьер! Просто смешно. Интерьера давно нет – есть только стены. Но они меня скрывают, защищают и оберегают. А на прочую красоту мне наплевать. Когда был Сережа, мы мечтали сделать ремонт, купить новую мебель, поменять холодильник. Я не смотрю по сторонам. А зачем? Это слезы. Разползшиеся швы на обоях, плеши на линолеуме, серый потолок, длинная узкая прорезь от ножа на кухонной клеенке. Да уж, печально. Но много лет меня все это не волновало. Или так – я не видела всего этого, не замечала.
А в этот день увидела и ужаснулась. Боже мой, как мы живем! Бедная Ника! Я поняла, почему моя дочь стремилась сбежать из дома – такая тоска и такая разруха!
Но старый и любимый халат в тот вечер я все же не выкинула – не поднялась рука.
План действий мне был теперь понятен и ясен – слава богу, впереди были длинные выходные. Уж что-нибудь я успею. Я открыла холодильник. На меня пахнуло холодом и запахом фреона. Не еды, а именно фреона. Холодильник был пуст, если не считать пачки подсохшего сыра и сморщенных огурцов. В морозилке болтались пачка пельменей и пакет с картофелем фри.
И снова на меня навалилась тоска. Бедная моя девочка, несчастный мой ребенок… Господи, я ужасная мать!
Меня зазнобило, и я поставила чайник. Потом набрала маму. В последнее время наш разговор был коротким – стенографический отчет, а не разговор: «Я дома, я на работе, у меня все нормально, Ники пока еще нет. Где? Да гуляет, наверное. Откуда я знаю? Какая я мать? А я и не спорю – плохая».
Я начинала раздражаться, мама – обижаться, и разговор становился до предела нервным. В итоге я или мама бросали трубку. Сейчас я дала себе установку, что буду сдерживаться изо всех своих слабых сил. Бедная мама! А ей каково было смотреть на весь этот ужас? Я была ласкова и терпелива. Старалась отвечать подробнее. Мама немного растерялась. В конце разговора хлюпнула носом или мне показалось?
Выпив чаю, я взяла лист бумаги, уселась на диван и стала составлять план ближайших действий.
Уборка, пусть и генеральная, ничего не решала, это я понимала. Нужен был ремонт – пусть косметический, щадящий: обои, потолки, пол. Черт с ними, с дверями, со старой мебелью и плитой. Черт со старыми шторами и раковиной – это все будет потом, когда я накоплю немного денег и наберусь сил. И тут я вспомнила про себя! Я вскочила, почти подбежала к зеркалу и – разревелась. Старуха. Я просто старуха! Мне противно мое отражение.
Потом я открыла свой шкаф. Три платья. И все старье. Такие же блузки, свитера и юбки. Что удивляться? Я не обновляла свой гардероб несколько лет. За все эти годы я не купила себе ничего, кроме нескольких пар колгот. Все эти годы я закручивала старушечий пучок на голове, а раньше у меня была модная стрижка. Потом мне стало не до стрижек, волосы отрастали, и я закрутила их на макушке – так проще и, конечно, дешевле. Гладкие волосы мне не шли – но мне было на это решительно наплевать. К тому же появилась и седина. В ванной не было кремов и духов – все давно закончилось или испортилось. Остатки шампуня и кусок мыла – вот и вся моя косметика на сегодняшний день.







