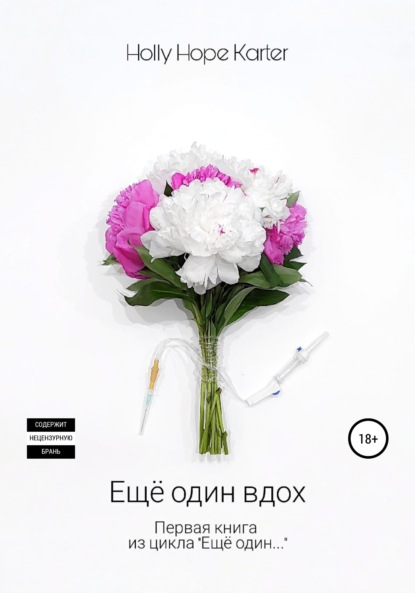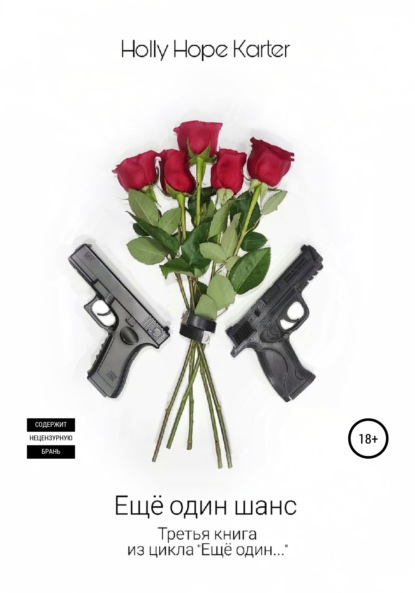Полная версия:
Holly Hope Karter Ещё один день
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Holly Hope Karter
Ещё один день
Я хочу сказать спасибо…
…моему первому критику-мужчине.
Я так и не нашла в тексте то место, в котором деревья могли бы подсматривать за моими героями, но я знаю, что ты и без этого прочтешь мои книги. И скажешь мне правду и нужные слова. И не только по поводу моего творчества.
С любовью и уважением, твоя Сестра
…тебе.
Благодаря тебе я поняла, что каждый из нас достоин любви даже в самый темный день. Особенно в этот день. Спасибо.
С любовью и уважением, Я
Глава 1
*Логан*– Логан, мы в паб. Ты с нами?
Я тупо пялился на стену, сжимая в руке смартфон. Не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как я устало опустился на диван и застыл.
Время не играло роли.
Время играло против меня.
– Логан!
Я смотрел в одну точку, машинально вдыхая и выдыхая, и улавливал обрывки фраз. Голос Джеймса доносился до моего слуха так, словно камрад кричал с другого конца квартала. Но он стоял рядом. Просто в голове было слишком много мыслей, чтобы там уместился еще и этот надоедливый парень.
А думал я о том, что Хоуп пропала. Окончательно.
Наш план осторожно прощупать почву законными способами, не пересекая ее личных границ, полетел к чертям собачьим, когда за первые несколько недель мы не узнали ровным счетом ничего. Последний звонок тоже не увенчался успехом.
Я все же нашел Анну. Это был рискованный шаг. Это было вторжение в круг друзей Хоуп, в который она меня еще не впустила. Но я просто не представлял, что делать. А потому, не зная о ее подруге абсолютно ничего, умудрился разыскать ее в социальных сетях, в которые моя девочка не заходила с Нового Орлеана.
Стоило Анне услышать мой голос, она вскрикнула от восторга. Она точно знала, кто я, и искренне обрадовалась звонку. Но к концу нашей беседы говорила так тихо и растерянно, что я с трудом мог разобрать слова.
К концу разговора Анна переживала за Хоуп так же сильно, как я.
Моя девочка пропала со всех радаров. Я не мог найти ее ни в Портленде, ни в Бостоне, испробовав все законные…
– Логан?
Я глубоко вдохнул, возвращаясь в реальный мир, и потряс головой. Нужно что-то ответить. Хотя почему «что-то»? Ответ был очевиден.
– Нет.
Мой голос звучал так хрипло, что самому стало противно. Я поморщился и несколько раз кашлянул, прочищая горло.
«Ведешь себя как тряпка».
– Нет, Джеймс. Не хочу.
Камрад опустился на диван рядом со мной. Я посмотрел на него и тяжело вздохнул, прекрасно понимая по его взгляду, что будет дальше.
В нем легко читалась тревога. За меня. Он пытался помочь. В каждом его жесте читалась суровая мужская поддержка. Но всему есть предел. И Джеймс к своему подошел.
Камрад хмурился и выглядел так, словно собирался выдать какую-то невероятно важную вещь, истину в последней инстанции, но последние две недели вел одну и ту же песню. Весьма фальшиво, нужно сказать.
– Прошло уже полтора месяца. Тебе стоит…
Я крепко зажмурился и мотнул головой.
– Джеймс, заткнись.
Я не мог больше слушать эту песню. Каждая ее нота вгрызалась в сердце до боли. Потому что каждая нота была мучительной правдой. Он хотел попросить меня перестать искать. Убедить в этом. Потому что Хоуп ушла. Она оставила меня. Бросила. И все. А я…
Джеймс тяжело вздохнул, но ничего не ответил.
Чудно!
Мы сидели в моей гостиной в полной тишине. Квартира, которую я так любил раньше, сейчас стала мне ненавистна. Несмотря на то, что я практически не оставался один, я был невыразимо одинок. Так одинок, что от прыжка в окно меня останавливало только то, что у парней был план… который начал трещать по швам после двух недель поисков и вынюхиваний.
Дверь в квартиру распахнулась. Я на секунду прикрыл глаза, слушая быстрые шаги. Коннор. Раздраженный Коннор.
– Слушайте, это не смешно! Хорош тормозить! Я уже задолбался…
Он резко замолчал и замер на месте. Его взгляд прожег мой затылок. Джеймс повернулся к другу и сделал страшные глаза. Слабые духом люди умерли бы на месте от инфаркта, лишь взглянув на лицо камрада, но не мы, привыкшие к его гримасам. Обмен многозначительными взглядами и молчание затянулись.
«Они будто бомбу обезвреживают».
Но Джеймс не был сапером, хоть и любил взрывчатку до безумия. И Коннор не был сапером. Он снайпер.
– Что стряслось?
Джеймс указал на меня выразительным взглядом и развел руки в стороны. Коннор кашлянул, сразу поняв, ЧТО ИМЕННО СТРЯСЛОСЬ.
Ничего нового. Логан Грин снова впал в транс, когда очередная ниточка ни к чему не привела. Точнее, ни к кому. А еще точнее – к Хоуп Картер.
Я повернулся к снайперу.
– У меня нет настроения. Идите без меня.
Коннор пристально посмотрел на Джеймса и спустя несколько секунд вышел из квартиры. Я отвернулся и снова уставился на стену, поглаживая чехол смартфона и думая… Да ни о чем я не думал. Не было у меня идей, что делать дальше. Законные и полузаконные способы мы испробовали. Осталось только…
– Логан.
Я вопросительно изогнул бровь, не переставая буравить стену взглядом. Мне совершенно не хотелось разговаривать с камрадом, но он… мой друг. Брат, я сказал бы. И он не мог оставить меня в беде одного. А потому делал все возможное, чтобы вытащить из анабиоза.
В другие дни я принимал его помощь и поддержку с благодарностью. Но сегодня он решил переступить опасную черту.
– Мужик, так нельзя. Ну нельзя так! Ты себя прикончишь! Ты это понимаешь? Она того не стоит…
Внутренности моментально заледенели. Сердце пропустило удар. Я прикрыл глаза и несколько раз глубоко вдохнул, прекрасно понимая – если он продолжит… я его ударю.
– Она стоит всего, что у меня есть.
Каждое слово я проговорил четко и раздельно. И каждое обожгло нервные окончания ужасным осознанием. Все сказанное мной – правда. Абсолютно невероятная! Всего неделя!..
Я стиснул челюсти.
Как же больно!
– Логан…
– Джеймс. Не стоит.
Камрад опустил руку на мое плечо и открыл рот, чтобы продолжить, но я резко повернулся к нему, сбрасывая тяжелую ладонь.
– А что будет, если Мия уйдет, а? Что, черт возьми, будет с тобой тогда?
Джеймс нахмурился. Его глаза поблескивали.
Я выдавил, почти задыхаясь от боли:
– Что, если все, что тебе останется от нее, это вот это?
Я разблокировал смартфон отпечатком пальца и протянул Джеймсу. На экране появилось сообщение полуторамесячной давности.
Камрад нахмурился сильнее. Он смотрел исключительно на меня, словно на экране было что-то мерзкое и отвратительное. Хотя я сомневался, что этого парня вообще можно чем-то пронять после стольких лет с нами в одном отряде.
Кстати, так же я думал про себя. До встречи с Хоуп Картер.
Джеймс опустил взгляд на смартфон и пробежался глазами по строчкам, а в моей голове зазвучал голос Хоуп. Она читала написанное ею же сообщение: Прости меня за то, что ты сейчас чувствуешь. Я должна разобраться с одним делом. И я должна сделать это сама. Это очень важно. Я люблю тебя, Логан. Только твоя девочка.
Камрад помолчал пару секунд, гипнотизируя экран, нервно разгладил джинсы и перевел взгляд на меня. Уверенности в нем поубавилось. Значительно.
– Мужик, это хреново. Но…
Его брови надломились, придавая лицу печальное выражение.
– Она бросила тебя. А ты ведешь себя, как маньяк, пытаясь разыскать ее.
Я прикрыл глаза и медленно выдохнул, давя яростные крики и ругательства.
Камрад молчал. Знал, что мне нужно время, и ждал, когда я приду в себя. Как и десятки других раз за эти полтора месяца. И мне удалось успокоиться. Не наброситься на друга.
– Так что, Джеймс? Что будет с тобой, если Мия уйдет вот так, ничего не объяснив?
Камрад выдержал мой мрачный взгляд, взъерошил волосы и наконец ответил:
– Не знаю. Уйду в запой. Буду орать на стены. Буду убиваться, как ты.
Я откинулся на спинку дивана.
– Просто уйди.
– Грин…
Нервные окончания обожгло воспоминаниями. Ее шепот:
«…да, Грин…».
Сердце с силой врезалось в диафрагму. Я невольно вздрогнул и просипел:
– Не называй меня так. Просто… уйди.
Джеймс еще несколько секунд разглядывал меня, а потом встал и вышел из комнаты. Я держался изо всех сил и дал волю эмоциям, лишь когда хлопнула входная дверь. Я запустил диванную подушку в стену и заорал. Громко, страшно. Так, что все соседи наверняка слышали меня.
Как и много раз до этого.
Я орал до тех пор, пока не стало саднить в горле, пока не потемнело в глазах из-за нехватки воздуха. Пока не стало немного легче.
Отшвырнув телефон, я потер виски пальцами и прикрыл глаза. Голова разболелась.
«А чего ты хотел?! После твоего ора голова болит даже у соседской собаки!».
Грустно усмехнувшись, я схватил смартфон, встал с дивана и прошел в кухню. Выудив из холодильника бутылку виски, отвинтил пробку и отпил прямо из горлышка, пытаясь залить алкоголем огонь в грудной клетке.
Больно.
Шесть недель одиночества и боли.
Не проходит.
Не становится легче.
Стоит закрыть глаза, память, сука, услужливо рисует ее образ. Худенькая девушка с зелеными, как свежая листва, глазами и каштановыми, с медным отливом волосами. В деталях рисует ласковую, немного смущенную улыбку. Пухлые губы приоткрываются, я словно чувствую воздух, который она выдыхает, когда шепчет: Грин…
Больно, просто жесть как больно.
– Хоуп, где же ты?
Мой тихий голос показался настолько громким в квартире, где даже ход секундной стрелки оглушал, что я зажмурился и ссутулился. Что-то тяжелое опустилось на плечи. Либо потолок, либо небо. Стоять стало невыносимо трудно. Я рухнул на колени. Боль прострелила суставы, но мне было все равно. Боль, которая жгла изнутри, была сильнее.
– Почему ты ушла?
И снова никто не ответил. Даже когда я повторил этот вопрос несколько десятков раз.
Я был один в этой чертовой квартире…
***Опершись спиной об холодильник, я потягивал виски прямо из темно-зеленой бутылки и уже в тысячный раз пробегал взглядом по строчкам сообщения Хоуп, пытаясь найти скрытый смысл.
Любит меня.
Только моя.
Должна справиться.
Сама.
Без меня.
«Какого черта, Хоуп?! Что с тобой произошло?! Что стряслось, что ты посчитала нужным вычеркнуть меня из своей жизни?!».
Я вздрогнул, когда картинка на экране сменилась.
Входящий звонок. Мия.
Подавив раздражение, я ответил на вызов и прижал смартфон к уху.
– Привет.
В трубке раздался тяжелый вздох.
– По голосу слышу, что ты не в порядке и пьян.
– Рад тебя слышать.
Мия грязно ругнулась, явно позаимствовав выражение из лексикона будущего мужа.
– Рано радуешься. Хотя… Короче, ее документы в Бостоне. Это значит, что она переводится в наш офис.
– Почему ты так…
– Дослушай.
Я рвано вздохнул. Все вокруг были уверены, что Хоуп все же переедет в Бостон. С одной стороны, это внушало надежду. С другой – какая, к черту, надежда? Откуда мне знать, что, переехав в Бостон, она выйдет со мной на связь?
– В портлендском офисе ее не видели столько же, сколько и мы с тобой. Она завершила дела, собрала вещи и ушла. И больше на связь с коллегами не выходила.
Я прикрыл глаза и запрокинул голову, ударился затылком об холодильник. Это я знал. Эту информацию Мия раскопала в первый же день и с тех пор постоянно обновляла сведения, которые оставались неизменными – Хоуп в старом офисе не появлялась.
Легкая улыбка тронула уголки губ, когда я вспомнил, как именно Мия выясняла информацию, какими проверками угрожала несчастным сотрудникам.
– Я снова вышла на связь с Харпер.
Я машинально кивнул. Эта ниточка тоже ни к чему не привела.
Мелисса Харпер сопровождала Майкла Картера на конференции в Новом Орлеане. И не только в качестве коллеги – пару раз, завершая смену поздним вечером, я оставлял их в номере Картера наедине.
В груди вскипела злость, стоило вспомнить, как он смотрел на Хоуп, как лапал ее, трахая при этом Харпер. Мерзкий засранец.
Найти Мелиссу труда не составило, а вот связаться с ней… Эта женщина не сидела на одном месте. Застать ее в кабинете было сложнее, чем поймать молнию. Пришлось Командору навестить мероприятие, которое устраивал в одном из театров Вашингтона головной офис, чтобы выцепить будущую начальницу Хоуп. Сказать, что она удивилась, когда предводитель нашего отряда заявился на тусовку бизнесменов в рваных джинсах – вообще ничего не сказать. А когда начал задавать вопросы про мисс Картер…
Я невольно поморщился, вспомнив тот неловкий разговор со Стивом. Точнее, его полный досады голос, когда он объяснял мне, почему мои поиски выходят за грань разумного.
– Харпер тоже толком ничего не знает. Она связывалась с Хоуп, и та сказала ей, что скоро выйдет на работу. И все.
Мия выругалась, и я слабо улыбнулся.
– Не стоит тебе повторять за Джеймсом такие слова. Язык отсохнет.
– Ну нет у меня других слов. Нет!
Девушка снова выругалась, и я тихо засмеялся. Я прекрасно понимал, про что она говорит. У меня тоже других слов не было. Даже ругательств – все израсходовал. Осталось только два вопроса: где Хоуп и почему она исчезла?
– Мелисса дала ей шесть недель на переезд и пока что не переживает. Поверь, дружище, я притащу ее к тебе за волосы, когда она войдет в чертов офис. После того, как сама ей наваляю. Я обязательно притащу ее к тебе! Вполне возможно, что не совсем целую, но притащу!
– А как же твой отпуск?
Мия фыркнула в трубку.
– Оставлю глаза и уши.
Я с сомнением покачал головой, но промолчал. Я спокойно мог представить, как невеста Джеймса грозной фурией носилась по офису, вызывая ужас у сотрудников. И как сильно ее за это не любили тоже мог представить.
– Но сейчас… я не могу найти ее. Я не знаю, где она. Я… Я пыталась.
Голос девушки дрогнул в конце фразы, и я невольно зажмурился. Говорить с ней было просто – она злилась на Хоуп и так же, как я, переживала и хотела найти ее. И извинялась передо мной за то, что у нее не получалось. А еще ей было больно. Как и мне. И так же обидно.
Нет. Не так, как мне.
Мия судорожно вздохнула и откашлялась. Казалось, что она вот-вот заплачет, и мне стало ужасно стыдно.
– Мия…
– Я позвонила Анне, ее подруге из Портленда. Я нашла ее номер. Представилась работодателем.
– Я тоже ей звонил. Совсем недавно. Что она сказала тебе?
Странная и совершенно неожиданная надежда ворвалась в душу, распахнув дверь с ноги. Возможно, с Мией девушка была откровеннее?
Я почти взмолился:
«Скажи что-нибудь, чего я еще не узнал, прошу!».
Но надежда разбилась вдребезги, когда девушка горько хмыкнула.
– Понятно, почему она была такой потерянной. Два звонка на тему: «Куда делась эта чертова Хоуп?» любого доведут до инфаркта.
Я тяжело вздохнул. Наша поисковая бригада поставила на уши стольких людей…
– Последний раз она видела Хоуп, когда та вернулась из Нового Орлеана. Она встретила ее в аэропорту, а потом довезла до дома. И она страшно волнуется, потому что Хоуп написала ей, что уже в Бостоне. Сомневаюсь, что тебе она сказала больше.
Натянутые струнами нервы лопнули. Я глотнул виски из бутылки и просипел:
– Спасибо, что попыталась.
Девушка немного помолчала и неуверенно спросила:
– Ты же уже связался с ее родителями, да?
Я поморщился, сделав чересчур большой глоток.
Родители Хоуп. Слишком свежи были воспоминания о телефонном разговоре Хоуп что с матерью, которую мне хотелось придушить, что с отцом, которого мне хотелось вбить в землю. Я очень хотел с ними поговорить. Так сильно, что у меня дым валил из ушей, и камрады поняли – нельзя позволить мне исполнить это желание. И занялись этим щекотливым вопросом сами.
– Коннор, не я. Он говорил с ними.
– И там тоже глухо, да?
Я лишь вздохнул в ответ.
Родители Хоуп тоже не знали, где она. Мать вообще отказалась разговаривать про дочь, а отец сказал, что последний раз видел ее, когда подвозил домой после того, как ее машина влетела в столб. После этого они списывались лишь раз – отец сообщил дочери, что ее машину отвезли на свалку.
Когда я узнал про аварию, мое сердце пропустило столько ударов, что я начал сомневаться, что оно забьется снова в необходимом для жизни ритме. А стоило мне представить, в каком состоянии была после аварии Хоуп, раз машина отправилась на «кладбище»…
Джеймс тогда всерьез осматривал мою квартиру в поисках подключенных к электросети проводов, чтобы в случае чего использовать их вместо дефибриллятора. А я ловил ртом воздух и сгибался пополам.
Моя девочка едва не разбилась насмерть, влетев в столб.
Когда я немного отошел от шока, в моей голове родилась мысль: может, в этом причина? Может, поэтому она пропала? Так испугалась или пострадала… Но отец сказал, что с его дочерью все было в порядке. Она отказалась от медицинской помощи и на своих двух вошла в дом. И сказала ему, что позвонит из Бостона.
Так и не позвонила. А он даже не забеспокоился.
Как же я разозлился на него…
Его дочь пропала! А он даже не потрудился узнать, что с ней и где она, хренов ублюдок!
Коннору пришлось убегать с телефоном по квартире, а Джеймсу ловить меня – так мне хотелось высказать Такеру все, что я о нем думаю!
Чтобы успокоить меня, Джеймс не совсем законным способом достал снимки разбитого автомобиля. Меня это действительно немного успокоило – водительская сторона не пострадала. Хоуп вышла из аварии целой и невредимой. И пропала.
Мия протяжно вздохнула.
– Логан, нравится мне это признавать или нет, но Хоуп… Она прячется от нас. И не только от нас. От всех, как ты мог понять. И, зная ее достаточно хорошо, могу сказать, что это неспроста. Что-то случилось, но что… Приедет – расскажет. Тогда и решим – отрывать ей голову или нет, хорошо?
Я уронил голову вперед. Пальцы сомкнулись на горлышке бутылки.
«А мне что, от этого легче? Что все неспроста. Что есть какая-то причина».
– Я подыхаю от боли.
Черт. Я сказал это вслух? Судя по судорожному вдоху в телефонной трубке – да.
Я поморщился и несколько раз стукнул себя ладонью по затылку.
Идиот чертов.
Нужно сменить тему.
– Ты нашла другую подружку невесты? Свадьба через две недели.
Охренительно сменил, конечно…
Мия грустно засмеялась.
– Нет, даже не искала. Я почему-то… Я верю, что Хоуп меня не кинет, как…
– …меня?
БАМ!
Больно. Снова больно. Боль стала образом жизни.
Девушка раздраженно закончила:
– Нет, Логан. Как последняя свинья, я хотела сказать.
Я заставил себя засмеяться.
– Спасибо, Мия.
Когда она заговорила снова, ее голос стал уютным и мягким, как теплый плед.
– Держись, дорогой. Я с тобой. В одной чертовой лодке под названием: «Где, мать твою, эта Хоуп?!».
– Я знаю. Держусь.
Я сбросил звонок и сделал большой глоток. И еще один. И еще. Прикрыв глаза, слабо улыбнулся и снова оперся спиной об холодильник. В голове было мутно и даже почти пусто. Хороший виски. Быстро вырубает.
«И с каких пор алкоголь стал выходом из ситуации? Расставание с Мирандой тебя ничему не научило?».
Я поморщился, невольно вспомнив незапланированные мексиканские «каникулы». И кое-кого еще.
Нет, не научило.
Кое-как поднявшись с пола, я подошел к окну и уставился на погруженные в темноту здания. В окнах напротив то тут, то там горел свет. За стеклами кипела жизнь. Люди пили чай или собирались спать, обнимались в кроватях. А кто-то наверняка пялился в окно, как и я.
Я скользнул взглядом по улице. Прохожие спешили, наверняка торопились домой. К тем, кто ждал их в тепле с поцелуями наготове. Несмотря на поздний час, горожане не спали, как и Бостон. Город не спал. Никогда.
А я должен.
Я потер лоб кончиками пальцев. Послезавтра выезд на задание. Три дня под жарким солнцем восточной страны. Коннор опять будет ныть. А я с удовольствием кого-нибудь пристрелю вместо него.
Командор, каким бы суровым он ни был, вошел в положение и дал мне время на поиски. И дал бы еще больше, если бы я сам не попросил его выпустить меня на задание.
Эта квартира начинала сводить меня с ума. Холодные комнаты, темные углы, молчаливые стены…
Нет, не квартира. Отсутствие одной персоны в этой квартире. А ведь ее здесь ни разу не было…
Но мне казалось, что даже эти чертовы молчаливые стены пропитались ароматом парфюма Хоуп Картер.
И снова перед взглядом встали каштановые локоны, рассыпавшиеся по обнаженной спине. И страх в зеленых глазах. Тихий шепот:
«…я так боюсь тебя потерять…».
Боль. Снова боль.
Больно дышать. Больно думать.
Я прикрыл глаза и хрипло выдохнул:
– Почему же ты ушла, раз так боялась этого?
Телефон снова завибрировал.
Я опустил мутный взгляд на экран и нахмурился.
Элли.
Девушка звонила нечасто, чему я в каком-то смысле был рад. Она переживала меньше всех нас. Возможно, потому что знала и меня, и Хоуп не слишком давно.
«Может, потому что она прекрасный психолог и держит себя в руках?».
Может и так. Но меня это злило.
Я прижал телефон к уху.
– Слушаю.
– Привет, как ты?
Я натянуто улыбнулся… и выдохнул:
– Хреново.
– Стив волнуется за тебя. Так, предупреждаю.
К лицу прилила кровь. Щеки зажгло, а волосы на затылке встали дыбом.
Командор имеет полное право волноваться. Мы – отряд. Мы зависим друг от друга. От каждого из нас зависит жизнь всех членов команды.
Досадливо поморщившись, я сделал еще один глоток виски.
– Скажи ему, что я в порядке.
«Или буду. У меня нет выбора».
– Логан?
– Что?
Девушка несколько мгновений помолчала, словно решаясь на что-то, и я невольно напрягся. Она заговорила тихим, сбивающимся голосом:
– Поверь мне, есть причина, по которой она пропала со всех радаров.
Ехидно ухмыльнувшись, я сделал еще один глоток.
«ДА ЧТО ВЫ ГОВОРИТЕ?! А мне что, легче от этого?».
Ждать хоть какой-то весточки, не будучи уверенным, что эта весточка будет. Помнить каждую морщинку в уголках ее глаз без надежды увидеть ее снова. Слышать ее голос во сне и наяву. Засыпать и просыпаться без нее. Искать ее и не находить ни единой зацепки!
КАКОГО ЧЕРТА ВСЕ ДУМАЮТ, ЧТО НАЛИЧИЕ ПРИЧИНЫ МЕНЯ УТЕШИТ?!
Злость вскипела так стремительно, что я буквально заставил себя проглотить брань, рвущуюся наружу.
– Я знаю.
– Быть может, ей просто нужно время?
– Угу.
Элли тяжело вздохнула.
– Держись. Все будет…
– …хорошо. Знаю. Пока.
Я сбросил звонок, не дожидаясь ответа. С Элли говорить было тяжелее, чем с Мией. Она вела себя, как… профессионал. Как психолог, не друг, не девушка моего камрада. Тщательно подбирала слова, подолгу молчала и вела себя так, словно боялась, что в один день я сломаюсь.
«Они все этого боятся, поэтому практически не оставляют тебя наедине с самим собой».
Я потер висок кончиками пальцев и слабо покачнулся. Алкоголя было немного, но я ничего не ел… уже черт знает сколько времени.
И снова боль прошила сердечную мышцу, когда я вспомнил Хоуп и ее пьянки на пустой желудок. Тогда я беззлобно смеялся над ней, ругался. А сейчас сам делаю так же.
Да и хер с ним…
Я прошел в спальню и открыл комод. Вот она, моя футболка. Та, в которой Хоуп так часто спала.
«…я решила не возвращать ее тебе…».
Твою мать! Да что же ты со мной делаешь?
Я вытащил футболку и забрался в кровать, чувствуя себя несчастным влюбленным подростком. Брошенным к тому же. Футболка заняла привычное место на второй подушке. Я смотрел на нее и думал про Хоуп. Ласково поглаживая мягкую ткань, вспоминал ее голос, смех. Ее поцелуи. Нежные прикосновения. Разряды тока, бегущие по коже из кончиков ее пальцев. Наш последний день вместе. Память выдавала все в таких ярких деталях, будто это было вчера.
«Какого черта, Хоуп? Ведь таких дней могло быть еще столько, что мы даже не стали бы их считать».
Горькая досада скривила губы.
Она ушла. Спряталась. Все решила за нас обоих. Моя Хоуп решила, что… не хочет быть моей? Возможно, но откуда мне знать наверняка?
Я снова уснул пьяный. И снова – с ее именем на губах.
***Первое, что я услышал, когда проснулся, это:
– Отвали от него, Джеймс! Ему хреново, ты не видишь или не понимаешь?!
Наш громила что-то прорычал, но я не разобрал слов. А потом полились маты. Много матов.
Наконец он выдохся и ответил:
– Мужик, я все понимаю, но он себя прикончит этой любовью!
Я смотрел на потолок и думал – и какого хрена я вчера не запер дверь? Хотя… как будто это помогло бы.