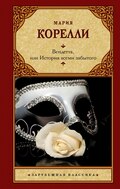Мария Корелли
Скорбь сатаны
Глава третья
Дверь открылась, и, благодаря темноте, я мог лишь различить высокую тень, стоящую на пороге, хорошо помню впечатление, которое произвел на меня этот странный облик, преисполненный столь величественной силой, что я невольно обомлел и едва расслышал слова моей хозяйки.
— Господин желает вас видеть, — сказала она и остановилась в досаде, увидав полный мрак в моей комнате. — Каково? — воскликнула она, — лампа потухла, — потом обращаясь к посетителю, она прибавила:
— Боюсь, что мистер Темпест вышел; хотя я видела его полчаса тому назад. Если это вас не затруднит, то подождите минуточку, я принесу свечку и посмотрю, не оставил ли он записку на столе.
Она быстро удалилась и, хотя я знал, что мне следовало заговорить, какое то злобное чувство заставляло меня молчать и не выдавать своего присутствия. Между тем незнакомец сделал два-три шага вперед, и звонкий голос с насмешливым оттенком раздался:
— Джеффри Темпест, вы тут?
Зачем я не ответил? Необъяснимое, необычайное упрямство удерживало меня, — скрытый в темноте моей убогой комнаты я упорно молчал.
Величественный облик приблизился; рост и ширина незнакомца угнетающе подействовали на меня: еще раз голос повторил:
— Джеффри Темпест, вы тут?
Мне было стыдно дольше молчать: сделав над собой усилие, я победил свое непонятное упрямство, сделавшее из меня жалкого труса, и, храбро выступив вперед, я стал перед моим посетителем.
— Да, я здесь, — сказал я, — но мне неудобно так принимать вас! Вы, конечно, князь Риманец, я только что прочел вашу записку, предупреждавшую меня о вашем посещении, но я надеялся, что моя хозяйка, увидав темноту, решит, что меня нет, и уведет вас. Вы видите, я совершенно откровенен.
— Да, действительно, — ответил незнакомец, и в его звучном голосе послышалась насмешка… — Вы так откровенны, что я не могу не понять вас. Откинув вежливость в сторону, вы негодуете на меня за мой несвоевременный визит и желали бы, чтобы я не пришел.
Точное объяснение моего настроения показалось мне столь неучтивым, что я поспешил опровергнуть его, хотя знал, что оно было правильно. Правда, даже в мелочах, всегда неприятна.
— Пожалуйста, не считайте меня за грубияна, — сказал я, — дело в том, что я открыл вашу записку лишь несколько минут назад, и раньше, чем я мог сделать какое либо распоряжение для вашего приема, лампа у меня потухла, и я вынужден приветствовать вас сквозь такую темноту, что даже не могу подать вам руки.
— А все-таки попробуем, — сказал посетитель смягченным голосом, придавшим какую-то чарующую силу этим ничтожным словам. — Вот моя рука: — если в вашей руке кроется инстинктивная дружба, то они сойдутся и без внешней помощи.
Я немедленно протянул руку и почувствовал теплое, но властное пожатие. В ту же минуту комната озарилась светом, моя хозяйка взошла, неся с собой зажженную лампу, которую она поставила на стол. Она, кажется, удивилась, увидав меня, — но сказала ли она что-нибудь или нет — не помню, — я был так удивлен и очарован видом незнакомца, тонкая, изящная рука которого не выпускала мою, что я ничего не видел и ничего не слышал. Я сам не маленького роста, но князь был, по крайней мере, на пол головы выше меня; пристально вглядываясь в него, я пришел к заключению, что никогда ещё не видал человека, наружность которого соединяла такую разительную красоту с выражением столь глубокого разума. Голова, красивая по форме, выражала силу и мудрость и была поставлена на плечи, которых не устыдился бы и сам Геркулес, лицо представляло чистый, белый овал и было удивительно бледное; эта бледность усиливала блеск его больших темных и слегка выпуклых глаз, привлекающих своим странным выражением, не то веселости, не то горя. Самой характерной чертой этого лица, был, пожалуй, рот: обладая красивыми изгибами, он был, тем не менее, тверд и решителен и своей величиной избегал женственности; в спокойном положении, он выражал иронию, едкость и даже жестокость, но освещенный улыбкой, этот рот намекал, или мне казалось, что он намекал, на нечто более субтильное, чем все известные нам страсти, и с быстротой молнии в моем уме сверкнул вопрос, что это мистическое, необъяснимое ничто могло бы быть? С первого взгляда я оценил все изящные качества моего нового знакомого, и мне показалось, что я знаю его давно. Но вдруг, при свете принесенной лампы и лицом к лицу с моим посетителем, я вспомнил все, что окружало меня: пустую холодную комнату, отсутствие огня, черную сажу, загрязнившую голый пол, мою изорванную одежду, придававшую мне столь печальный вид, в особенности рядом с этим горделивым князем, носившем на себе столь явные признаки богатства, как роскошная соболья шуба, которую он небрежно откинул, не переставая смотреть на меня с улыбкой.
— Я знаю, что пришел в неурочный час, — сказал он, — но я всегда, так прихожу. Это мое несчастье! Воспитанные люди никогда не вторгаются туда, где их не просят, — я боюсь, что в этом случае мое воспитание хромает. Постарайтесь простить мне ради этого, — и он подал мне письмо, на котором я увидал знакомый почерк Кэррингтона. — И позвольте мне присесть, пока вы прочтете мой оправдательный документ.
И, приблизив к себе стул, князь Риманец сел: его красивое лицо и плавные движения положительно очаровывали меня.
— Никаких документов не нужно, — сказал я с искренним радушием. — Я уже получил письмо от Кэррингтона, в котором он говорит о вас с восторженной благодарностью. Но дело в том… простите меня, князь, если я кажусь вам удивленным и растерянным… но я думал встретиться с довольно пожилым человеком…
Я остановился, смущенный пристальным взглядом его блестящих глаз, уставленных на меня.
— В наше время, милостивый государь, никто не стар, — объявил князь шутливо, — даже дедушки и бабушки игривее в пятьдесят лет, нежели в пятнадцать! В высшем обществе совсем не говорят о летах, — это невоспитанно, почти непристойно! О неприличных вещах говорить нельзя, — и возраст стал неприличным, поэтому избегают в обществе говорить о нем. Вы ожидали встретить старого человека? Вы не ошиблись, я стар; Вы не можете себе представить, как я действительно стар!
Я улыбнулся этой нелепости.
— Да вы моложе меня, — сказал я, — по крайней мере, вы моложе на вид.
— Вид бывает обманчив, — ответил Риманец весело, — я, как многие из известных красавцев столицы, гораздо старше, чем кажусь! Но прошу вас, прочтите письмо, которое я принес вам; я не успокоюсь, пока вы этого не сделаете.
Желая искупить чрезвычайною учтивостью свою прежнюю грубость, я исполнил просьбу князя и, открыв письмо, прочел следующее:
«Дорогой Джеффри!
Податель сего, князь Риманец, из ряда выходящий ученый и принадлежит к одному из самых старых родов не только Европы, но, пожалуй, и мира! Тебе, как любителю древней истории, будет интересно знать, что его предки первоначально были князьями Халдеи, поселившиеся впоследствии в Тире, откуда они переехали в Этрурию, где оставались веками; последний отпрыск этого знаменитого рода и есть тот одаренный и благодетельный человек, которого, как хорошего друга, я рекомендую твоему особому вниманию. Непредвиденные обстоятельства, слегка бурного свойства, заставили его покинуть родину, причем он потерял часть своего состояния, так что теперь он более или менее странник на лице земли; но благодаря этому он видел многое и обладает весьма широким опытом. Кроме того, князь замечательный поэт и музыкант и хотя он занимается искусствами исключительно для собственного развлечения, я думаю, что его практические знания литературного дела послужат тебе в твоей трудной литературной карьере. Спешу прибавить, что касательно науки, он абсолютно всеведущ. Посылаю вам обоим уверенности в своей искренней дружбе и остаюсь
преданный тебе
Джон Кэррингтон».
Обычная подпись «Босслз» верно казалась писателю неуместной, но почему-то отсутствие ее огорчило меня. В письме звучало нечто принужденное, сухое, как будто оно было написано под чьим-то давлением. Отчего мне явилась эта мысль, не знаю? Я взглянул исподтишка на моего посетителя, — он поймал мой взгляд и в свою очередь посмотрел на меня пристально, как бы допытываясь чего-то. Боясь, что мое смутное недоверие выразилось у меня в глазах, я поспешил заговорить:
— Это письмо, князь, лишь увеличивает во мне чувство стыда и сожаления, вызванное моим грубым поведением в начале вашего визита. Никакие извинения не могут изгладить моей вины, но вы не можете себе представить, как я удручен и унижен, что должен был принять вас в столь неподходящей обстановке; я желал бы приветствовать вас совсем иначе…
Тут я остановился, раздраженный мыслью, что, в сущности, я чрезвычайно богат, но пока еще кажусь бедным. Князь махнул рукой, как бы отгоняя мои ненужные извинения.
— Зачем вы огорчаетесь? — спросил он, — радуйтесь скорее, что вы можете обойтись без обычной пошлой роскоши. Гений процветает на чердаке и умирает в хоромах, — разве это не общепринятая теория?
— Но это устарелая и ошибочная теория, — возразил я, — Гений жаждет попытать счастье во дворце, так как его обычная судьба — голодная смерть.
— Верно; но подумайте, сколько дураков он кормит, умирая! Над всем этим, милостивый государь, царит мудрое Провидение. Шуберт умер от нужды, — но, сколько заработали на его произведениях музыкальные издатели? Это закон справедливости: жертвовать честными людьми, дабы олухи не пропадали!
Князь засмеялся; я посмотрел на него с некоторым удивлением. Его замечание было так похоже на всегдашние мои мысли, что я не знал, говорит ли он серьезно или нет.
— Вы конечно шутите, — сказал я, — вы ведь не верите тому, что сказали?
— Ах, неужели я не верю, — воскликнул он и глаза его сверкнули, как молния, — если я не верю учету собственного опыта, то что же остается мне? Уверяю вас, дьявол правит миром с кнутом в руке, — и как это ни странно, принимая в соображение, что есть же еще отсталые люди, верящие в Бога, он справляется со своим цугом довольно легко!
Князь нахмурился и злобные черты вокруг рта как бы углубились, — потом он опять весело засмеялся и прибавил:
— Но к чему это нравоучение? — оно лишь претит духов; всяк разумный человек ненавидит, если ему говорят, как он должен поступать, но как он поступать не хочет! Я пришел сюда, чтобы подружиться с вами, если вы это позволите; откинемте дальнейшие церемонии; прошу вас, поедемте со мной в гостиницу, где я остановился и где уже заказал ужин на нас обоих.
Я был окончательно очарован его приятными манерами, красивой наружностью и звучным голосом; насмешливый поворот его мыслей был мне по душе: я почувствовал, что мы поладим друг с другом, и раздражение, вызванное во мне тем, что князь застал меня в столь бедной обстановке, слегка улеглось.
— С удовольствием, — ответил я, — но, сперва, позвольте вам объяснить мое положение. Вы уже слышали про мои скверные обстоятельства от моего друга Джона Кэррингтона, и я знаю по первому его письму, что вы пришли ко мне исключительно по доброте и мягкосердечности. Благодарю вас за ваше благое намерение. Вы думали найти несчастного литератора, борющегося за существование под страшным гнетом бедности и неудачи, и два часа тому назад вы были бы правы, но с тех пор обстоятельства изменились: я получил известие, радикально повлиявшее на мое положение; одним словом, сегодня вечером случилось для меня нечто неожиданное и удивительное…
— Надеюсь, приятное? — мягко перебил меня князь.
Я улыбнулся.
— Посудите сами, — и я протянул ему письмо нотариуса, извещавшего меня о неожиданном наследстве.
Князь быстро просмотрел письмо, потом сложил его и с вежливым поклоном передал его мне.
— Пожалуй, мне следует поздравить вас, — заметил он. — Итак, поздравляю вас, хотя это богатство, которое, по-видимому, удовлетворяет вас, мне лично кажется ничтожным! Без особенного труда, вы можете прожить его через каких-нибудь восемь лет, а потому оно не гарантирует вам абсолютную беззаботность. Чтобы быть богатым, действительно богатым, следовало бы иметь миллион в год. Это давало бы право надеяться не покончить свою жизнь в богадельне.
Он засмеялся; я же глупо уставился на него, не зная, как принять его слова — за правду или пустое хвастовство! Пять миллионов фунтов чистыми деньгами — ничтожество? Князь продолжал говорить, как бы не замечая моего замешательства.
— Неистощимая жадность человека никогда не может быть удовлетворена! Если он не жаждет одного, то жаждет другого, и его вкусы почти всегда дороги. Несколько красивых и легкомысленных женщин быстро избавят вас от ваших миллионов покупкой одних лишь драгоценных камней. Игра на тотализаторе подействует еще быстрее. Нет, нет, вы не богаты! Вы еще бедны; только ваши нужды не так существенны, как прежде. Сознаюсь вам: я слегка разочарован; я пришел к вам в надежде помочь кому-нибудь хоть раз в жизни, — роль кормильца восходящего гения меня прельщала, а оказывается я предупрежден, как всегда! Как это ни странно, тем не менее, это факт: достаточно мне иметь какое-нибудь намерение по отношению к человеку, чтобы быть предупрежденным, так или иначе. Какая горькая судьба!
Князь остановился и поднял голову, как бы прислушиваясь к чему-то.
— Что это? — спросил он.
В соседней комнате скрипач разыгрывал знакомую Аве Mapию; я объяснил ему, в чем дело.
— Мрачно, очень мрачно, — сказал он, насмешливо пожимая плечами. — Ненавижу такую скучную музыку! Ну, что же? хотя вы и миллионер и вскоре будете правилом высшего общества, вам не кажется, что нет препятствий к предложенному ужину? А потом в увеселительный сад, что вы на это скажете?
И князь радушно хлопнул меня по плечу, упорно глядя мне в лицо своими удивительными глазами, в которых, казалось, отражались огненные слезы. Его блестящий повелительный взгляд совершенно покорил меня; я не сопротивлялся странному влечению, тянувшему меня к человеку, с которым я только что познакомился. Это чувство было слишком приятно, чтобы я стал бороться с ним. Одну минуту я начал было колебаться, вспомнив свою истасканную одежду.
— Я не пригож для вашего общества, князь, — сказал я, — я похож более на бродягу, чем на миллионера.
Риманец взглянул на меня и улыбнулся.
— Вы не правы, — воскликнул он, — вы этим не отличаетесь от многих крезов! Только бедняки и гордецы стараются одеться хорошо, — они и шаловливые дамочки пользуются красивой одеждой. Скверно сшитый сюртук большею частью украшает первого министра; если вы встретите женщину в ужасно некрасивом платье по цвету и по фасону, будьте уверены, что она нравственна, занимается благотворительностью и по меньшей мере герцогиня.
И, запахнув свою соболью шубу, князь медленно встал.
— Какое дело нам до сюртука, если карман полон, — продолжал он весело, — достаточно того, чтобы газеты хоть раз протрубили о ваших миллионах, и уже найдется предприимчивый портной, который выдумает пальто «а-ля Темпест», мягко оттененное, как ваше нынешнее пальто в неопределенно-зеленый цвет! А теперь, пойдемте; известие вашего нотариуса должно было придать вам хороший аппетит, или оно не так важно, как вы говорите; я хочу, чтобы вы отдали должное моему ужину. Мой повар всегда ездит со мной и, не хвастаясь, могу сказать, что он чрезвычайно искусен! Надеюсь, между прочим, что вы позволите мне оказать вам хоть одну услугу, а именно, пока не уладятся все законные формальности по вашему наследству, позвольте мне быть вашим банкиром.
Предложение было сделано с видом такой изысканной деликатности и дружбы, что я не мог не принять его с благодарностью, тем более, что оно выводило меня из временных стесненных обстоятельств. Я написал несколько строк моей хозяйке, предупреждая ее, что она получит должные ей деньги на следующий день по почте, потом, засунув рукопись, единственную мою принадлежность, в боковой карман, я потушил лампу и рядом с моим новым другом покинул мою мрачную квартиру и с ней все грустные воспоминания прошлого. Я нисколько не думал, что настанет час, когда время, проведенное мною на этом чердаке, покажется мне счастливейшей частью моей жизни, когда горькая бедность, испытанная мною в то время, будет казаться мне благословением сурового, но святого ангела, приставленного ко мне для указания высшего и благородного пути, — когда я буду молиться с отчаянными рыданиями, чтобы только вернуться к своему прежнему нравственному я! Хорошо ли или плохо, что будущее совершенно скрыто от нас, это трудно разрешимый вопрос. Во всяком случае, в ту минуту мое неведение было счастьем! Я с радостью покинул дом, где испытал только одни неприятности и разочарования и повернул ему спину с чувством несказанного облегчения, — последнее, что я услышал, когда вышел на улицу, была жалостливая тихая мелодия в минорном тоне, посланная за мной в виде прощального привета незнакомого и невидимого скрипача.
Глава четвертая
Карета князя, запряженная парой горячих вороных рысаков, дожидалась нас; лакей, увидав хозяина, открыл дверцы, вежливо приподняв цилиндр, обшитый золоченым галуном. Я взошел в экипаж первый по просьбе моего спутника; откинувшись на мягкие подушки, я до такой степени сознал свою силу, что принял за должное роскошь, окружавшую меня; дни моей нужды казались мне уже отдаленными, почти туманными. Голод и счастье совместно владели мной; я был в каком-то смутном состоянии, вызванным продолжительным отсутствием пищи, и ничто не казалось мне действительным. Я знал, что не пойму значения своего неожиданного счастья, пока не удовлетворю физическую нужду и не стану вновь нормальным человеком. В данную минуту, голова у меня кружилась, бессвязные мысли туманили ум, и мне самому казалось, что я жертва какого-то капризного сна, от которого вскоре пробужусь. Карета бесшумно катилась по мостовой, изредка подскакивая на резиновых шинах, и слышен был лишь равномерный топот лошадей. Внезапно в полумраке я заметил огненный взгляд моего нового друга, устремленный на меня с каким-то странным упорством.
— Вы еще не почувствовали, что мир у ваших ног? — спросил он полуигриво, полунасмешливо, — в роде кегельного шара, который ждет чтобы вы с ним поиграли? Мир такой потешный и двинуть его так легко! Мудрецы всех веков старались исправить его, но напрасно; мир продолжает любить сумасбродство больше разума! Это деревянный шар, или мяч для тенниса, готовый полететь, куда и когда угодно, лишь бы ракета была золотая!
— Вы говорите едко, князь! — сказал я, — но у вас верно обширнейший опыт?
— Да, — ответил он, не колеблясь, — мое царство велико.
— Вы, значит, владетельное лицо?! — воскликнул я в удивлении, — и ваш титул не только почетный?
— По понятиям вашей аристократии мой титул почетный, — ответил князь быстро, — когда я говорю, что мое царство велико, я подразумеваю, что я царствую повсюду, где люди подчиняются богатству! С этой точки зрения разве я не прав, утверждая, что мое царство велико? почти безгранично?
— Вы циник, — сказал я, — неужели вы не верите, что есть вещи, которых купить нельзя — например честь и добродетель?
Князь презрительно улыбнулся.
— Если честь и добродетель действительно существуют, — ответил он, — то они конечно неподкупны! Личный же опыт научи меня, что я могу купить все. Чувства, называемые большинством людей добродетелью и честью страшно условны — стоит предложить должную сумму денег, и они превращаются в нечто другое; это любопытно? — не правда ли, чрезвычайно любопытно? Сознаюсь, однако, что однажды я наткнулся на безусловное бескорыстие, — но только раз! Пожалуй, я еще раз наткнусь на подобный факт, хотя сильно в этом сомневаюсь. Возвращаясь к себе, прошу вас не думать, что я притворяюсь или представляюсь вам под ложным титулом. Я действительно князь и принадлежу более старому и знаменитому роду, чем все ваши аристократы; — но мои владения давно уже распались и мои подданные разбрелись по разным странам: — анархия, нигилизм и другие политические беспорядки заставляют меня умалчивать о моих делах. Денег, к счастью, у меня сколько угодно и, благодаря им, я прокладываю себе путь. Когда-нибудь, когда вы узнаете меня ближе, я ознакомлю вас с историей моей частной жизни. У меня еще несколько титулов и имен, непомеченных на моих визитных карточках, — я сохранил самый простой из них — чтобы избегнуть коверкания моего имени. Мои интимные друзья откидывают титул и просто называют меня Лючио.
— Это ваше крестное имя? — начал было я.
Князь перебил меня быстро и сердито:
— Совсем нет! у меня нет крестного имени, да и во всем моем существе вы не найдете ничего христианского.
Князь говорил с таким видимым нетерпением, что я не нашелся, что ответить:
— Неужели! — пробормотал я.
Он горько рассмеялся.
— «Неужели?» вот все, что Вы нашли сказать! Слово «христианин» меня изводит. Во всем мире нет ни одного настоящего христианина. Вы не христианин, никто не христианин в действительности, хотя многие притворяются, что они христиане и одним этим богохульствуют, делают больше зла, нежели злейший из падших духов! Я же вовсе не притворяюсь и у меня одна только вера…
— Какая?
— Глубокая и ужасная вера, — сказал князь внушительным тоном; — но важно то, что это — истинная вера — неопровержимая, как проявления природы. Но об этом мы поговорим потом, когда будем чувствовать себя в мрачном настроении; а теперь мы приехали, и единственная забота нашей жизни (это забота многих) — это, как можно лучше поужинать.
Карета остановилась и мы вышли. Увидав знакомых рысаков с серебряными приборами, швейцар и двое других служащих бросились нам навстречу; князь прошел мимо них без всякого внимания и обратился к скромно одетому в черном человеку, его камердинеру, приветствовавшему его с низким поклоном. Я пробормотал свое желание нанять комнату в гостинице.
— Мой человек сделает все нужные распоряжения, — сказал князь, — гостиница не полна; во всяком случае, лучшие номера еще свободны, и Вы конечно займете лучшие?
Глазеющий слуга до этого момента смотрел на мой потертый костюм с видом особенного презрения, выказываемого нахальными холопами тем, кого они считают бедняками, но, услышав эти слова, он мгновенно изменил насмешливое выражение своей лисьей физиономии и с раболепством кланялся мне, когда я проходил. Дрожь отвращения пробежала по мне, соединенная с некоторым злобным торжеством: отражение лицемерия на лице этого холопа было, как я знал, только тенью того, что я найду отражающимся в манерах и обращении всего «высшего» общества, так как там оценка достоинств не выше, чем оценка пошлого слуги, и за мерку принимаются исключительно деньги.
Если вы бедны и плохо одеты — вас оттолкнут, но если вы богаты — вы можете носить потертое платье, сколько вам угодно: за вами будут ухаживать, вам будут льстить и всюду приглашать, хотя бы вы были величайшим глупцом или первостатейным негодяем.
Такие мысли смутно бродили в моей голове, пока я следовал за хозяином в его комнаты. Он занимал целое отделение в отеле, имея большую гостиную, столовую, кабинет, убранные самым роскошным образом, кроме того — спальню, ванную комнату и уборную, и еще комнаты для лакея и двух других слуг.
Стол был накрыт для ужина и сверкал дорогим хрусталем, серебром и фарфором, украшенный корзинами самых дорогих фруктов и цветов, и несколько минут спустя мы уже сидели за ним.
Лакей князя служил во главе, и при полном свете электрических ламп я заметил, что лицо этого человека казалось очень мрачным и неприятным, даже таило злое выражение, но в исполнении своих обязанностей он был безукоризнен, будучи быстрым, внимательным и почтительным, так что я внутренне упрекнул себя за инстинктивную неприязнь к нему. Его имя было Амиэль; я невольно следил за его движениями, так они были бесшумны, и его шаги напоминали крадущуюся поступь кошки или тигра.
Ему помогали двое других слуг, одинаково расторопных и хорошо дрессированных, и я наслаждался изысканными блюдами, которых так давно не пробовал, и ароматным вином, о котором могли только мечтать разные знатоки. Я начинал себя чувствовать совершенно легко и разговаривал свободно и доверчиво, и сильное влечение к моему новому другу увеличивалось с каждой минутой, проведенной в его компании.
— Будете ли вы продолжать вашу литературную карьеру теперь, когда вы получили это маленькое наследство? — спросил он, когда после ужина Амиэль поставил перед нами изысканный коньяк и сигары и почтительно удалился.
— Конечно, — возразил я, — хотя бы только для удовольствия. С деньгами я могу заставить обратить на себя внимание. Ни одна газета не откажет в хорошо оплаченной рекламе.
— Верно! Но не откажется ли вдохновение изливаться из набитого кошелька и пустой головы?
Это замечание рассердило меня.
— Вы считаете, что у меня пустая голова? — спросил я с досадой.
— Не теперь; но дорогой Темпест, не позволяйте токайскому вину, которое мы только что выпили, или коньяку, который мы еще должны выпить, отвечать за вас так стремительно. Уверяю вас, я не считаю вас легкомысленным; наоборот, судя по тому, что я слышал о вас, ваша голова полна идей превосходных, оригинальных, но в которых, к сожалению, условная критика не нуждается. Но вопрос в том, будут ли эти мысли продолжать рождаться в вашем уме или полный кошелек заставит их исчезнуть? Вдохновение и оригинальность мыслей редко сопровождают миллионера. В данном случае я могу ошибиться: надеюсь, что я ошибаюсь, но почти всегда бывает так: когда на долю восходящего гения выпадают мешки с золотом, Бог покидает его, и сатана вступает в свои права. Неужели вы не слыхали этого раньше?
— Никогда, — ответил я, улыбаясь.
— Ну конечно это пустые слова, в особенности в наше время, когда не верят ни в Бога, ни в дьявола! Подразумевается, однако, что надо выбрать между высшей ступенью, т. е. гением и низшей — деньгами. Нельзя одновременно ползать и летать!
— Большие деньги не могут заставить человека ползать, — сказал я, — наоборот, они лишь могут укрепить его способности и поднять его до самых больших высот.
— Вы так думаете? — заметил князь, с озабоченным видом зажигая сигару, — в таком случае вы мало изучали то, что я назову природной психикой. То, что от земли — притягивает к земле. Вы не можете этого не понять. Золото первоначально принадлежит земле, — оно выкапывается из земли и превращается в толстые тяжелые слитки, — одним словом это существенный металл. Гений принадлежит неизвестно чему; нельзя ни выкопать его, ни передать его, а только преклоняться перед ним, — это редкий гость, своенравный, как ветер, переворачивающей беспощадно общепринятые условия жизни. Гений, как я говорил вам — нечто высшее, не имеющее ничего общего с земными вкусами и заботами, а деньги — положительное преимущество, притягивающее вас невольно к земле, где вы и остаетесь!
Я засмеялся.
— Вы красноречиво громите богатство, — сказал я, — но вы сами необычайно богаты, — неужели вы сожалеете об этом?
— Нет, я об этом не сожалею; это было бы бесполезно, а я не люблю тратить времени попусту; но я говорю вам правду. Гений и несметное богатство редко идут рука об руку. Например, я: вы не поверите, какие у меня были способности в былое время… Когда я еще не был хозяином самого себя!
— Но я уверен, что они имеются у вас и теперь, — заметил я глядя на его красивую голову и умные глаза.
Странная, необъяснимая улыбка, замеченная мной еще раньше, вновь озарила его лицо.
— Вы хотите сказать, что моя внешность вам нравится, — она нравится многим! Но дело в том, что как только детство проходит, мы притворяемся быть другими, чем мы есть, и, благодаря долгой практике, в конце концов, наша обложка очень удачно скрывает наше настоящее «я». Это очень умно — и теперь люди превратились в какие-то телесные стены, через которые ни враг, ни друг ничего не увидит… Каждый человек, сам по себе, одинокая душа, заключенная в клетку собственного изделия; — когда он наедине, он знает и ненавидит себя, — иногда даже он страшится ужасного изверга, скрывающегося под привлекательной внешней маской и спешит забыть о нем, окунаясь в одурманивающее пьянство и разврат! Я делаю это часто, вы этого не подозревали?
— Никогда, — ответил я быстро; в его голосе звучали трогательные нотки… — вы клевещете на самого себя и обвиняете себя напрасно.
Лючио мягко засмеялся.
— Может быть, — сказал он небрежно, — одному вы можете верить, что я не хуже большинства людей. Но вернемся к вопросу о вашей литературной карьере, вы написали книгу, не правда ли? Издайте ее и посмотрите, каков будет результата. Если первая ваша книга будет пользоваться успехом, — это достаточно, а способы всегда найдутся для обеспечения успеха. В чем суть вашего романа? Надеюсь, что он неприличен?
— Нисколько, — ответил я, — роман трактует лишь о благороднейших сторонах жизни и высших стремлениях: я написал эту, книгу с намерением очистить и возвысить мысли моих читателей и одновременно старался утешить опечаленных и тоскующих….
Риманец улыбнулся и посмотрел на меня с жалостью.
— Не годится! — воскликнул он, — уверяю вас, что это не годится, — ваш роман не удовлетворяет требованиям нашего времени. Пожалуй, он сойдет, если вы устроите вечер для всех критиков и угостите их хорошим ужином с неограниченным числом лучших вин. Иначе не ожидайте успеха. Для успеха вовсе не нужно гоняться за высшими идеалами… — надо просто быть неприличным, — но только настолько, насколько это допускают передовые женщины, — а границ у них почти не существует. Пишите побольше о любовных отношениях, одним словом, говорите о мужчинах и женщинах, как вы бы говорили о скотине, существующей исключительно для приплода, и ваш успех будет поразительный! Ни один критик не посмеет не похвалить вас, а пятнадцатилетние девушки будут зачитываться вашим романом в тишине своих девственных спален.
И глаза князя блеснули таким огнем безграничного презрения, что я ужаснулся и не знал, что ответить; он же продолжал:
— Как могло вам прийти в голову, мой милый Темпест, писать о высших стремлениях жизни? В этом мире нет больше места для высших ваших стремлений, — все пошло и материально, — человек и его стремления ничтожны, как и он сам. А для высших форм жизни ищите другие миры, они ведь существуют. Кроме того, люди не ищут чистых мыслей в романах, которые они читают для удовольствия, — для этого они идут в церковь и там скучают. И зачем вам утешать людей страдающих из-за собственной вины и глупости? Вас никто утешать не станет, никто вам монеты не подаст, чтобы спасти от голодной смерти. Мой добрый друг, откиньте ваше донкихотство одновременно с вашей бедностью. Живите для себя; — если вы будете жить для других, то вы встретите лишь черную неблагодарность, последуйте моему совету и ни под каким видом не жертвуйте своими личными интересами.