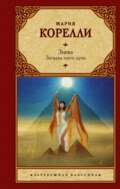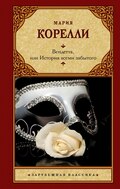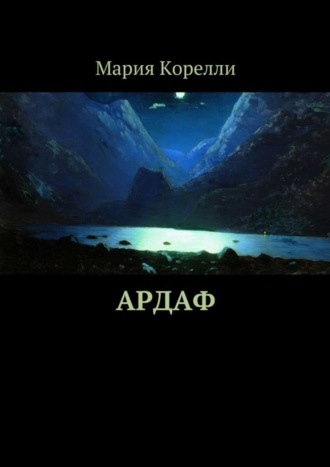
Мария Корелли
Ардаф
Переводчик А. В. Боронина
Дизайнер обложки А. И. Куинджи
© Мария Корелли, 2017
© А. В. Боронина, перевод, 2017
© А. И. Куинджи, дизайн обложки, 2017
ISBN 978-5-4483-7924-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Часть 1. Святой и скептик
«Когда способна смертная любовь
К бессмертию вести, всё вновь и вновь
В народах честолюбье пробуждая,
Тогда, сестра, лишь прихотью считаю
Стремленье к славе тех, кто издалече
Любви бессмертной движется навстречу
И сам бессмертен. Ты в недоуменье?
Но эти вещи истинны: в строенье
Нет атомов, гудящих в нашей дрёме,
Которые, ведя к тупой истоме,
Роятся в бреднях. Нетерпенье гложет
Мой дух, который, знаю, жить не сможет
Единственной мечтой – до появленья
Надежды за тенями сновиденья»1.
Глава 1. Монастырь
Глубоко в самом сердце Кавказских гор собиралась дикая буря. Печальные тени нависали и уплотнялись над Дарьяльским перевалом – этим ужасающим ущельем, которое, словно тонкая ниточка, казалось, протянулось между покорёнными, скованными морозом вершинами гор и черными бездонными глубинами пропастей; облака, зловеще окаймлённые аляповатой зеленью и белизной, тяжело, но стремительно плыли над острыми пиками, где заснеженная вершина горы Казбек вздымалась из тумана холодной белизной на фоне тьмы грозных небес. Приближалась ночь, хотя на западе прямой багровый разрез, словно рана на груди небес, отмечал то место, где час назад закатилось солнце. Время от времени поднимавшийся ветерок постанывал, рыдая, меж высоких и прозрачных крон сосен, которые переплетёнными корнями крепко хватались за неуступчивую почву, прочно удерживая свои позиции на камнях; и, смешиваясь с его стенающим шелестом, долетал отдалённый хриплый рёв, будто от бушующих потоков, в то время как на дальнем расстоянии можно было услышать мощный, глухой грохот лавины, затихающий то там, то здесь во время её разрушительного движения вниз. Сквозь сплетающиеся испарения крутые, голые грани ближайшей горы бледно виднелись, их ледяные пики были, как поднятые вверх кинжалы, пронзавшие острым блеском плотность низко нависавшего тумана, из которого огромные капли влаги начинали скорее сочиться, чем капать. Постепенно усиливался ветер, и скоро с неожиданной яростью его порывы потрясли сосны беспокойной дрожью; красная щель в небе закрылась, и блеск зигзагообразной молнии пересек поперёк надвигавшуюся тьму. Чудовищный громовой раскат последовал почти незамедлительно, его глубокий грохот резонировал хмурыми отголосками эха от всех стен ущелья, а затем бурлящий, шипящий ливень, неудержимая буря прорвалась вперёд, живая и яростная. Вперёд, вперёд! Расщепляя огромные сучья и раскидывая их, как солому, вздувая реки буйными потоками, что метались туда-сюда, неся с собой массы камней, и глыб, и тонны рыхлого снега; вперёд, вперёд! С безжалостной силой и разрушительной поспешностью катилась буря, громыхала и вопила на своём пути через Дарьяльское ущелье. Когда ночь потемнела и шум боровшихся стихий стал ещё более настойчивым и яростным, неожиданный мелодичный звук мягко прорезал дрожавший воздух – медленный, размеренный звон колокола. Туда и сюда, туда и сюда – серебряный перезвон раскачивался с ненавязчивой отчётливостью; это был вечерний звон в монастыре Ларса, стоящем высоко среди скал, венчающих ущелье. Там ветер ревел и бесновался громче всего; он кружился и вертелся вокруг огромного, построенного в виде замка здания, колотя в ворота и двигая их тяжёлые стальные петли с самым болезненным стоном; он атаковал гремящие гардины в узких окнах и бушевал, и завывал на каждом углу и в каждой щели; а в это время змеиные изгибы молний угрожающе играли над высоким железным крестом, что венчал собой крышу, словно вознамерившись низвергнуть его и расколоть непоколебимые стены, которые он хранил. Всё вокруг было война и смятение, но внутри пребывало спокойствие и мир, усиленные ещё и серьёзным бормотанием органной музыки; человеческие голоса смешивались в мягком унисоне, скандируя «Магнификат», и возвышенная размеренная гармония великого древнего гимна торжественно перекрывала шум бури. Монахи, населявшие это горное орлиное гнездо, когда-то бывшее крепостью, а теперь – религиозным пристанищем, собрались вместе в их маленькой часовне – нечто вроде грота, грубо вытесанного из природного камня. Числом пятнадцать, они стояли рядами по трое; их белые шерстяные одежды касались земли, белые капюшоны откинуты назад, и мрачные лица и горящие взгляды набожно повёрнуты к алтарю, на котором сиял в странном уединённом великолепии горящий Крест. С первого же взгляда легко было заметить, что они были особенной общиной, посвящённой некой особенной форме поклонения, поскольку их одежды совершенно отличались внешним видом и деталями от всех прочих нарядов, используемых в различных религиозных братствах греческой, римской и американской конфессий; и одна особенность их внешнего вида служила явным знаком их отличия от всех известных монашеских орденов: это было отсутствие уродливого пострига. Все они были красивыми мужчинами, явно в расцвете сил, и они выводили «Магнификат» не вяло и монотонно, а мелодично и сердечно, что возбуждало слабое удивление и презрение у измученного духом невольного слушателя, стоявшего среди них. То был чужак, который прибыл в монастырь тем же вечером и который вынужден был остаться здесь на ночь, – человек выдающегося и несколько надменного вида, с мрачным, скорбным поэтическим лицом, выделявшимся главным образом смешанным выражением мечтательной пылкости и холодного презрения, – выражением, подобное которому неизвестный скульптор эпохи Адриана поймал и увековечил в мраморе у своего коронованного плющом Бахуса-Антиноя, чья наполовину слащавая, наполовину жестокая улыбка выражала вечные сомнения во всём и во всех. Он был одет в готовый грубый костюм английского путешественника, и его атлетическая фигура в просто пошитой современной одежде выглядела комично на фоне этого мистического грота, который, с его скалистыми стенами и горящим символом спасения, казалось, подходил только для живописных, подобных пророкам фигур наряженных в белое братьев, которых он теперь и разглядывал, стоя позади их рядов с оттенком чего-то вроде насмешки в глубине гордого усталого взгляда.
«Что же это за парни? – размышлял он. – Глупцы или мошенники? Они непременно должны быть тем или другим, иначе они не стали бы петь такие дифирамбы божеству, существованию которого, быть может, и нет никаких доказательств. Это или вопиющее невежество, или лицемерие, или то и другое вместе. Я могу извинить невежество, но только не лицемерие; поскольку, какой бы ужасной ни оказалась Истина, она всё же останется Истиной; её убийственная стрела уничтожает обманчивую красоту Вселенной, но что же тогда? Не лучше ли в таком случае, чтобы Вселенная продолжала казаться прекрасной, только посредством обмана?»
Его прямые брови озадаченно сошлись в одну хмурую линию, когда он задавался этим вопросом, и он беспокойно пошевелился. Он начинал уже терять терпение; пение монахов становилось скучным для его ушей; яркий крест на алтаре слепил его зрение. Кроме того, он недолюбливал все формы религиозных служб, хотя, будучи приверженцем классических знаний, вероятно, он посетил бы праздник чествования Аполлона или Дианы с живейшим интересом. Но само название Христианства представлялось ему несносным. Подобно Шелли, он считал эту веру пошлым и варварским суеверием. Подобно Шелли, он вопрошал: «Если Бог говорил к нему, то почему мир не убедился?» Он уже начал мечтать о том, чтобы его нога никогда не переступала порога этой обители, которую он считал ложным святилищем, хотя по сути у него имелась особенная цель посещения этого места – цель, настолько расходившаяся с исповедуемыми им самим догматами в нынешней его жизни и характере, что даже мысль о ней подсознательно раздражала его, даже когда он решился достигнуть её. Пока что он только познакомился с парой монахов – учтивыми, добродушными личностями, которые встретили его по прибытии с обычным гостеприимством, которое составляло правило монастыря и оказывалось всем запоздалым путникам, переходившим через опасное Дарьяльское ущелье. Они не задавали ему никаких вопросов ни о его имени, ни о национальности, а видели в нём просто путника, застигнутого бурей и нуждавшегося в укрытии, и приняли его соответственным образом. Они проводили его в трапезную, где весело горели дрова, и там ему подали прекрасный ужин, приправленный равно великолепным вином. Он, однако, едва только завязал разговор с ними, когда зазвонил колокол, призывая на вечернюю службу, и, подчиняясь его призыву, они поспешили прочь, оставив его наслаждаться едой в одиночестве. Покончив с ней, он немного посидел, сонно прислушиваясь к торжественным звукам органа, которые проникали во все уголки здания, и затем, движимый смутным любопытством поглядеть, сколько людей уживалось в этом одиноком убежище, подвешенном, словно орлиное гнездо, посреди морозных вершин Кавказа, он отправился на звук музыки через множество длинных коридоров и узких извилистых проходов в пещеристый грот, где и стоял теперь, ощущая бесконечную скуку и рассеянное недовольство. Его главной целью посещения часовни было увидеть всех монахов и в особенности их лица, но это оказалось невозможным, поскольку с того места, которое он вынужден был занять позади них, видны были лишь их спины.
«И кто знает, – угрюмо размышлял он, – сколько ещё они будут выводить их ужасные латинские вирши? Лжесвященство и обман! Нигде от них не скрыться, даже в диких горах Кавказа! Интересно, здесь ли тот, кого я ищу, или я, в конце концов, потерял его след? О нём рассказывают столько противоречивых историй, что не знаешь, чему и верить. Кажется невероятным, чтобы он оказался монахом; настолько нелепое завершение интеллектуального пути. Поскольку, какой бы ни была форма конфессии, исповедуемая этой братией, но абсурдность всей религиозной системы в целом остаётся неизменной. Дни религии прошли; само религиозное чувство – это простой инстинкт трусости, пережиток варварства, который постепенно искореняется из нашей природы прогрессом цивилизации. В наше время миру известно, что творение – простая насмешка; и все мы уже начинаем понимать её пошлость! И если нам приходится допускать, что существует некий верховный всевышний Шутник, который удачно скрывается в неведении и продолжает свои глупые и бесцельные шутки ради собственного развлечения и наших страданий, то нам не нужно в этом отношении восхищаться его остроумием или льстить его изобретательности! Поскольку жизнь есть не что иное, как томление и страдание; а мы разве собаки, чтобы лизать руку, которая нас бьёт?»
В этот момент пение вдруг прекратилось. Орган продолжал играть, словно размышляя под собственную негромкую музыку, сквозь которую мягкие более высокие ноты, словно штрихи света на фоне тёмного пейзажа, подрагивали рябью; один монах отделился от всей группы и, медленно поднявшись в алтарь, повернулся лицом к своей братии. Огненный крест ярко сиял у него за спиной; его лучи, казалось, собирались сияющим нимбом вокруг его высокой, мистической фигуры; его лик, полностью освещённый и чётко видимый, был одним из тех, что запоминаются навечно своей поразительной силой, кротостью и достоинством, выраженными в каждой черте. Последний зубоскал, что когда-либо насмехался над доброй верой или честными добродетелями моментально затрепетал бы и умолк в присутствии такого человека, как этот, – человека, на ком благодать совершенной жизни покоилась, словно королевская мантия, наделяя даже его внешний вид духовным авторитетом и величием. При одном взгляде на него безразличие чужака быстро сменилось страстным интересом: подавшись вперёд, он пристально разглядывал его со смешанным удивлением и невольным восхищением; монах тем временем простёр руки, словно в благословении, и громко заговорил, и его латынь отражалась эхом от каменных стен храма размеренным темпом поэтических рифм. В переводе они гласили следующее:
«Слава Господу, Всевышнему, Верховному и Вечному!»
И единым стройным ропотом братия откликнулась:
«Слава во веки веков! Аминь!»
«Слава Господу, Повелителю духов и Господину ангелов!»
«Слава во веки веков! Аминь!»
«Слава Господу, который в Своей любви никогда не устаёт любить!»
«Слава во веки веков! Аминь!»
«Слава Господу во имя Христа, нашего Искупителя!»
«Слава во веки веков! Аминь!»
«Слава Господу за все радости прошлого, настоящего и будущего!»
«Слава во веки веков! Аминь!»
«Слава Господу за силу воли и мудрость!»
«Слава во веки веков! Аминь!»
«Слава Господу за мимолётность бытия, за радость смерти и за обещанное бессмертие в будущем!»
«Слава во веки веков! Аминь!»
Затем настала пауза, во время которой гром снаружи добавил ещё одну буйную Славу и от себя ко всем уже высказанным; органная музыка замерла в тишине, и монах теперь повернулся лицом к алтарю, благоговейно опустившись на колени. Все присутствующие последовали его примеру, за исключением чужака, кто, будто с нарочным вызовом, решительно вытянулся во весь свой рост и, сложив руки, смотрел на сцену перед собой с совершенно безразличным видом; он ждал, что последует какая-нибудь долгая молитва, но ничего подобного. Стояла полнейшая тишина, не нарушаемая ничем, кроме дроби дождевых капель в высокое эркерное окно и дикого свиста порывов ветра. И, пока он смотрел, огненный крест начал тускнеть и бледнеть, постепенно его сверкающий блеск уменьшался до тех пор, пока наконец не исчез совсем, не оставив ни следа от своего прошлого сияния, кроме маленького яркого огонька, что постепенно принял форму семиконечной звезды, которая мерцала сквозь мрак, как подвешенный рубин. Часовня погрузилась в почти полный мрак: он едва различал даже белые фигуры стоявших на коленях монахов; навязчивое ощущение сверхъестественного, казалось, пронизывало эту глубокую тишину и плотную темноту, и, несмотря на его обычное презрение ко всем религиозным обрядам, всё это действо оказало некое неведомое и странное влияние на его воображение. Внезапная странная фантазия завладела им, будто здесь имелось ещё чьё-то присутствие, помимо его и братии, но кем были эти «кто-то ещё», он не смог бы определить. Вместе с тем это было жуткое, неприятное ощущение и одновременно очень сильное, и он испустил глубокий выдох облегчения, когда снова услышал мягкую мелодию органа и увидел, как дубовые двери грота распахнулись настежь, чтобы впустить внутрь потоки весёлого света из наружного коридора. Вирши закончились; монахи поднялись и зашагали прочь парами, но не со склонёнными головами и опущенными глазами, будто под влиянием униженного смирения, а с раскованностью и статностью, присущей королям, возвращавшимся с великой победой. Отступив немного назад, в его уединённый угол, он наблюдал, как они выходили, и вынужден был признать, что редко, или даже никогда прежде, не доводилось ему видеть более красивых представителей великолепной, здоровой и энергичной мужественности в её лучшем и ярчайшем виде. В качестве благородных представителей человеческой расы на них было приятно посмотреть; они могли бы быть воинами, принцами, императорами, как он думал, – кем угодно, но только не монахами. И всё-таки они были монахами и последователями христианской веры, которую он столь яростно осуждал, поскольку каждый из них носил на своей груди массивное золотое распятие, висевшее на цепочке и украшенное драгоценной звездой.
«Крест и звезда! – размышлял он, заметив это необычайное бриллиантовое украшение. – Символ братства, полагаю, означающий… что? Спасение и бессмертие? Увы, они – несчастные строители замков из песка, если возлагают какие-либо надежды или доверие на эти два пустых, ничего не значащих слова! Интересно, могут ли, верят ли они искренне в Бога? Или просто разыгрывают обычную, изношенную комедию напускной веры?»
Он оглядывал их несколько задумчиво, когда их белые нарядные фигуры проходили мимо, – десятеро уже покинули часовню. Ещё двое прошли, затем ещё двое, и последним появился в одиночестве некто, шедший неспешно, с мечтательным, задумчивым видом, словно глубоко погрузившись в свои мысли. Свет устремился прямо на него через открытую дверь, когда он приблизился: это был монах, читавший Семь Славословий. Монах заметил чужака не раньше, чем тот неожиданно выступил вперёд и коснулся его руки.
– Пардон! – торопливо сказал он по-английски. – Думаю, я не ошибусь в том, что ваше имя Гелиобаз, или было таковым ранее?
Монах склонил свою прекрасную голову в лёгком, но изящном приветствии и улыбнулся.
– Я его не менял, – отвечал он, – я всё ещё Гелиобаз. – И проницательный твёрдый взгляд его голубых глаз остановился с наполовину вопросительным, наполовину сострадательным выражением на мрачном, уставшем, озадаченном лице его собеседника, который, избегая прямого взгляда, продолжил:
– Мне нужно переговорить с вами наедине. Возможно ли это сделать незамедлительно, прямо этим вечером?
– Конечно! – кивнул монах, не показывая никакого удивления от этой просьбы. – Следуйте за мной в библиотеку, там мы будем одни.
Он сразу же стал показывать дорогу, выйдя из часовни, а затем через вымощенный камнем вестибюль, где им повстречались два брата, которые впервые встретили и приняли неизвестного гостя и которые, не найдя его в трапезной, где оставили его, теперь блуждали в поисках. Увидев, в чьей компании он находился, однако, они отступили с глубоким и благоговейным почтением к личности по имени Гелиобаз; он, молча отметив это, прошёл мимо в близком сопровождении незнакомца, пока не достиг просторной, прекрасно освещённой комнаты, где стены были полностью заставлены рядами книг. Здесь, войдя и прикрыв дверь, он повернулся и оказался лицом к лицу с гостем: его высокая, внушительная фигура в скользящих белых одеждах вызывала в воображении картину какого-нибудь святого или евангелиста; и с серьёзной, но добродушной любезностью он сказал:
– А теперь, друг мой, я в вашем распоряжении! Каким же образом Гелиобаз, мёртвый для всего мира, может послужить человеку, для которого мир пока что определённо является всем?
Глава 2. Исповедь
Вопрос его не скоро встретил ответ. Незнакомец молча стоял, две-три минуты пристально глядя на него с особой задумчивостью и рассеянностью, тяжёлая двойная кайма его длинных тёмных ресниц придавала почти что мрачный пафос его гордому и серьёзному взгляду. Вскоре, однако, это задумчивое выражение сменилось мрачным презрением.
– Мир! – медленно и с горечью проговорил он. – Вы думаете, мне есть дело до мира? В таком случае вы неверно меня оценили с самого начала нашего разговора и ваш некогда известный дар провидца ничего не стоит! Для меня мир – это кладбище мертвецов, поедаемых червями тварей и их подложного Создателя, которому вы были так признательны в своих молитвах сегодня, – этого дьячка, который зарывает в землю, и вурдалака, который пожирает собственных несчастных созданий! Я и сам – один из мучимых и умирающих, и я искал вас, чтобы вы просто смогли обмануть меня кратким забвением погибели и раздразнить меня миражом жизни, которого нет и быть не может! Как вы можете мне послужить? Дайте мне несколько часов передышки от несчастья! Вот всё, о чём я прошу!
Во время этой речи лицо его побледнело и осунулось, будто он страдал от какой-то болезненной внутренней агонии. Монах Гелиобаз выслушал его внимательно и терпеливо, но ничего не сказал; гость поэтому, так и не дождавшись ответа, продолжил уже более спокойным тоном:
– Осмелюсь сказать, что мои слова покажутся вам странными, но так не должно быть, если, как говорят, вы уже прошли все разнообразные стадии чистого интеллектуального отчаяния, которое в наш век чрезмерной сверхразвитости разрушает человека, который знает слишком много и задумывается слишком глубоко. Но, прежде чем продолжить, мне стоит представиться. Моё имя Олвин…
– Теос Олвин, английский писатель, я полагаю? – вопросительным тоном заметил монах.
– Именно! – воскликнул он с крайним удивлением. – Как вы узнали?
– Ваша слава, – любезно заметил Гелиобаз, взмахнув рукой и с таинственной улыбкой, которая могла означать очень многое, а могла и ничего.
Олвин слегка покраснел.
– Вы ошибаетесь, – сказал он безразлично, – нет у меня славы. Немного прославленных людей в моей стране, и среди них самые почитаемые – это жокеи и разведённые женщины. Я просто существую на задворках искусства или профессии литератора; я – вечный неудачник и самый нежелательный тип писателей – сочинитель стихов; я не претендую, не сейчас, во всяком случае, на звание поэта. Побывав недавно в Париже, мне посчастливилось услышать о вас…
Монах слегка поклонился, и в его ярких глазах отразился проблеск насмешки.
– Вы завоевали там особенную известность и славу, я полагаю, прежде чем перешли в монашескую жизнь? – продолжал Олвин, с любопытством глядя на него.
– Правда? – и Гелиобаз, казалось, выглядел повеселевшим и заинтересованным. – На самом деле я об этом не знал, уверяю вас! Вероятно, мои действия и поступки могли случайно снабдить парижан иной темой для пересудов, помимо погоды, и я точно знаю, что обзавёлся несколькими друзьями и поразительным количеством врагов, если вы это подразумеваете под известностью и славой!
Олвин улыбнулся – улыбка его всегда была неохотной и выражала скорее грусть, чем радость, и всё же она придавала его лицу необычайную мягкость и прелесть, прямо как солнечный луч, падая на тёмную картину, окрашивает оттенки цветов мимолётным теплом лицемерной жизни.
– Любая слава подразумевает это, я думаю, – сказал он, – иначе это была бы бездарность, за которой человек прячется в безопасности; у таковой – десятки друзей и мало врагов. Посредственность поразительно процветает в наши дни: никто её не презирает, потому что каждый чувствует сегодня, как легко он сам может докатиться до неё. Исключительный талант – агрессивен, истинный гений – оскорбителен; люди обижаются, что предмет их восхищения находится всецело вне их досягаемости. Они стали, как медведи, карабкающиеся на скользкий шест; они видят великое имя над своей головой – соблазнительный сладкий кусок, на который они бы охотно набросились и пожрали, а когда их грубые усилия пропадают впустую, то они жмутся друг к дружке внизу, на земле, глядя вверх унылыми пристальными взглядами, и бессильно огрызаются! Но вы, – и тут он поглядел с сомнением, но вопросительно в открытое, спокойное лицо своего собеседника: – вы, если слухи не врут, могли бы приручить своих медведей и превратить их в собак, покорных и покладистых! Ваши потрясающие успехи в качестве гипнотизёра…
– Извините меня! – спокойно прервал его Гелиобаз. – Я никогда не занимался гипнозом.
– Ну, тогда в качестве спиритуалиста; хотя я не могу поверить в существование вещей, подобных спиритуализму.
– Я тоже, – ответил Гелиобаз с совершенным добродушием, – согласно общепринятому мнению. Прошу вас, продолжайте, м-р Олвин!
Олвин взглянул на него, несколько озадаченный тем, как же ему продолжать. Непонятное чувство раздражения нарастало у него внутри из-за этого монаха с крупной головой и горящими глазами – глазами, которые будто обнажали его самые сокровенные мысли, подобно молнии, что срывает кору с дерева.
– Я говорил, – продолжил он после паузы, во время которой явно обдумывал и подготавливал слова, – что вы были главным образом известны в Париже, как обладатель некой таинственной внутренней силы, – называйте её магнетической, гипнотической или духовной, как вам угодно, – которая, хоть и совершенно необъяснима, но была очевидной для всех, кто оказывался под вашим влиянием. Кроме того, посредством этой силы вы могли действовать научным образом и работать с активным началом интеллекта человека в таких масштабах, что вам удавалось каким-то чудесным способом распутывать узлы непосильных затруднений и недоумений в перегруженном мозге и восстанавливать его первозданную живость и тонус. Это правда? Если так, то используйте свою силу на мне, потому как нечто, и я не знаю что, в последнее время заморозило когда-то бьющий фонтан моих мыслей, и я утратил всю свою работоспособность. Когда человек не может больше трудиться, то лучше бы ему было умереть; жаль только, что я не могу умереть, если только не убью себя сам, что, вполне вероятно, я вскоре и сделаю. Но пока, – он на секунду замешкался, а затем продолжил: – я испытываю сильное желание окунуться в заблуждение – я использую это слово намеренно и повторю его – в заблуждение воображаемого счастья, хоть мне и известно, что, коль скоро я агностик и искатель истины – истины абсолютной, истины реальной, – то подобная страсть с моей стороны представляется нелогичной и безрассудной даже и мне самому. И всё же я признаюсь, что испытываю её; и в этом отношении, я знаю, проявляется слабость моей натуры. Быть может, я просто устал, – и он озадаченно провёл рукой по лбу, – или сбит с толку бесконечными, непоправимыми страданиями всего живого. Вероятно, я схожу с ума! Кто знает! Но, что бы там со мной ни происходило, вы, – если слухи не врут, – обладаете магическим даром освобождать разум от всех его проблем и переносить в сияющий Элизиум сладостных иллюзий и неземного экстаза. Сделайте это со мною, как делали прежде и с другими, и, что бы вы ни потребовали взамен в виде золота или благодарности, – я дам вам это.
Он замолчал; ветер яростно завывал снаружи, швыряя порывистые брызги дождя на комнатное окно, высокое и арковидное, шумно постукивавшее от каждого удара, наносимого ему бурей. Гелиобаз бросил на него быстрый, испытующий взгляд, наполовину жалостливый, наполовину презрительный.
– Мне неведомы средства для временного облегчения угрызений совести, – сказал он кратко.
Олвин мрачно вспыхнул.
– Совести!.. – начал было он весьма обиженным тоном.
– Да, совести! – уверенно повторил Гелиобаз. – Есть такая штука. Вы станете утверждать, что начисто её лишены?
Олвин не удостоил его ответом – ироничный тон вопроса его разозлил.
– У вас сложилось весьма несправедливое мнение обо мне, м-р Олвин, – продолжал Гелиобаз, – мнение, которое не делает чести ни вашей обходительности, ни вашему интеллекту, простите меня за эти слова. Вы просите меня поглумиться над вами и ввести вас «в заблуждение», будто это входило когда-либо в мои привычки или же мне доставляло удовольствие дурачить страдающих человеческих созданий! Вы приходите ко мне, будто я какой-то гипнотизёр или магнетизёр, которого вы можете нанять за несколько гиней в любом цивилизованном городе Европы, – нет, я не сомневаюсь, что вы и меня считаете подобным типом, чьи просветления разума и устремлённость к небесам проявляются в верчении стола и прочем мебельном вращении. Я, тем не менее, безнадёжный профан в этой области знаний. Из меня получился бы самый скверный фокусник! Кроме того, что бы вы там ни слыхали обо мне в Париже, вы должны запомнить, что я уже не в Париже. Я монах, как вы видите, посвятивший себя своему призванию; я полностью оторван от мира, и мои обязанности и дела ныне совершенно отличны от тех, что занимали меня в прошлом. К тому же я оказывал посильную помощь тем, кто честно нуждался в ней и искал её без всяких предрассудков или личного недоверия; но теперь моя работа в миру завершена, и я более не практикую собственную науку, каковой она и является, на других, за исключением очень редких и незаурядных случаев.
Олвин слушал, и черты его лица приняли выражение ледяной надменности.
– Полагаю, из этого мне следует заключить, что вы мне ничем не поможете? – сухо проговорил он.
– А что я могу сделать? – возразил ему Гелиобаз с лёгкой улыбкой. – Всё, чего вы хотите, по вашим же словам, – это краткое забвение своих проблем. Что ж, этого легко добиться при помощи упомянутых наркотиков, если, конечно, вы решите воспользоваться ими, невзирая на их разрушительное действие на ваш организм. Вы можете одурманить свой мозг и тем самым накачать его вялыми подобиями идей; конечно, это не будут сами идеи и даже не смутные и неопределённые их образы, но всё же они могут оказаться весьма приятными, чтобы увлечь вас и на время вытеснить горькие воспоминания. Что до меня, то мои скромные познания едва ли вам помогут, поскольку не могу пообещать вам ни самозабвения, ни приятных зрительных видений. У меня есть определённая внутренняя сила – это правда, – духовная сила, которая, когда проявляется ярко, подавляет и подчиняет себе материю, и, используя её, я мог бы, если бы счёл это уместным, освободить вашу душу – тот внутренний разумный Дух, который фактически и есть вы, – из её глиняной обители и дать ей временный отрезок свободы. Но что именно вы познаете за время этого раскрепощения, будет это радость или печаль, – я совершенно не в силах предсказать.
Олвин пристально глядел на него.
– Вы верите в существование души? – спросил он.
– Определённо!
– Как в отдельную личность, которая продолжает жить, когда тело гибнет?
– Несомненно.
– И вы объявляете себя способным освободить её на время от смертной оболочки…
– Не объявляю, – спокойно перебил его Гелиобаз, – а я действительно способен на это.
– Однако при успешном ходе эксперимента ваша сила отступает? Вы не можете предсказать, куда направится освобождённый дух: к адским страданиям или же к райским удовольствиям? Вы это имеете в виду?
Гелиобаз серьёзно кивнул.
Олвин разразился жестоким смехом:
– Тогда вперёд! – воскликнул он бесшабашно. – Начинайте уже ваше колдовство! Отправьте меня туда, неважно куда, чтобы я ненадолго сбежал из этого мирского вертепа, из этой темницы с единственным крошечным окошком, через которое с предсмертными хрипами мы вглядываемся остекленевшими глазами в пустое, бессмысленное величие Вселенной! Докажите мне, что душа существует, бог мой! Докажите! И если моя отыщет прямой путь к движущей силе всего вращающегося Творения, тогда ей следует застрять в этих проклятых колёсах и застопорить их, чтобы больше они не могли перемалывать мучений Жизни!
Он вскинул руки в диком порыве: лицо его выражало мрачную угрозу и вызов, но всё же было прекрасным той злобной прелестью мятежного и падшего ангела. Его дыхание часто вырывалось из груди, он словно бросал вызов некому невидимому противнику. Гелиобаз тем временем наблюдал за ним, скорее как мог бы наблюдать врач за течением какой-то новой болезни у своего пациента, затем он сказал намеренно холодным и спокойным тоном:
– Дерзкая идея! Исключительно богохульная, заносчивая и, к счастью для всех нас, невыполнимая! Позвольте заметить, что вы перевозбуждены, м-р Олвин; вы говорите, как сумасшедший, а не как разумный мужчина. Ну же, – и он улыбнулся той улыбкой, что была одновременно серьёзной и милой, – вы измотаны силой собственного отчаяния, отдохните несколько минут и успокойтесь.