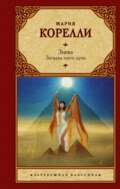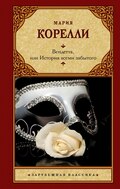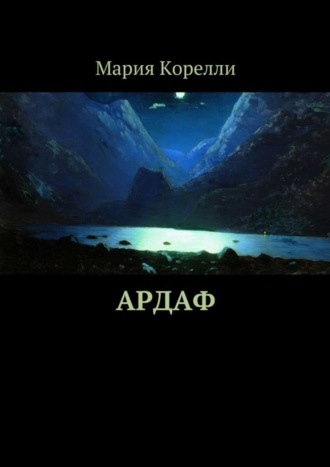
Мария Корелли
Ардаф
– Я решился уже сейчас! – проговорил Олвин медленно и решительно. – Если вы так уверены в собственных силах, то вперёд! Разомкните мои оковы! Распахните двери тюрьмы! Отпустите меня отсюда прямо сегодня; нет лучшего времени, чем сейчас!
– Сегодня! – и Гелиобаз устремил на него свой проницательный, яркий взгляд, выражавший удивление и упрёк. – Сегодня, без всякой веры, подготовки и молитвы вы просите швырнуть вас через пространства миров, словно пылинку в бушующий шторм? За пределы сверкающего вращения бесчисленных звёзд – сквозь блеск подобных мечу летящих комет – сквозь тьму – сквозь свет – сквозь бездны глубочайшей тишины – выше сверхзвуковых вибраций звука – вы, вы посмеете блуждать по этим созданным Богом пространствам, вы – богохульник и неверующий в Бога!
Голос его дрожал от страсти, вид у него был такой торжественный, и серьёзный, и впечатляющий, что Олвин, удивлённый и напуганный, недолго пребывал в молчании, а затем, гордо вскинув голову, отвечал:
– Да, я посмею! Если я бессмертный, то испытаю свою неуязвимость! Я встречусь с Богом лицом к лицу и найду этих ангелов, о которых вы говорите! Что сможет мне помешать?
– Найдёте ангелов! – Гелиобаз печально поглядел на него при этих словах. – Нет! Помолитесь лучше, чтобы они смогли найти вас! – Он долго и пристально смотрел в лицо Олвина, на котором как раз тогда показался лёгкий проблеск довольно насмешливой улыбки, и, когда он смотрел, его собственное лицо вдруг омрачилось выражением неясной тревоги и беспокойства, и странная дрожь заметно потрясла его с головы до пят.
– Вы дерзки, м-р Олвин, – сказал он наконец, слегка отстраняясь от своего гостя и говоря с видимым усилием, – дерзки до глупости, но вместе с тем вы ведь невежественны относительно того, что лежит под завесой невидимого. Я был бы сильно виноват перед вами, если бы отправил вас сегодня, без всякого руководства, совершенно не подготовленного. Я и сам должен подумать и помолиться, прежде чем рискну взять на себя такую ужасную ответственность. Завтра, быть может, сегодня – нет! Я не могу и даже не стану!
Олвин ярко вспыхнул от гнева. «Обманщик! – подумал он. – Он чувствует, что не имеет никакой власти надо мною, и он боится пойти на риск и потерпеть неудачу!»
– Верно ли я расслышал? – спросил он вслух холодным решительным тоном. – Вы не можете? Вы не станете?.. Бог мой! – и его голос повысился. – А я говорю, что вы должны! – Когда он выпалил эти слова, поток неописуемых чувств захватил его: он будто весь, без остатка, отдался во власть какой-то таинственной непреодолимой высшей воли; он ощутил себя одновременно человеком и полубогом и, действуя под напором непреодолимого импульса, которого он не мог ни объяснить, ни сдержать, он сделал два или три поспешных шага вперёд; тогда Гелиобаз, стремительно отступая, отмахнулся от него красноречивым жестом, выражавшим одновременно призыв и угрозу.
– Назад! Назад! – предупредительно закричал он. – Если вы приблизитесь ещё хоть на дюйм, то я не могу отвечать за вашу безопасность! Назад, я сказал! Боже мой! Вы же не ведаете собственной силы!
Олвин едва обращал на него внимание: какое-то роковое влечение захватило его, и он всё шёл вперёд, когда вдруг неожиданно остановился, весь отчаянно дрожа. Его нервы начали остро пульсировать, кровь в венах вскипела огнём, горло сдавил непонятный удушающий спазм, мешавший ему дышать, он смотрел прямо перед собой огромными, горящими, остекленевшими глазами. Что, что это было за ослепляющее нечто в воздухе, что сверкало, и кружилось, и сияло, словно горящие диски золотого пламени? Губы его разомкнулись, он неуверенно протянул руки, как слепой, нащупывающий свой путь.
– О боже, боже! – бормотал он, словно поражённый неким внезапным чудом, а потом с придушенным, захлёбывающимся криком он тяжело повалился вперёд – на пол, без чувств!
В тот же самый миг окно распахнулось с громким треском – оно раскачивалось из стороны в сторону на петлях, и потоки дождя косо хлынули сквозь него в комнату. Удивительная перемена произошла во внешности и в поведении Гелиобаза: он стоял, словно приросший к своему месту, он дрожал с головы до ног, он растерял всё своё обычное хладнокровие, он был смертельно бледен и с трудом дышал. Затем, немного придя в себя, он попытался закрыть болтавшиеся створки, но ветер был столь неистов, что ему пришлось немного помедлить, чтобы собраться с силами, и инстинктивно он выглянул наружу – в бурную ночь. Тучи носились по небу, словно огромные чёрные корабли по пенным волнам моря, молния непрестанно сверкала, и гром отражался от гор чудовищными залпами, будто из осаждающих орудий. Жалящие капли ледяного мокрого снега летели ему в лицо и на грудь белого одеяния, пока он несколько мгновений вдыхал бушующую свежесть сильного, взметнувшегося вверх порыва, а затем с видом человека, собравшего все свои разрозненные силы воедино, он уверенно захлопнул окно и запер его. Повернувшись теперь к бесчувственному Олвину, он поднял его с пола и перенёс на низкую кушетку рядом и там осторожно уложил. Сделав это, он стоял, глядя на него с выражением глубочайшего беспокойства, но не пытался избавить от смертельного обморока. Его собственная обычная невозмутимость разлетелась на куски, он имел вид человека, испытавшего неожиданное и непомерное потрясение, даже его губы побледнели и нервно подрагивали.
Он выждал несколько минут, внимательно наблюдая за лежащей фигурой перед собою, пока постепенно, очень медленно, эта фигура не обрела бледную, суровую красоту тела, которое только что безболезненно покинула жизнь. Конечности стали жёсткими и неподвижными, черты лица сгладились этим таинственным, мудрым, бледным спокойствием, которое так часто заметно на лицах мертвецов; прикрытые веки казались пурпурно-багровыми, будто в синяках. Ни вздохом, ни движением не подавал он намёка на воскрешение; и когда спустя немного времени Гелиобаз склонился и прислушался, то в сердце не было пульсации – оно перестало биться! По всем признакам Олвин был мёртв – любой врач подтвердил бы этот факт, хотя причина его смерти и была неясна. И в таком состоянии – застывшем, бездыханном, бледном, как мрамор, заледеневшем и неподвижном, как камень, – Гелиобаз его и оставил. Не с безразличием, а точно зная – зная, невзирая на обычную медицину, – что бесчувственный кусок глины в положенное время воскреснет к жизни; что шкатулка лишь временно освобождена от её драгоценности; и что сама драгоценность, душа поэта, сумела посредством вмешательства нечеловеческой воли разорвать свои узы и куда-то сбежать. Но куда?.. В какие обширные миры прозрачного света или мрачных теней?.. На этот вопрос монах-мистик, поистине одарённый могущественным духовным даром повелевать «вещами невидимыми и вечными», не мог отыскать удовлетворительного ответа; и в этом тревожном недоумении он отправился в часовню, и там, в свете красных лучей багровой звезды, что тускло сияла над алтарём, он преклонил колени в одиночестве и молился в тишине, пока штормовая ночь не миновала и буря не погибла от меча собственной ярости на тёмных склонах Дарьяльского ущелья.
Глава 4. «Ангелус Домини»
Следующее утро медленно рассветало над морем серого тумана: ни единого просвета ландшафта не было видно – ничего, кроме серой пустоты витающего тумана, что медленно полз – складка за складкой, волна за волной, словно вознамерившись обесцветить весь мир. Очень слабый холодный свет проникал сквозь узкое, арковидное окно комнаты, где Олвин лежал, всё ещё окутанный глубоким сном, столь похожим на тот последний вечный сон, от которого, как говорят нам некоторые из современных учёных, не может быть пробуждения. Состояние его не изменилось; тусклые лучи раннего восхода, падая на его лицо, усиливали восковую бледность и неподвижность; ужасное таинство смерти довлело над ним – убогая беспомощность и бренность тела без духа. В момент, когда монастырский колокол начал звонить к заутрене и его ясный звон разорвал глубокую тишину, дверь открылась, и Гелиобаз в сопровождении другого монаха, чьё добродушное лицо и красивые, мягкие глаза выдавали внутреннее умиротворение, вошли в комнату. Вместе они приблизились к кушетке и долго и серьёзно смотрели на спавшего сверхъестественным сном мужчину.
– Он всё ещё далеко! – сказал, наконец, Гелиобаз со вздохом. – Так далеко, что это внушает опасения. Увы, Илларион! Насколько же малы наши знания! Даже со всей духовной поддержкой религиозной жизни как мало мы можем! Мы познаём одно – и тут же появляется другое, мы побеждаем одну сложность – и другая немедленно выскакивает, чтобы встать у нас на пути. Если бы я только имел необходимое врождённое восприятие, чтобы предвидеть вероятность вылета этого освободившегося бессмертного создания, то разве не смог бы я спасти его от какого-нибудь непредсказуемого несчастья или страдания?
– Думаю, что нет, – отвечал довольно задумчивым тоном монах по имени Илларион, – думаю, что нет. Такая защита никогда не будет доступна простому человеческому разуму, если этой душе суждено спастись или укрыться в своём невидимом странствовании, то, так или иначе, это случится каким-нибудь образом, которого все чудеса нашей науки не смогут предсказать. Вы говорите, он был неверующим?
– Именно.
– Каково же было его кредо?
– Страсть познать то, что он называл Истиной, – ответил Гелиобаз.
– Он, как и многие другие, не брал на себя труд задуматься чуть глубже над скрытым смыслом знаменитого вопроса Пилата: «Что есть истина?». Нам-то известно, что это, как обычно бывает, – несколько так называемых фактов, которые через тысячелетие будут полностью опровергнуты, перемешаны с несколькими конечными мнениями, предложенными колеблющимися мыслителями. Короче говоря, истина, согласно мирскому пониманию, – это просто то, что миру покамест приятно считать таковой. «Весьма небрежно ставку делать на бессмертную судьбу!».
Илларион приподнял холодную, безжизненную руку Олвина, она была негибкая и белая как мрамор.
– Я полагаю, – сказал он, – в его будущем возвращении к нам сомнений нет?
– Абсолютно нет, – решительно отвечал Гелиобаз. – Его жизнь на земле продлится ещё многие годы, поскольку покаяние его ещё не завершено, воздаяния он ещё не заслужил. Насчёт этого мои знания о его судьбе точны.
– Значит, вы вернёте его сегодня? – продолжал Илларион.
– Верну? Я? Я не могу! – сказал Гелиобаз с оттенком печальной покорности в голосе. – И по этой самой причине я и боялся отправлять его отсюда, и не сделал бы этого, – только не без подготовки, во всяком случае, – если бы мог действовать по-своему. Его отшествие было более удивительным, чем все прочие, известные мне, к тому же оно стало его собственным деянием, а не моим. Я категорически отказался применять к нему свою силу, потому что я чувствовал, что он находился не в моей власти и что поэтому ни я, ни любой из высших мудрецов, с которыми я состою в контакте, не смогли бы управлять или направлять его путешествие. Он, однако, был настолько же категорично уверен в том, что я должен был её применить, и для этого он вдруг сконцентрировал весь сдерживаемый пыл его характера в одном стремительном усилии воли и пошёл на меня. Я предупреждал его, но напрасно! Быстро, как молния отвечает молнии, две невидимых бессмертных силы внутри нас восстали в немедленном противостоянии с той только разницей, что, пока он не имел понятия о своей силе и не осознавал её, я всецело понимал и осознавал свою. Моя была сфокусирована на нём, его была неумелой и рассеянной – в результате моя сила одержала победу; и всё-таки, поймите меня правильно, Илларион, если бы я мог сдержать его, я бы так и сделал. Но это он – он извлёк из меня мою же силу, словно меч из ножён, а меч обычно сидит в ножнах прочно, однако сильная рука каким-то образом выхватит его и использует для сражения, когда будет необходимо.
– В таком случае, – с удивлением проговорил Илларион, – вы признаёте, что этот мужчина обладает силой, превышающей вашу собственную?
– Ах, если бы он только знал об этом! – спокойно ответил Гелиобаз. – Но он не знает. Лишь ангел может научить его, а в ангелов он не верит.
– Он может поверить теперь!
– Может. Поверит – должен поверить, если только он ушёл туда, куда бы я его направил.
– Поэт, не так ли! – спросил Илларион мягко, склоняясь ниже, чтобы рассмотреть получше прекрасное, подобное Антиною лицо, бесцветное и холодное, как скульптурный гипс.
– Некоронованный монарх мира песни! – ответил Гелиобаз с нежной интонацией прекрасного голоса. – Гений, какого земля видит раз в столетие! Но он оказался сражённым болезнью неверия и лишённым надежды, а где нет надежды – нет и длительного творчества. – Он замолчал и мягким прикосновением, словно женщина, поправил подушки под отяжелевшей головой Олвина и возложил руку в серьёзном благословении на широкий, бледный лоб, покрытый тяжёлыми волнами тёмных волос. – Пусть бесконечная любовь избавит его от опасности и пошлёт мир и покой! – проговорил он торжественно, а затем, отвернувшись, взял своего товарища под руку, и они вдвоём вышли из комнаты, тихонько прикрыв за собою дверь. Храмовый колокол продолжал звонить медленно, неспешно, посылая приглушённое эхо сквозь туман ещё несколько минут, а затем умолк, и воцарилась глубокая тишина.
Монастырь всегда был очень тихой обителью, стоя на такой высокой и бесплодной скале, он намного превышал пределы досягаемости даже самых маленьких певчих птиц, порой лишь какой-нибудь орёл рассекал туман шумом крыльев и резким криком на пути к какому-нибудь далёкому горному гнезду, но никаких иных звуков пробуждавшейся жизни не нарушало тишины медленно расползавшегося рассвета. Прошёл час, а Олвин всё лежал в том же положении: такой же бледный и неподвижный, как труп, готовый к погребению. Вскоре некая перемена начала таинственным образом тревожить воздух вокруг, будто янтарное вино заливало хрусталь: тяжёлые испарения задрожали, как будто вдруг рассечённые хлыстом пламени; они поднимались, раскачивались из стороны в сторону и разрывались на куски. Затем, растворившись до тонкой молочно-белой пелены ворсистой дымки, они уплыли прочь, открыв взору гигантские вершины окружающих гор, что вздымались к свету одна над другою, подобно формам замороженных валов. Над ними нежный розовый румянец сплетал трепетные волнистые линии, длинные стрелы золота начинали пронзать нежное мерцание голубого неба, мягкие клубы облаков с оттенками малинового и бледно-зелёного рассеивались вдоль восточного горизонта, подобно цветам на пути шагающего героя; и тогда вдруг настало хрупкое затишье в небесах, как будто вся вселенная внимательно выжидала какого-то грандиозного, но ещё не явленного великолепия. И оно раскрылось багровым блеском триумфа солнечного рассвета, проливая душ сияющего света на белую пустоту вершин, покрытых вечными снегами; зазубренные пики, острые как ятаганы и сверкающие льдами, поймали огонь и словно растаяли в поглощающем море сияния; ожидавшие облака продолжили движение, окрасившись ещё более глубокими оттенками королевского пурпура, и утро явилось во всей своей славе. Когда ослепительный свет устремился сквозь окно и залил кушетку, где лежал Олвин, слабый окрас возвратился его лицу, губы шевельнулись, широкая грудь с трудом наполнилась воздухом, веки дрогнули, и его прежде негнущиеся руки расслабились и сами собой сложились в положение молитвы и умиротворённости. Будто статуя медленно оживала магическим образом, тёплые оттенки нормально бегущей крови проступали сквозь белизну его кожи; дыхание становилось всё более лёгким и ровным; черты лица постепенно обретали нормальный вид, и тогда, без единого рывка или вскрика, он очнулся! Но было ли это истинное пробуждение? Или скорее продолжение какого-то странного ощущения, испытанного во сне?
Он поднялся на ноги, отбросил волосы со лба с завороженным взглядом, выражавшим внимательное изумление; его глаза были влажны и блестели, весь его вид выражал вдохновение. Он пару раз измерил шагами комнату, но явно не сознавал, где находился; он выглядел погружённым в размышления, которые поглощали его целиком. Вскоре он уселся за стол и, рассеянно перебирая писчие приспособления, лежавшие там, он будто задумался над их назначением. Затем, разложив несколько листов бумаги перед собой, начал писать с необычайной скоростью и усердием: его перо бежало плавно, не прерываясь на помарки и исправления. Порой он замирал, но когда это случалось, то всегда сопровождалось возвышенным, внимательным, прислушивающимся выражением. Один раз он пробормотал вслух: «Ардаф! Нет, я не должен забыть! Мы встретимся на поле Ардаф!» – и снова возвратился к своему занятию. Страницу за страницей он покрывал убористыми письменами, выведенными характерным для него особенным ровным, каллиграфическим почерком. Солнце взбиралось всё выше и выше в небеса, часы проходили, а он всё писал, явно не замечая течения времени. В полдень колокол, который молчал с раннего рассвета, начал быстро раскачиваться на колокольне башни; глубокий бас органа вздохнул в тишине громовой монотонностью, и подобные пчелиному жужжанию отдалённые голоса провозгласили слова: «Angelas Domine nuntiavit Mariae»4.
При первых же звуках песнопения колдовство, сковавшее разум Олвина, рассеялось; быстро подведя черту подо всем, что написал, он подскочил и выронил перо.
– Гелиобаз! – закричал он громко. – Гелиобаз! Где находится поле Ардаф?
Его собственный голос показался ему странным и незнакомым, он подождал, прислушиваясь, и молитва продолжилась: «И Слово стало плотью, и обитало с нами».
Внезапно, как если бы больше не мог выносить одиночества, он рванулся к двери и распахнул её, чуть не налетев на Гелиобаза, который как раз собирался войти в комнату. Он отступил, дико уставился на него и, смущённо проведя рукою по лицу, выдавил смешок.
– Я спал! – сказал он, затем с пылким жестом добавил: – Боже! Если бы только этот сон был явью!
Он был сильно взволнован, и Гелиобаз, дружески обхватив его рукой, увёл обратно, к креслу, которое освободил, внимательно наблюдая за ним.
– Вы называете это сном? – спросил он с лёгкой улыбкой, указывая на стол, усеянный записями с ещё не высохшими чернилами. – Тогда сны – более продуктивны, чем активные нагрузки! Вот прекрасный совет для писателей! Отличный результат для одного утра работы!
Олвин подскочил, схватив исписанные листки, и страстно вперился в них взглядом.
– Этой мой почерк! – бормотал он ошеломлённо.
– Конечно! А чей же ещё? – ответил Гелиобаз, наблюдая за ним с научным и одновременно добродушным интересом.
– Тогда это правда! – вскричал он. – Правда, во имя прелести её глаз; правда, во имя её просветлённой любовью улыбки! Правда, о ты, Господь, в котором я смел сомневаться! Правда, во имя всех чудес Твоей непревзойдённой мудрости!
И с этими странными выкриками он с лихорадочной поспешностью начал читать то, что сам же написал. Его дыхание быстро вырывалось, его щёки пылали, его глаза расширились; строку за строкой он внимательно перечитывал с явным удивлением и восторгом, когда, вдруг прервавшись, он поднял голову и продекламировал полушёпотом:
– Великой песни нотой громкой
Я грех свой изгоняю прочь!
Взобраться выше по ступеням звука
Должны мне ангелы молитвою помочь!
– Я где-то слышал этот куплет ещё в детстве, но почему я вспоминаю его сейчас? Она ждала, как она сказала, все эти многие тысячи дней!
Он остановился в задумчивости, а затем продолжил читать, Гелиобаз коснулся его плеча.
– Вам потребуется некоторое время, чтобы прочитать всё это, м-р Олвин, – мягко заметил он. – Вы написали больше, чем знаете.
Олвин поднялся и посмотрел прямо на собеседника. Опустив свою рукопись и положив на него руку, он смотрел с торжественным, вопросительным видом в благородное лицо, решительно стоявшее перед ним.
– Скажите мне, – задумчиво проговорил он, – как это произошло? Это сочинение – моё и одновременно не моё. Поскольку это огромная и совершенная поэма, автором которой я не дерзаю назваться! Я мог бы с таким же успехом сорвать корону из её звёздных цветов и назваться ангелом!
Он говорил одновременно пылко и смиренно. Любому стороннему наблюдателю показалось бы, что он находился во власти какой-то странной галлюцинации, но Гелиобаз понимал его гораздо лучше.
– Идёмте! Идёмте! Ваши мысли сейчас за пределами этого мира, – миролюбиво сказал он. – Постарайтесь призвать их обратно! Я ничего не могу вам сказать, поскольку я ничего не знаю! Вы отсутствовали много часов.
– Отсутствовал? Да! – и голос Олвина задрожал бесконечным сожалением. – Отсутствовал на земле! Ах, если бы только я мог остаться с нею, в Раю! Моя любовь, моя любовь! Где же ещё мне искать её, как не на поле Ардаф?