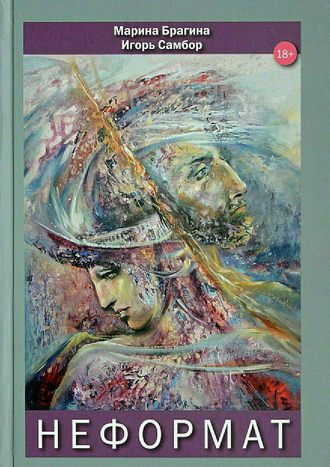
Марина Владимировна Брагина
Неформат
этом какая-то изюминка, какая-то дань уважения предкам. И в армянскую культуру, по крайней
мере здесь, в Москве, это проникло. Ашот, Тигран – эта фамильярность хороша для базара, для
торговцев кинзой. А вот Ашот Тигранович – это уже мини-история рода. Или вы не согласны?
– Отец, не загоняй молодого человека в угол своей риторикой, – встряла в разговор
Валентина, – лучше налей ему и себе вина. Ты открытую бутылку в руке уже минуту держишь. Ещё
немного, и Вадим… – она сделала крошечную паузу, – Борисович подумает, что ты родом не из
Армении, а из Голландии: это там скупо угощают гостей и тут же уносят поднос с едой и
напитками прочь.
Ляля досадливо оглянулась на мать. Та вообще раздражала её в этот вечер, особенно
своим модным, недавно купленным брючным костюмом, который очень её молодил. Она вдруг
вспомнила, что просила у Валентины этот костюм на один раз – сходить на вечер в институт, а та
отказала.
В выборе вина таился подвох – Савченко не знал точно, какое именно вино подаётся к
какому блюду, поэтому он сыграл наверняка, сказав, что будет пить то же, что и Ляля. Что же до
темы разговора, он решил удивить хозяина дома парадоксом:
– Согласен с тем, что отчество – дань уважения отцу. Или подчёркивание иерархии
отношений – отсылка к авторитету родителя. Но когда человек самореализуется и добивается
чего-то в жизни, когда его имя на слуху, использование отчества становится странным. Мне
кажется, есть люди, которым вообще отчество противопоказано.
Жора с интересом слушал этот монолог юного пришельца, который ниоткуда вдруг
появился в жизни его дочери.
– Например? – мягко, но с прежними нотками непоколебимого авторитета подтолкнул он
мысль собеседника.
– Например? – Савченко, ничуть не смущённый вопросом, повторил его вслух, как бы
разгоняясь перед прыжком: – Например, артисты, спортсмены, космонавты, поэты. Эдуард
Стрельцов, Леонид Утёсов, Юрий Гагарин, Сергей Есенин… Было бы странно именовать их с
отчествами. Они самодостаточны сами по себе.
– Ну, а из политиков кто? – Жора испытующе посмотрел на Савченко. – Я имею в виду
наших политиков. Ричарда Никсона или Жоржа Помпиду просьба не называть.
Савченко задумался на секунду. Его ответ озадачил Жору и даже заставил насторожиться:
– Анастас Микоян. Или Лев Троцкий.
– Вот как! Я думал, вы назовёте другие имена, – дипломатично заметил Жора, – впрочем,
согласен. Оба из названных вами персонажей несомненно политики – этого у них не отнять. Хотя
судьбы у них очень разные… – Жора усмехнулся своей восточной улыбкой, в которой органично
переплелись хитрость и грусть.
Валентина, которую после неожиданного ответа Савченко наряду с удивлением обуяла и
сугубо женская осторожность, поспешила снова вклиниться в разговор, чтобы перевести его в
более безопасное русло:
– Тайм-аут в дискуссии. Хозяин дома, за тобой первый тост. А то у меня пельмени почти
готовы.
Валентине очень хотелось в этот вечер соединить воедино армянскую и русскую кухни. Но,
чтобы не повторять одни и те же ингредиенты в разных блюдах, она нашла разумный
компромисс: на закуску приготовила постную долму с начинкой из овощей.
– Да, тост давно назрел, – охотно согласился Жора. – Тост очевидный, что не делает его
менее искренним: За молодое поколение в вашем лице и за то, чтобы в будущем вы оба
добились такой известности, которая избавит от необходимости использовать отчества.
Через некоторое время после тоста, где-то между постной долмой и пельменями,
убедившись, что мужчины утолили голод, Валентина умудрилась снова разозлить Лялю, когда
бесцеремонно спросила Вадима, знает ли он, что похож на Сергея Есенина.
– Мама! – не сдержалась Ляля, – ему, наверное, тысячу раз этот вопрос задавали. Теперь и
ты туда же.
– Нет, почему же? – Савченко беспечно махнул рукой, как будто говорил о несущественной
мелочи. – Вопрос, несомненно, звучал и раньше, но, конечно, не тысячу раз. Мне пришлось
заготовить на него стандартный ответ.
– И этот стандартный ответ? – полувопросительно-полуутвердительно с учительской
интонацией произнесла Валентина.
– Предпочёл бы поменять внешность Есенина на облик Евтушенко при обмене
квалификации Евтушенко на талант Есенина, – без запинки выдал он заготовленную формулу.
Жора, мастерски ведущий разговор за столом таким образом, что легкомысленная
церемонность перемежалась с зондирующими вопросами, ухватился за подвернувшуюся
стихотворную тему, чтобы исподволь выяснить, как сочетается желание быть альтер-эго Есенина с
обучением в МАИ и чем молодой авиаконструктор хотел бы заниматься после распределения.
Пока Савченко добросовестно и подробно, словно третий закон Ньютона, объяснял
специфику распределения в многочисленные «почтовые ящики», одно описание которых
подразумевало статус «невыездного», Жора, профессионально изображающий участливое
внимание, перебирал в уме возможные варианты трудоустройства в экспортные
загранучреждения, при которых можно было бы совместить весьма специфическую
квалификацию этого русича (если, конечно, у Ляли появятся по отношению к нему серьёзные
намерения) с долгосрочной загранкомандировкой – в Ливию, Индию или, на худой конец, в
недавно создавшийся Бангладеш.
– Странно, что с вашим складом ума вам нравятся стихи, – вклинившись в ближайшую
паузу, сказал Жора. По формальным признакам эта ремарка не тянула на вопрос, но, несомненно,
подразумевала ответ. Жора частенько использовал такие словесные удочки-«закидушки», чтобы
разговорить собеседника на интересующую его тему. Приём сработал безотказно и на сей раз:
Вадим посчитал необходимым не только сослаться на своего отца, который привил ему любовь к
стихам, но и стал, сам того не замечая, погружаться в пучину уточняющей терминологии:
– Нравятся – не совсем точное определение, пожалуй. Мне интересны стихи как плод
размышлений или умственных мучений поэта, как главы в его собственной судьбе.
– То есть это может быть вовсе и не поэзия? – подсказал Жора. – «Преступление и
наказание» – чем не плод мучений?
– Нет-нет! – воскликнул Савченко. – Проза – совсем другое дело. Проза – это как
полиэтилен, это бесконечное повторение одной и той же молекулярной решётки. Полиэтилен, то
бишь роман, к примеру, Гончарова или Тургенева никогда не кончается. Герои в нём могут
жениться или умирать, разбогатеть или разориться, но повествование длится бесконечно, как
лента полиэтилена на конвейере. Все эти описания дуба у Толстого, облаков над Аустерлицем,
потёртых сюртуков на героях… Этому нет конца, это можно длить до бесконечности. В математике
тоже это есть – существует такая дробь в периоде. Поделите десять на три – и вы получите такой
математический полиэтилен-прозу – три и три в периоде. И к тому же в прозе низкая плотность
мысли. А поэзия – это скорее математическое уравнение, и очень насыщенное если не мыслью, то
хотя бы эмоциями. Например, «Жди меня» Симонова. Что здорово, в каждом стихотворении,
даже не самом талантливом, есть стержень, какой-то магнитный сердечник – индуктор, через
который идут электромагнитные токи, наконец, попросту какая-то законченность. Оно компактно,
оно, слава богу, всегда заканчивается, и разные его части согласованы друг с другом рифмой.
– Вы меня испугали и запутали, Вадим Борисович, – с хитринкой сказал Жора. – Испугали
потому, что я с математикой и физикой не в ладу, подозреваю, что и моя дочь тоже. На такие
глубины абстракции гуманитарии, увы, не посягают. А запутали, потому что я так и не понял, что
вас больше привлекает – стихотворение как форма, как изящное уравнение, с которым вы его
только что изволили сравнить, или всё-таки автор оного с его изломами души или, не дай бог,
даже некоторым негодяйством.
Жора невольно стал стилизовать свою речь под манеру девятнадцатого века, чтобы
удержаться на одной интеллектуальной высоте с этим странным выскочкой из народных глубин.
Может быть, его подзуживало к этому молчаливое восхищение Ляли, которая, отхлебнув вина
чуть больше, чем диктовали правила приличия, теперь с безмолвным интересом, даже не пытаясь
стать участницей разговора, следила за словесным турниром двух мужчин, каждый из которых
был по-своему ей близок. Даже мать в брючном костюме юной модницы, с интересом глазевшая
на гостя, перестала её раздражать.
– И то и другое, – подумав какую-то секунду, ответил Савченко.
– Примеры, Вадим Борисович! – Жора тоже завёлся, хотя и не подавал виду. Ему
захотелось выиграть этот гладиаторский турнир интеллектов на виду у жены и дочери.
– Примеры найдутся, и очень интересные, – с упрямством студента, доказывающего
хорошо выученную теорему чересчур въедливому профессору, ответил Савченко. – Скажем,
«Гренада» Михаила Светлова. Я читал, что он хотел написать что-то сентиментальное,
мелодраматическое – этакую балладу, цыганщину на испанский манер. А получилась трагедия.
– Трагедия? В чём? Погибает главный герой? – Жора, интуитивно угадывая свою роль
умудрённого годами ментора-резонёра на этом пиршестве словес, попытался вывести своего
оппонента на заданный ответ.
– В том-то и дело, что нет! – воскликнул Савченко излишне громко, на секунду забыв о
том, что он в гостях. – Трагедия у самого Светлова, – добавил он значительно тише. – К кому
обращены вот эти строчки: «Не надо, ребята, о песне тужить… Не надо, ребята, не надо, друзья…»
Это же заклинание! – Савченко опять невольно с горячностью повысил голос. – Он словно
пытается доказать себе что-то, во что сам не верит, обращаясь якобы к «ребятам». При этом и сам
в свои заклинания мало верит – иначе зачем их повторять снова и снова?
– Но, может быть, в этом и смысл? Наша жизнь вообще состоит из заклинаний…
Жора хитро улыбнулся той особой улыбкой авгура, которую он обычно приберегал для
западных партнёров по переговорам, когда, исчерпав резоны и аргументы и давая понять своему
визави, что пространства для манёвра не осталось, он прибегал к спасительной словесной ссылке
на «ленинские принципы советской дипломатии». Британцы и французы при этом отвечали
всепонимающей (Жора про себя называл её «порнографической») улыбкой, а немцы и
американцы начинали кипятиться, не в силах принять того, что против идеологического лома нет
приёма, и тема разговора с советским дипломатом, собственно, исчерпана. Савченко то ли по
молодости, то ли в силу идеологической девственности, конечно, не уловил скрытого сарказма.
– Смотря что призывать заклинаниями! – убеждённо проговорил он, и Жоре стало немного
стыдно за свой цинизм.
– Заклинание «Жди меня, и я вернусь, всем смертям назло!» это одно! А если у хлопца
проснулась испанская грусть и он призывает смерть, как в гипнозе: «Но мы ещё дойдём до Ганга, но мы ещё падём в боях, чтоб от Японии до Англии сияла Родина моя», – то кому адресовано
заклинание? Тому, кто шепчет под пулями «жди меня»?
Валентина, которая с повадкой вышколенного официанта подкладывала спорщикам
долму, снова насторожилась. Гость, в своём математическом неведении, подошёл слишком
близко к опасным рубежам, за которыми гуманитарные вопросы становились политическими.
– На правах хозяйки стола объявляю следующий тайм-аут! – заявила она твёрдо. –
Уважаемые любители поэзии и нелюбители заклинаний, вернитесь мысленно с берегов Ганга за
этот стол и давайте перейдём от армянского блюда к вполне русскому. Отведайте домашних
пельменей.
Она выразительно посмотрела на Лялю, и та с избыточной суетой стала угощать Вадима.
Валентина, с женской осторожностью уходя от скользкой темы гражданственности в
поэзии, нежно проворковала:
– Вам, кажется, понравились пельмени, Вадим?
Савченко по-светски, но вполне искренне признался в любви к сибирским пельменям,
присовокупив, что его бабушка родом из Новосибирска.
Жора, доброжелательно и с обострённым интересом поглядывая на гостя, веско сказал:
– Теперь я понимаю, почему этот студент из ГДР сделал вам именно такой подарок.
Удивительно, правда, что наши друзья из первого государства рабочих и крестьян на немецкой
земле (он снова, как и при слове «заклинания», улыбнулся) делают такой неочевидный выбор,
публикуя поэта непростой судьбы. Может быть, Хонеккер больший любитель поэзии, чем
покойный Ульбрихт.
Он снова улыбнулся, и до Савченко наконец дошло, что в ремарке есть свой сокровенный
и чужим недоступный смысл. Он почувствовал, что невольно прикоснулся к чему-то
неосязаемому, что носится в московском воздухе, не оседая на страницах газет, но
материализуется в таких вот домах, каких в Изотовке нет и не предвидится, – где явственно
присутствие вольтовой дуги власти и где имя Ульбрихта звучит как имя близкого родственника.
Он вспомнил скромные, но весёлые застолья в малогабаритной «хрущёвке», на которые
собирались коллеги матери…
– Но, может быть, вы слишком пристрастны к поэтам, то есть к их собственным
человеческим слабостям, порокам, наконец? – Жора опять не удержался от того, чтобы исподволь
задать вопрос, ответ на который мог бы поглотить весь остаток вечера. – Пушкин, скажем, был
азартный картёжник и наделал кучу долгов. Да и сам он писал что-то этакое:
О люди! все похожи вы
На прародительницу Эву:
Что вам дано, то не влечёт;
Вас непрестанно змий зовёт
К себе, к таинственному древу;
Запретный плод вам подавай,
А без того вам рай не рай.
Цитирую фрагментами по памяти. Согласитесь со мной, – продолжил Жора весело, – и мы
закончим диспут о поэзии.
Савченко молчал несколько секунд, будто вслушиваясь в отголосок последнего
музыкального аккорда, но Ляля, на которую под воздействием выпитого снова снизошло какое-то
алкогольное озарение, кожей ощутила, что он, по своему обыкновению, собирается с мыслями,
будто разгоняясь с высокой горки: «Да, я стала слишком хорошо его ощущать, даже без слов.
Проникновение, согласование гормонов», – опять пронеслось у неё в голове, и она сама
испугалась, как бы не выдать свою сокровенную тайну мимикой или нечаянным выражением
глаз.
– Я готов простить любому поэту его минутную ничтожность или мелочность, особенно
если в основе её безденежье. – Он вдруг вспомнил холодный люминесцентный свет ламп в
пустынном спортзале. – Но мне неуютно, когда поэт жизнь – особенно не свою, а чужую, –
насильно превращает в теорему, у которой обязательно есть доказательство, и причём только
одно! Поэзия не подразумевает доказательство теоремы, в лучшем случае она пытается её
сформулировать – для этого есть математика. Не дай бог поэту вообразить и увериться в том, что
любая гипотенуза короче двух катетов! В математике это просто – цифрам не больно! А в жизни
поэзия – это и есть жизнь чувств – гипотенуза сплошь и рядом длиннее двух катетов или хотя бы
равна им. Или стремится быть равной им. А если одному катету хочется стать гипотенузой, а
другому всё равно? В жизни и у катетов, и у гипотенузы есть душа – вот о ней поэты и должны
писать.
Пока Савченко поглощал вторую порцию пельменей, стараясь не торопиться и ловя на
себе ироничные взгляды Ляли, не забывшей его тайных фобий провинциала в том, сколько
подобает есть в гостях, Валентина бесшумно принесла вазу с эклерами, которые всегда были её
коньком, беспроигрышным вариантом в любом застолье:
– Если вы когда-нибудь устанете от точных наук, у вас всегда есть в запасе поприще
литературного критика, – с какими-то новыми, не очень знакомыми Ляле интонациями в голосе
проворковала она. – Вас не будут любить поэты по двум причинам: во-первых, вы одним своим
видом будете напоминать им Есенина, а это уже живой укор. (Ляля с трудом удержалась от
уязвлённой гримасы при этих словах.) А во-вторых, вам всегда будет что им сказать. И я не
уверена, что они найдут что ответить. Но пока вы не избрали такое беспокойное поприще, давайте
поднимем бокалы – при условии, что наш хозяин снова наполнит их, – за разность гипотенуз и
катетов в нашей жизни. За то, чтобы у нас всегда были варианты. У вас ведь, Вадим,
распределение не за горами. Пусть вам сопутствует удача.
– Значит, вы стоите на пороге вполне взрослой жизни, Вадим Борисович, – легко, гораздо
легче и беззаботнее, чем он только что говорил о стихах, – бросил Жора как бы вскользь,
покачивая лёгкими круговыми движениями в бокале недопитое густо-бордовое вино. – Ляля
давеча пообещала вслух, что если все мы проживём достаточно долго, то ещё сможем полетать
на пассажирских самолётах ваших конструкций. Или вас больше привлекает служение богу войны
Марсу – истребители и штурмовики?
Вопрос был, конечно, «с заходом», причём издалека. Савченко, только что аккуратно
осушивший бокал вина и изготовившийся закусить его остатками пельменей, внешне
напоминавшими изящные женские ушки, прервал себя на полудвижении к ножу и вилке, чем
снова вызвал ироническую улыбку у Ляли; она вспомнила, как он сражался на турбазе с
содержимым тарелки при помощи двух алюминиевых вилок. Сегодня, конечно, он был в полной
готовности продемонстрировать застольный этикет – и столовое серебро, слава богу, в их доме
далеко эволюционировало от алюминия.
Савченко мимолётно, хотя и вполне серьёзно, задумался над заданным вопросом, прежде
чем дать, по своему обыкновению, развёрнутый ответ:
– Меня, честно говоря, привлекают новые разработки гораздо больше, чем внедрение уже
существующих. Поэтому хотелось бы заниматься именно этим. Если уж допустить то, о чём
говорила Ляля, то путь к собственной модели самолёта новой конструкции лежит именно через
НИИР. – Столкнувшись с непонимающим взглядом Жоры, он поспешил объяснить: – «научные
исследования и разработки». Именно там непротоптанные дорожки. Именно там можно создать
что-то принципиально новое. А внедрение, как я слышал от выпускников, – это сплошное
расстройство. То того нет, то другого не хватает. Начинают с элегантного решения, а заканчивают
какой-то несуразицей: подгоняют не материалы под техническую мысль, а технические решения
под имеющиеся материалы. А поскольку материалы – это такая… – С уст Савченко чуть не
сорвалось неприличное слово, но он вовремя спохватился.
Жора продолжал молчать, выжидательно глядя на гостя, – простая уловка, которая
работала почти всегда на переговорах в МИДе. Ну, пожалуй, только не с азиатами с Дальнего
Востока: те воспринимали молчание как знак к окончанию переговоров…
Но этот гость, современная инкарнация то ли Есенина, то ли Сикорского, слава богу, не
походил менталитетом на японцев или корейцев, разве что потенциалом честолюбия… Игра в
молчанку дала свои плоды – Савченко продолжил ветвистую цепочку причинно-следственных
связей:
– Но НИИР тоже не мёд. И в этом вся проблема.
– Какая именно? – Жора знал, что на подсознательном уровне лаконичный вопрос
вероятнее даст развёрнутый ответ.
– Проблема в том, что все средства – нет, не все, конечно, но большая часть – выделяются
под военные разработки. Гражданское самолётостроение, если честно, – бедная Золушка на балу,
где в основном пируют оборонные КБ и предприятия. Магистральные самолеты «Аэрофлота» –
это близкие, но бедные родственники стратегической военной авиации или, на худой конец,
бомбардировщиков средней дальности или транспортников. Никто и нигде не будет специально
заниматься разработкой пассажирских самолётов: для этого нет материальных стимулов. В
оборонке и зарплата повыше, и квартиры дают быстрее, и в ведомственный санаторий летом
можно съездить. Отсюда и разница в уровне специалистов. Хорошо ещё, что в авиастроении
можно легко адаптировать планер для гражданских нужд – достаточно установить ряды кресел и
сделать несколько выходов. А в принципе… Корпус тот же, что и в бомбардировщике, двигатели и
навигационные системы менять не нужно. Простое решение. Автопрому, например, гораздо
сложнее. Там та же ситуация. Мой одноклассник собирается распределяться на Минский
автозавод после политеха, он мне рассказывал, как большегрузные тягачи: МАЗы, ЗИЛы, Уралы –
сделаны более-менее на уровне, потому что продукция идёт вначале в войска, а потом уже в
колхозы или стройтресты. А с легковушками беда. С «Запорожцем» бьются уже лет семь, а толку
нет и, кажется, не будет. Автомобилестроители, в отличие от нас, не могут взять шасси, скажем, от
ЗИЛа и посадить на него кузов легковушки. Что, кстати, пример «Запорожца» и доказывает: завод
ведь раньше был тракторный, это его недавно перепрофилировали. А мне хотелось бы
потрудиться над оригинальной гражданской разработкой. Знаете, наш ответ американской
модели «Боинг-747». Двухэтажный пассажирский широкофюзеляжный самолёт – вот это вещь!
Вот бы сделать что-нибудь подобное!
– «Боинг-747»? Как же, слышал и читал в «тассовках», то есть в новостных лентах ТАСС, –
целомудренно поправился Жора в ответ на непонимающий взор гостя, – а мой коллега даже
видел его, что называется, вживую в аэропорту Лондона. Сказал, что впечатляет – этакое
чудовище в небе, и пассажиров в нём столько, сколько в целом поезде. Вам бы, конечно, как
профессионалу было интересно увидеть его воочию… Итак, чего вам хочется, понятно. А что вам
можется? Иными словами, куда на практике лежит ваш путь? – спросил Жора с такими
обертонами в голосе, что Савченко понял: вопрос задан не из праздного любопытства.
– Да, мне, как говорят мои однокурсники, параллельно. Везде есть интересные проекты.
Подозреваю, что в какое-нибудь закрытое КБ. Один из вариантов – КБ имени Хруничева здесь, в
Москве. Если дадут прописку, а потом жильё.
В конце вечера, когда все вышли в большую прихожую, всегда удивлявшую Вадима
яркостью освещения, пока он, нахлобучив шапку на голову и пытаясь одновременно попасть
руками в рукава зимней куртки, а ногами – в ботинки, Жора, с непроницаемым видом
наблюдавший эту сцену, вполне по-отечески сказал:
– На прощание как благодарность за наш такой интересный диспут у меня есть для вас,
Вадим Борисович, интеллектуальный ребус – загадка, если угодно, задание на дом. О Булате
Окуджаве слышали?
Получив утвердительный ответ от Савченко, который одолел-таки свою куртку и сейчас, застегнув молнию, заинтересованно застыл в ожидании, – Жора продолжил:
– У него есть, такой, знаете ли, «Сентиментальный марш». Довольно известный – уверен,
что вы слышали. Так вот, Вадим Борисович, там есть одна несуразность в тексте. Не буду утомлять
вас текстом целиком – достаточно концовки:
Но если целый век пройдёт, и ты надеяться устанешь,
Надежда, если надо мною смерть распахнёт свои крыла,
Ты прикажи, пускай тогда трубач израненный привстанет,
Чтобы последняя граната меня прикончить не смогла.
Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся,
Какое б новое сраженье ни покачнуло б шар земной,
Я всё равно паду на той, на той единственной Гражданской,
И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной.
Так вот, Вадим Борисович, расшифруйте дома, используя вашу недюжинную
математическую логику, простую загадку, которая в основе этого образа: «Комиссары в пыльных
шлемах…» О чём это? Только чур уговор: решите этот ребус сами, без помощи сокурсников МАИ.
Образы, знаете ли, таят в себе опасные смыслы подчас. И это, мне кажется, тот самый случай.
Савченко снова, как и при упоминании Ульбрихта в начале вечера, почувствовал, что
случайно обнаружил какую-то ведущую в подполье или лаз важную дверь, закрытую на хитрый
замок, – дверь, о существовании которой простодушные обитатели Изотовки не догадывались –
или им было всё равно.
– А когда – не если, а именно когда, – с твёрдой, начальнической ноткой в голосе
завершил фразу Жора, – решите этот ребус, подскажите решение Ляле. Она его, по-моему, тоже
пока не знает, просто не задумывалась над ним. Но и ей будет интересно.
Глава 8
Жизнь состоит из множества мгновений…
Ляля слишком хорошо знала отца, чтобы ждать от него немедленной реакции на
смотрины её первого молодого человека. Но, по той же логике поведения Жоры, которую она так
хорошо изучила с детства, не сомневалась в том, что реакция последует – и не просто реакция, а
аналитический обзор в присутствии Валентины, но без активного словесного участия с её стороны.
Отец, конечно, всегда заранее согласовывал общую позицию с мамой, но на этих семейных
советах, которые он не без юмора называл «малым Совнаркомом», родительскую позицию всегда
оглашал он сам, при молчаливом, подразумевающемся согласии со стороны Валентины. Так
было, когда он давал Ляле инструкции о поведении перед поездкой с поездом дружбы в
Чехословакию, а ещё раньше, в её пионерском возрасте, перед тем, как отправить дочь в «Артек».
Формат был устоявшимся и не менялся в зависимости от тематики: они усаживались за большой
обеденный стол, причём Жора всегда сидел напротив дочери, лицом к лицу с ней, а Валентина –
за тем же столом, на отцовской стороне, но чуть сбоку, словно не имеющий права голосовать член
Политбюро. Когда Ляля подросла до уровня понимания того, какие пружины и каким именно
образом работают в настоящем, том самом Политбюро (Жора весьма обстоятельно и откровенно
просветил её на этот счёт в начале школьных каникул после восьмого класса, на даче, подальше от
стен и потолков, когда они собирали малину, время от времени лениво отмахиваясь от пчёл),
Ляля при следующей оказии предложила родителям переименовать их «малый Совнарком» в
«малое Политбюро». Жора весело рассмеялся, с готовностью похвалил её за то, что она стала
мыслить взрослыми категориями, после чего, всё ещё полушутя, процитировал Алексея
Константиновича Толстого:
Ходить бывает склизко
По камешкам иным,
Итак, о том, что близко,
Мы лучше умолчим.
И умная Ляля поняла, что её идея осуществится, если вообще осуществится, только когда и
если Политбюро разделит историческую судьбу Совнаркома.
На этот раз «малый Совнарком» собрался весьма оперативно – на следующий день после
визита Савченко. Отец шутливо, постучав чайной ложечкой по розетке с айвовым вареньем,
объявил заседание открытым и сказал, что на повестке дня три вопроса: впечатления, которые
оставил о себе юный авиаконструктор, перспективы его карьерного роста и «разное».
Ляля по-детски беззаботно жевала золотистый, неправильной формы кусок айвы из
варенья, пытаясь понять, как бы охарактеризовал егерь его геометрическую форму – додекаэдр
или октаэдр? – и за беспечным хихиканьем пытаясь скрыть волнение. Мнение отца в семье
считалось решающим, и она это знала. Жора, в лучших традициях дипломатического дискурса,
начал, что называется, за здравие:
– Ты знаешь, дочь солнечной Армении, наш вчерашний визитёр меня обнадёжил. Не
перевелись ещё умные головы на Руси! А именно: в провинциях! Я готов отдать десяток
столичных хлыщей из московских спецшкол за одного такого парадоксально мыслящего – но
мыслящего! – Здесь Жора по-лекторски поднял палец вверх, – провинциала-знатока поэзии. Тем
более что он весьма выборочно относится к поэтам. И подчас даёт довольно резкие оценки. Я,
наверное, пристрастен и, грешен, питаю слабость к дерзким и самоуверенным провинциалам. «Из
грязи в князи» – в этом что-то есть! Твой пришелец из Изотовки – это, как выражаются наши
потенциальные противники по ту сторону океана, – классический underdog. Из такого
человеческого материала в условиях загнивающего и умирающего капитализма получаются
министры финансов, а то, глядишь, и президенты. Которые, кстати, силой своего интеллекта и
спасают в энный раз капитализм от неминуемого краха. – На лице Жоры играла сардоническая
улыбка, которая, в более слабой версии, отразилась и на лицах Ляли и Валентины. – И здесь мы
вплотную подходим к нашей проблематике – той, что по эту сторону океана. А именно: каковы
реальные перспективы этого апологета аэродинамики и ярого оппонента тех, кто «с детства не
любил овал, кто с детства угол рисовал»?
Жору, как это часто с ним бывало, увлёк поток вдохновения, и он со скрытой досадой
пожалел, что эти строчки Когана не пришли ему в голову вчера во время поэтического диспута.
– Завод Хруничева – из того немногого, что я знаю, – это космос. Космос – это секретность,
допуски и статус невыездного. Что мало бы меня беспокоило применительно к кому угодно
стороннему. Но у меня зреет и даже вызрел вопрос, о дитя нервной и сторожкой
дипломатической среды! А какие отношения у тебя с этим молодым человеком? – И Жора очень
пронзительно посмотрел на дочь.
Ляля знала этот взгляд отца и была уверена с того момента, как затеяла весь этот визит, что
ей придётся вынести эту непростую очную ставку.
– Отношения? – как можно более ровно эхом откликнулась она. – Дружеские. На уровне
послов. Он ведь интересный, неординарный человек. Ты, по-моему, сам это сказал.
Жора этого не говорил, но Ляля знала, что лучшая защита для неё – это нападение, и
словечко «неординарный» – прямо из лексикона егеря! – пришлось очень даже кстати.
Жору не удалось сбить с темы: он знал, что ставки потенциально могут быть очень высоки:
– Дитя моё, – несколько язвительно среагировал он, – у меня целый отдел интересных
людей. При соответствующем усилии их можно даже назвать неординарными. Но я совсем не
торопился бы открыть им двери своего дома. Или представлять их в объятиях, скажем так, моей
дочери.
Ляля моментально, как в пинг-понге, сообразила, что на «объятия» нужно реагировать, и
причём немедленно. Секундная задержка с ответом с её стороны была бы смертельно опасна: кто
знает, куда могли их завести эти физиологические подробности!
– Причём здесь объятия?! – с хорошо поставленным изумлением воскликнула она. – О них
речь не шла и не идёт!
– Пока, – тут же, без паузы добавил Жора. – Пока не идёт. А дальше?
Ляля решила помолчать в надежде, что отец скажет что-нибудь ещё и ей не придётся
отвечать на вопрос. Но Жора наседал на неё в лучших традициях мидовского переговорщика. –
Этот вопрос беспокоит не только меня, но и мать.
Валентина, доселе сидевшая безмолвно, сказала с некоторой долей заученности:
– Ты сама определилась со своим отношением к нему? Со своими чувствами, если они,
конечно, есть?
– Вот именно, – подхватил Жора, – об этом и речь. У тебя это что-то серьёзное? Ты сама что
обо всём этом думаешь?
– Не знаю, – ответила Ляля и сама удивилась, насколько её ответ близок к истине. – Мы с
ним болтали как-то там, на Чегете, и он рассказал мне о казусе кота Шрёдингера. Вот и моё
отношение – это такой кот.
Жора и Валентина озадаченно посмотрели на дочь, и той ничего не оставалось, как
пуститься в подробные и путаные объяснения:
– Я, честно говоря, сама не до конца поняла, в чём смысл этого эксперимента с
воображаемым котом – так только, в самых общих чертах. А Шрёдингер – это какой-то
австрийский учёный, судя по всему, физик, по имени которого назван эксперимент. Эксперимент,
кстати, сугубо мысленный, в этом как раз для меня и трудность с его пониманием. Главный вопрос


