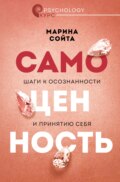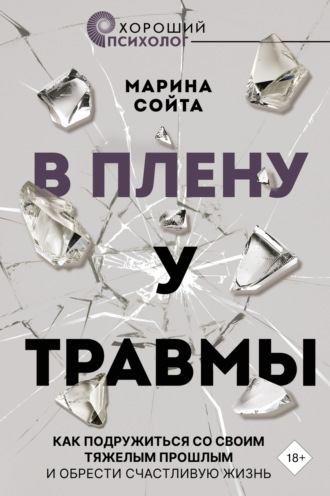
Марина Сойта
В плену у травмы. Как подружиться со своим тяжелым прошлым и обрести счастливую жизнь
Психотерапия травмы
Под предводительством исследований в нейробиологии, привнесенных в начале 2000-х в психотерапию Бесселом ван дер Колком, Дэном Сигалом и Луисом Козолино, и изучения привязанности в методах лечения травмы акцент постепенно сместился с извлечения памяти о событиях на наследие имплицитных воспоминаний (16).
Потому что то, как вы выжили, важнее того, как вы травмировались, о чем пишет Я. Фишер в книге «Исцеление фрагментированных личностей, переживших травму» (17).
Возможность выразить случившееся словами способна преобразить жизнь человека, однако это не всегда помогает устранить яркие болезненные воспоминания, улучшить концентрацию или способствовать большей вовлеченности в собственную жизнь и снижению чрезмерной чувствительности к разочарованиям и обиде (2, 219).
Памяти не обязательно восстанавливать все до мельчайших деталей для того, чтобы человек мог исцелиться (18, 67). Разговоры о травме, просто чтобы поговорить о травме, не являются основой работы с травматическим опытом, этот метод уже устарел.
Сам факт пересказа истории не может изменить автоматические физические и гормональные реакции организма, который продолжает находиться в состоянии повышенной бдительности, будучи постоянно готовым пережить в любой момент нападение или насилие. Чтобы произошли реальные изменения, тело должно понять, что опасность миновала, и научиться жить в реалиях настоящего (2, 28).
Текущие исследования не поддерживают метод раскопки воспоминаний в терапии. Для исцеления важны не содержание и детали воспоминаний клиента, а влияние этих воспоминаний на текущее функционирование (3, 66).
Классическая модель работы с травмой выглядит так:
1. Обеспечение безопасности и подготовка к переработке воспоминаний о травме.
2. Переработка травматических воспоминаний.
3. Реинтеграция – полное возвращение к нормальной жизни.
Эффективность этого подхода оспаривают – не доказано, что применение других терапевтических инструментов помимо переработки воспоминаний о травме или начало лечения с обсуждения проблем в повседневной жизни имеет негативные последствия (1, 134).
И даже если вы смогли, как это сделала я, поговорить о своей боли, и даже если вы получили какие-то ответы, и даже если вам сказали драгоценное слово «прости» – как жаль, что извинения от человека, имеющего прямое отношение к нашей травме, не меняет нашу нервную систему. Нашу нервную систему меняет новый безопасный опыт и его регулярное повторение, которое культивирует в нас новые способы реакции.
Наша основная задача – это применить знания о нейропластичности – гибкости нейронных контуров мозга, – чтобы перепрограммировать мозг и перестроить разум людей, которых жизнь приучила видеть в окружающих угрозу, а самих себя воспринимать беспомощными созданиями (2, 191). Если ваш мозг работает с помощью предсказаний и конструирования и перестраивает себя благодаря полученному опыту, то не будет преувеличением сказать, что если вы меняете свой текущий опыт сегодня, то вы в состоянии изменить, кем вы станете завтра (6).
Способность нового опыта бросать вызов тревожности и наследию травмы в виде имплицитных воспоминаний резко контрастирует с традиционным подходом в лечении травмы. Если просто постоянно вспоминать про пережитую травму на сеансах психотерапии, то это может лишь усилить зацикленность на ней (2, 40). Теперь целью терапии может быть не создание условий, в которых клиент сможет поделиться своей историей, а мы как терапевты станем просто свидетелями произошедшей трагедии, а создание нейробиологически регулирующей среды, вызывающей у клиента чувство безопасности (17, 83).
Для этого сам рассказ о травме не обязателен. Обязательно другое: возвращение своего тела к «заводским настройкам» – к ощущению безопасности, и осознание того, что ваши «патологические» реакции и симптомы – это стратегии выживания и стремления к жизни, а вовсе не свидетельство вашей дефектности или испорченности.
Мы целостны, а не сломлены; мы застреваем в наших переживаниях, но мы не становимся из-за них дефектными. Мы выживаем, но нам важно научиться новой информации:
• Изучить то, как еще можно жить внутри своего тела.
• Изучить то, как еще можно жить в окружающем мире.
И да, у нас нет возможности взять и удалить наше прошлое, навеки стереть его, переписать историю своей жизни. Но мы можем дать этому прошлому пространство и научиться жить с ним, не боясь его. Более того, мы можем горячо приветствовать себя в этом прошлом – и даже если сейчас вам кажется, что вы никогда не сможете перестать презирать и винить себя за какие-то вещи, я надеюсь, эта книга даст вам возможность взглянуть на свою историю, даже на самые мрачные ее части, иначе.
«Я тебе верю».
Какие сложные, какие драгоценные, какие преобразующие слова. Я возьму на себя смелость сказать, что каждый из тех, кто столкнулся с травмой, хотел бы услышать их.
Но для того, чтобы это произошло, необходимо признать то, что причиняет вам боль. Мы с моей сестрой, будучи детьми, даже не пытались этого сделать.
Травма не терпит слов. Она предпочитает молчание.
И мы молчали. Молчали, даже когда попадали в относительно безопасную обстановку. Молчали, потому что нас никто не спрашивал. Молчали, потому что молчание было нормализовано. Молчали, потому что боялись – или же потому, что считали: мы заслужили все то, что происходило с нами.
Любая травма лишает нас дара речи (2, 54). Это утверждение нейрофизиологично – исследования показывают, что при активации болезненных воспоминаний зона Брока (речевой центр мозга, связанный с нашей способностью вербально выражать мысли и чувства), по сути, «отключается».
Но я больше не хочу молчать.
Нам всем хочется жить в безопасном, контролируемом и предсказуемом мире, а жертвы ужасных событий напоминают нам о том, что это не всегда так. Чтобы понять психологическую травму, нам необходимо переступить через наше естественное нежелание сталкиваться с этой правдой и вырабатывать в себе смелость выслушивать слова жертв (2, 219).
Как психотерапевт, я слышу множество историй. Я слышу хор голосов храбрых людей, которые решаются говорить и спустя время начинают называть вещи своими именами и признавать свои чувства.
«Меня истязали в детстве».
«Изнасилование – это мой первый сексуальный опыт».
«Я никогда не слышал слов любви от своей родни».
«Мой отец ненавидел меня и прямо об этом говорил».
«Я лежала в детстве в больнице без родителей, и мне было очень страшно».
«Моя мама хотела сделать аборт и часто жалела вслух, что все-таки его не сделала».
«Меня били ремнем за каждую четверку».
«Мать наказывала меня тем, что тушила об меня сигареты».
«Мой дед насиловал меня».
«Меня очень рано отдали в детский сад, и я осознаю, что это было неподъемно для меня как для ребенка, – я так скучал по маме».
«Я регулярно слышал о том, что мое появление на свет – это ошибка».
«Мои родители наказывали меня молчанием».
«Меня сравнивали с каждым ребенком рядом со мной и говорили, что я хуже всех».
«Меня таскали за волосы и били головой о раковину за непослушание».
«Мать проявляла большую фантазию в наказаниях».
«Мой отчим меня домогался, а мать обвинила в этом меня и выгнала из дома».
«Мой папа употреблял наркотики, а мне нужно было прислуживать ему и его компании».
«Моим родителям не нравилось то, какая я, как я чувствую, чего я хочу, и я стала притворяться кем-то другим; теперь я чувствую, будто все время жила не своей жизнью».
«Дома было настолько невыносимо, что я сбежала и стала частью КСЭД[11] – и мне это даже нравилось, потому что меня впервые замечали. Я до сих пор думаю, что это было лучше, чем моя жизнь дома».
«Чтобы выжить, мне нужно было угождать».
«Мои одноклассники издевались надо мной после школы, и мне казалось, что это было заслужено. Я привык считать себя “чмом”».
«Мне нельзя было злиться, мне нельзя было плакать, мне нельзя было смеяться – мне можно было быть только удобным ребенком, который не отсвечивает».
«Мой старший брат называл меня “маленькая бл*дь” и распускал руки, а родители считали, что мы сами должны решать свои конфликты; он весил на 20 килограммов больше меня и всегда выходил победителем».
«Меня замечали только тогда, когда я побеждала на соревнованиях».
«Меня не пускали домой, если я делал что-то, на их взгляд, “неправильно”, просто не открывали мне дверь».
«Мои предки бухали, а я ухаживала за ними все свое детство».
«В течение нескольких лет я подвергался сексуальному и сексуализированному насилию, и никто об этом не знал».
«Я с самого детства знал, что я нежеланный ребенок».
«В школе меня гнобили за то, что я хожу в обносках».
«Моя мама была в депрессии и не обращала на меня внимания, я росла сама по себе».
«На меня орали каждый раз, когда я плакала».
«Я чувствовал себя самым одиноким ребенком в мире».
«Я был безразличен своим родителям».
«Мой отец бил и мою мать, и меня, и моего младшего брата, но мать так и не смогла от него уйти».
«Мой отец оставил меня с психоэмоционально нестабильной матерью и покончил с собой, когда я была маленькая».
И это малая часть разбивающих сердце историй, которых я касалась. Мне жаль, что вам есть что добавить в этот список. Я знаю, что это так, – и даже если ваша история кажется вам «незначимой» по сравнению с тем, что вы прочитали выше, каждый из нас в своей жизни сталкивался с травмирующими событиями. Мы рождаемся на свет в равнодушной Вселенной, где вероятность возникновения условий, благоприятных для нашего существования, минимальна, как верно замечает С. Пинкер в книге «Просвещение продолжается» (19, 525).
Но также я знаю, что некоторые из вас просто не помнят того, что с ними случилось, и это закономерно. У некоторых из вас, казалось бы, нет того, кто мог бы подтвердить всю тяжесть пережитого в прошлом.
Травмированные люди помнят одновременно и слишком мало, и слишком много (2, 203). Да, вы можете не помнить того, что происходило с вами, – но за вас говорит ваше тело. Ваши реакции. Ваше поведение. Ваши мысли о себе.
И каждому, каждому из вас я хочу сказать эти слова – но больше всего я хочу, чтобы вы научились говорить эти слова самим себе.
Я тебе верю. То, что произошло, было несправедливо. Никто не заслуживает такого. Ты не заслуживал такого. Ты имел право на счастливое детство. Истории других людей могут быть тяжелее твоей истории, но это не значит, что ты не имеешь права горевать о той жизни, которая у тебя была – и которой у тебя не было. Тебе нечего стыдиться. Это было болезненно и разрушительно.
Я тебе верю.
Я тебе верю.
Я тебе верю.
Стыд – это лед, который замораживает любую нашу тягу к жизни.
Уязвимость – это то, что способно растворить этот айсберг стыда.
Принятие – это то, что позволяет ему исчезнуть в океане близости и связи с другими людьми.
И хотя постоянное переживание травмы пугает и способно привести к саморазрушению, со временем отрешенность от окружающего мира способна принести еще больше вреда. Закатывающие истерику дети, как правило, привлекают внимание и получают необходимую помощь, в то время как замыкающиеся в себе дети никого не беспокоят, будучи обреченными по кусочку терять свое будущее (2, 83).
Мы можем быть принятыми только тогда, когда решаемся открыться. Иначе мы замыкаемся в себе, отрекаемся от мира и продолжаем писать историю травмы – уже собственноручно. И я была в числе тех, кто продолжал травмировать себя – уже без помощи своей семьи.
Диссоциация
Один из крестных отцов нейробиологии и психиатрии Пьер Жане ввел термин «диссоциация» для описания процесса расщепления и изоляции воспоминаний, которые он наблюдал у своих пациентов (2, 204). О причинах ее возникновения мы поговорим совсем скоро, обсуждая теорию структурной диссоциации; пока же предлагаю поближе познакомиться с этим важным для терапии комплексной травмы понятием.
Диссоциация – это дефицит внутренней и внешней осознанности, который связан с функцией мозга, отвечающей за не-знание. Это не-присутствие. Это не-обращение внимания. Это состояние, противоположное состоянию майндфулнес – изобилия внутренней и внешней осознанности, о чем пишет К. Форнер в Dissociation, Mindfulness and Creative Meditations (20). Это бегство оттуда, откуда нет выхода; взгляд со стороны, как будто это происходит с кем-то другим; «не я» (1, 51).
Диссоциация нарушает нашу способность быть осознанными. Mindflight (мысленное бегство) и Mindsight (мысленный взгляд) – это разные и, казалось бы, несовместимые процессы (3, 67). Но если ты диссоциирован, то ты живешь в двойной реальности: ты знаешь и не знаешь одновременно. Ты смотришь, и бежишь от этого, и снова смотришь – и снова бежишь, и это замкнутый круг.
Ты смотришь, но не видишь. Ты переживаешь, но не чувствуешь. И главное – ты продолжаешь бежать.
Эмоциональная нечувствительность и жизнь «на поверхности сознания» характерны для ПТСР и других травматических расстройств и препятствуют переживанию удовольствия и радости жизни (9, 70).
Диссоциация, так же как и нарушения нашей способности к саморегуляции, часто является следствием отсутствия здоровой привязанности в детстве. Когда тебе невыносимо знать то, что ты знаешь, или чувствовать то, что ты чувствуешь, то единственным спасением становится отрицание и диссоциация (2, 138). Поскольку состояние Д-привязанности сильно коррелирует с жестоким или плохим обращением, можно предположить, что диссоциация является не только выученным, но и адаптивным явлением, когда источник безопасности ребенка является источником опасности (1, 731).
Диссоациация – это адаптация. Это стратегия выживания. Это стремление нашей психики защитить нас. Да, у этой стратегии есть крайне дискомфортные и печальные последствия, но все же главным последствием является наше выживание.
Существуют связанные с травмой нейробиологические факторы, которые, по всей видимости, поддерживают диссоциацию. К ним относятся: нарушение регуляции оси гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников, недостаточная интеграция разных компонентов ЦНС, низкая согласованность ЭЭГ, слабое префронтальное торможение «эмоционального мозга», снижение объема гиппокампа и парагиппокампальной извилины (9, 239).
Симптомы диссоциации могут выглядеть по-разному – в зависимости от степени травматизации. К ним может относиться (9, 122–131):
• амнезия (невозможность вспомнить);
• нарушение критической функции (невозможность применить логический и рациональный подход к какому-то своему поведению, например к самоповреждению);
• нарушения когнитивного функционирования (например, концентрации внимания, планирования, суждения);
• утрата способности переживать и выражать эмоции и чувства (например, у переживших травму могут отсутствовать какие-либо эмоции по поводу собственного травматического опыта);
• утрата потребностей, желаний и фантазий;
• утрата моторных функций (например, частичный или полный паралич конечностей или всего тела, нарушения координации, потеря слуха, обоняния, вкуса, зрения, речи);
• утрата способности исполнения навыков (например, отчуждение от понимания, как готовить еду, заботиться о своем ребенке, справляться с рабочими обязанностями);
• утрата телесной чувствительности (более или менее глубокая утрата телесных ощущений – например, боли, голода, усталости);
• симптомы Шнайдера (галлюцинации, слышание голосов и т. д.);
• противоположные когнитивные оценки и восприятия людей, ситуаций и самих себя;
• фантазии и «грезы наяву» (например, фантазии по поводу своего «счастливого детства», хотя оно было совершенно другим);
• изменения в отношениях с другими (например, высокое мнение об одном человеке и одновременно сильнейшая враждебность к нему);
• изменения в аффективной сфере (резкие перемены настроения и эмоциональная дисрегуляция);
• самые разные телесные проявления: болевые синдромы, повторяющиеся неконтролируемые движения (например, тики, тремор, паралич), появление неожиданных сенсорных ощущений.
Эти симптомы могут сменять друг друга, могут чередоваться, а могут возникать параллельно. Мне знакомо больше половины симптомов из этого списка…
Долгое время я создавала мир, к которому будто не могла притронуться. Мир, полный нормальности. Успешности. Радости.
Безупречности.
Эта кажущаяся безупречность основана на знаниях, полученных в детстве – ведь с самого детства мы узнавали, какими нам нужно было быть, чтобы нас могли любить.
Но вас можно (и нужно) было любить не за поведение, соответствующее ожиданиям.
Вас можно (и нужно) было любить за то, кто вы есть.
Вы не обязаны быть той версией себя, которая больше всего нравится окружающим вас людям. Быть человеком, который действительно нравится себе, – храбрая, аутентичная, красивая стратегия. Но с самого детства мы выучили, какие части нас являются социально одобряемыми. Да, мы часть социума, и для его благополучия нам действительно необходимо поддерживать определенные правила поведения и следовать законам.
Однако многие из правил, которые мы до сих пор соблюдаем, направлены вовсе не на поддержание общественного порядка и расцветание сообщества. Они направлены на поддержание комфорта наших значимых взрослых – тех, рядом с кем мы росли.
Привилегия взрослого возраста – возможность учиться задавать вопросы самому себе и следовать за своими ответами. Чего вы хотите? Что дает вам чувство жизни? Каковы ваши желания за пределами ожиданий других людей? Целый мир, который существует за границами того, кем вам диктовали быть, ждет вас в свои объятия. Вы имеете полное, беспрекословное право быть самими собой.
Но в детстве мы не обладаем этой привилегией.
Чтобы меня любили, мне нужно было быть послушной, удобной девочкой, которая ходит по струнке, – с одной стороны, но в то же время яркой, неординарной, бесстрашной личностью – с другой. Совместить все это казалось невозможным. Эти условия взаимоисключали друг друга. И даже если происходило то, что соответствовало, казалось бы, маминым ожиданиям и требованиям, зачастую это приводило к драме.
Случай с куклой – ситуация, с которой началось распутывание цепочки логики комплексной травмы в моей жизни. Я упомянула его в терапии как доказательство невозможности соответствовать ожиданиям, выстроенным в нашей семейной системе, – а мой психиатр сказал, что в ответ на эту ситуацию вполне можно было столкнуться с ПТСР, особенно если бы эта ситуация произошла в более раннем возрасте.
И я задумалась.
Об этом случае мама помнит до сих пор. И она посмеивается, когда рассказывает эту историю. Это явление называется «критика формальна». Я не знаю, что это – формальная критика, отсутствие эмпатии, нежелание разбираться в эмоциях ребенка и в своем поведении, непонимание, как сильно она могла влиять на своих детей, но, как бы то ни было, ее реакция остается таковой до сих пор.
Наше детство было неразрывно связано с горными лыжами. Моя сестра занималась этим профессионально, она была (и остается) Спортсменкой с большой буквы, и я невероятно ею горжусь. Что касается меня, то я ходила на горнолыжку скорее чтобы быть под присмотром, нежели для реализации своих сильных сторон.
Годами мне твердили, что нужно побеждать – и что я, конечно, слабенькая и хиленькая, поэтому (здесь придайте голосу разочарованную интонацию) вряд ли от меня стоит чего-то ждать.
Снег на Камчатке тает поздней весной, и многие соревнования проводятся в марте и апреле. 1 апреля – мой день рождения, и часто соревнования соседствовали с ним либо проходили прямо в этот день.
В один из моих праздников я заняла 16 место из 16, и маминому разочарованию не было предела. Но однажды, лет в девять, я заняла призовое место. Кажется, второе. Или даже первое. И это было волшебно – наконец, наконец я воплотила мамины ожидания в жизнь! Мне до сих пор кажется, что эта победа была невероятно счастливым стечением обстоятельств (я весьма трезво оцениваю свои горнолыжные способности), но как же я была рада, узнав, что я в призах. И вот мне вручают грамоту и дарят подарок – огромную прекрасную куклу. Куклу, которая умеет разговаривать, – представьте себе мой восторг!
Мы приезжаем домой, ко мне приходит моя подружка – и, конечно же, мы начинаем играть. Кажется, кукла умела говорить теплое, красивое слово «мама».
Как иронично.
Эту куклу нужно было наклонить определенным образом для того, чтобы она заговорила. И вот мы наклоняем ее, а она говорит «мама», и вот мы наклоняем ее снова и снова, и это напоминает настоящее волшебство – эта кукла прекрасна, я сама ее выиграла, и у меня день рождения! Но реальность довольно быстро отрезвляет меня – спустя полчаса игры моя мама заходит к нам и раздраженно говорит: «Если вы не перестанете, я ее выкину». Вероятно, ее раздражает голос куклы. Или наш смех. Или ее похмелье. Или все вместе.
А дальше события разворачиваются стремительно – конечно, мы не в силах перестать; конечно, я надеюсь на лучшее. Я уже твердо знаю, что моя мама непредсказуема в своих угрозах: она может быть последовательной, а может и смягчиться.
Когда она учила меня читать, мне было три или четыре года. Это вновь был канун моего дня рождения. Я не дочитала до конца страницу «Волшебника Изумрудного города» (я ненавидела эту книгу и была очень рада, когда ее погрызла наша собака), и мама сообщила, что я должна отменить все приглашения на день рождения в садике, потому что я не заслужила праздника. Безусловно, стоит отметить, что праздники в нашей семье отмечались – и подарками, и гостями, и я за это благодарна. Но даже в том возрасте я уже была оптимистом (читайте – была осведомлена о непоследовательности родителя и предпочитала надеяться на лучшее), и в тот раз мои надежды оправдались. Мама смягчилась, праздник был, я выдохнула.
Жаль, с куклой ситуация закончилась ровно противоположным образом – едва мама вышла из комнаты, мы снова наклонили куклу, она снова произнесла своим волшебным девичьим голосом слово «мама» (интересно, кто озвучивает кукол?), и моя мама, услышав этот призыв, в гневе залетела к нам, забрала мой приз и, одевшись, унесла его прямо на уличную помойку – кукла была слишком большая для нашего кухонного мусорного ведра.
В тот день я поняла, что даже если я стану президентом, то я буду для нее президентом не той страны. И что нет никакого смысла воплощать мамины ожидания в жизнь – делай, не делай, это все равно может кончиться провалом.
В тот день я отказалась от оптимизма в пользу нигилизма.
Возможно, стоит поблагодарить этот случай за отчасти развязанные руки в построении моей судьбы. Хотя я не сторонник благодарности, когда дело касается травмирующих событий, но, пожалуй, цепочка из подобных ситуаций (большинство из которых я просто не помню) позволила мне в более взрослом возрасте создавать исключительно свои ориентиры в сфере ценностей – гуманистических, романтических, профессиональных.
Непоследовательность моей мамы заложила в нас с сестрой основы дезорганизованной привязанности.
Из-за негативного опыта, который я получала, даже делая все строго по правилам мамы, моя психика переключилась на избегающую стратегию – и еще очень долго именно этот тип реакции на стресс главенствовал в моем поведении.
Если моя детская часть делала ставку на позитивный исход и все-таки в какой-то степени даже решалась идти на конфронтацию – например, продолжала играть с куклой и не отменяла приглашения в садике, – то к началу подросткового возраста я поняла, что больше не могу себе этого позволить. Слишком болезненно мне давались неудачные исходы этой конфронтации.
А может, у меня просто появилось больше пространства для маневра. Я стала изобретательнее. Я стала умнее. Я стала гораздо больше лгать.
К сожалению, больше, чем наши провалы, мама ненавидела нашу ложь.
Обсуждая школьную жизнь со своими друзьями, я пришла к выводу: в детстве мы все будто жили в параллельных мирах. Каждый из нас старался приблизиться друг к другу, но мы будто упускали саму суть. Мы не могли поговорить о самом болезненном. Возможно, мы даже не видели в этом необходимости. Самое страшное было нормой – а мы редко говорим о том, что считаем нормальным.
Оказывается, для кого-то из нас нормой было сексуализированное насилие – причем со стороны членов семьи.
Оказывается, для кого-то из нас нормой был буллинг – причем со стороны учителей.
Для меня же нормой было то, что происходило дома. Мои друзья были осведомлены о том, что в семье у меня не все гладко, но подробностей никто не знал.
Одна моя подруга, вспоминая прошлое, как-то заметила: у вас в гостях всегда было очень холодно и даже будто бы ветрено. Мама любила открывать настежь балкон. И мне показалось, что это крайне меткая метафора для нашей семейной атмосферы.
Дом, в котором дуют ледяные ветра.
Одни и те же школьные события мы переживали по-разному. Приходя с родительских собраний, родители моих подруг ставили меня им в пример. На этих собраниях меня, как правило, хвалили разные учителя по разным предметам.
Но я ненавидела родительские собрания. Едва переступив порог средней школы, я начала избегать. Я подделывала оценки, вырывала листы из дневника, скрывала даты родительских собраний.
Потому что, как бы меня ни хвалили, никто не мог гарантировать того, что вечер закончится хорошо: часто мама возвращалась с них и все равно находила за что ко мне придраться.
Представляете, насколько это был разный мир? Конечно, моим подругам не нравилось, что их сравнивали со мной, – а кому бы на их месте это понравилось… но моя жизнь от этого не выигрывала. То, что для их родителей было достижением, для моей мамы могло выглядеть чем-то ничтожным. Малейшее неосторожное высказывание – о моем поведении или моей учебе – могло стать предметом острого домашнего конфликта.
Я помню, как все же старалась угодить маме. Ей нравились мои победы. Как-то выиграв олимпиаду по математике – кажется, городскую, – я поспешила к ней с этой новостью. А еще нам сказали в школе, что фотографии победителей олимпиад разместят на доске славы.
Я же преподнесла эту новость так: я выиграла олимпиаду, обошла всех мальчишек, а еще моя фотография теперь красуется на доске почета! Понимаете, да? Я немного обогнала события.
Что ж, моей маме зачем-то потребовалось на следующий день зайти в школу; конечно, там еще не успели оформить эту дурацкую доску; и мы разругались в пух и прах. Лгунья, врунья, враль, глаза б мои тебя не видели.
Через пару дней фотография моего лица сияла на школьной стене, но мне было совершенно все равно. Это ничего для меня не значило. Это просто стало причиной для очередного скандала. Я ненавидела эту доску вместе со всей ее славой и почетом.
Я пишу вам об этих событиях, и время от времени все это кажется мне таким незначительным. Ну поругалась ты с мамой. Большое дело. Ну выкинула она твою куклу. Сколько можно обижаться, ты же уже не ребенок. Ну лупила она тебя. И что, почти всех лупили. Ну называла тебя «дрянью». Да ладно, ты же справилась.
И в конце концов, ты и правда соврала об этой доске.
Удержание баланса между привычным с детства восприятием своего прошлого и взглядом на него со стороны – сложное дело. Я не знаю, какими эти события видите вы. Но я точно знаю, какими эти события вижу я как взрослый человек, задумывающийся о своих детях, и как профессионал, имеющий 10-летний практический опыт в психотерапии. И я точно знаю, как отнеслась бы к этим событиям, если бы мне о них рассказал мой друг или мой клиент.
«А может быть, я все придумал? Может быть, не так уж это и страшно?» – довольно часто слышу я в своей работе, когда дело касается взгляда на прошлое. И если мой клиент уже сам стал родителем, я прошу его провести мысленный эксперимент: поместить своего ребенка в те условия, в которых рос он сам. Это некий скан на реальность своего восприятия. И знаете, что, как правило, говорят мне мои клиенты, представив себе это и передернувшись от ужаса? «Я не хочу, чтобы мой ребенок когда-либо переживал что-то подобное». «Ему там не место». «Я не представляю, что бы я сделала, если бы это стало реальностью…» «Он такого не заслужил. Никто такого не заслужил».
Демонизация нашей истории и тех, кто имел к ней отношение, – это совершенно необязательно. Но признание нашей реальности и реальности нашего прошлого – совершенно необходимо.
Вы смотрели «Ла-Ла Ленд»? В конце этого фильма Дэмьен Шазелл – ставший самым юным лауреатом премии «Оскар» в категории «Лучшая режиссура» именно за работу над ним – использует параллелизм, рисуя другую, отличную от реальности, счастливую концовку романтической истории главных героев.
Я ходила в кино на этот фильм пять раз. Пять! И все эти разы я безудержно рыдала. Мой молодой человек считал, что это как-то связано с нашими отношениями (и мы и правда спустя пару месяцев на время расстались). Но мне кажется, все было гораздо сложнее. Рискну предположить, что с самого детства мне хотелось иметь параллельную реальность – ту, в которой мой отец все же жив и рядом с нами, ту, в которой мама более стабильна и доступна эмоционально, ту, в которой я дружу со своей сестрой, ту, в которой…
И я представляю себе, как – конечно же, под красивую и немного сентиментальную музыку – ход событий моего детства меняется. Папа проявляет чуть больше упорства, а мама оказывает ему необходимую поддержку в сложные времена. Он становится успешным, балует ее подарками, она сияет улыбкой. Она вновь влюбляется в него. Она дерзит, она великолепна, она остается собой – но направляет свою энергию не на разрушение и страдание. Он нежен, он внимателен, он счастлив любить ее. И нас.
Я представляю себе, как мы с сестрой держимся за руки, шепчемся в сторонке, храним секреты друг друга, совершаем шалости вместе и не разлучаемся. Она заводила – ведь она старшая, а я всегда рада ее поддержать. И мы возимся в грязи и в снегу, мы пачкаемся, мы веселимся, временами мы плачем, но каждый раз обретаем утешение. Мы раскованы, мы счастливы, мы свободны.
И даже если я привираю о таких мелочах, как фотография, которая уже появилась на доске почета, а мама узнает об этом – она с теплым смешком комментирует это открытие: «Что, заяц, решила поторопить будущее? Ты же знаешь, что тебе не нужно быть на доске почета для того, чтобы я тебя любила?»
В моих фантазиях нет безудержного количества денег, поездок за границу, брендовых вещей, другой внешности, другого характера, других способностей. Там нет даже другой социально-экономической обстановки: детство на Камчатке, несмотря на весь его вопиющий дефицит, не выглядело для меня как серые будни. Я была бы рада снова провести его там и тогда.
В моих фантазиях есть другая семейная система. Другие отношения между людьми. Чуть больше сочувствия друг к другу. Чуть больше внимания друг к другу. Чуть больше поддержки. Чуть больше любви…