
Полная версия:
Дана Арнаутова Год некроманта. Книга 1. Ворон и ветвь
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт
Встав, епископ протянул руку для поцелуя, сам учтиво склонил голову в ответ. Уже выходя, обернулся на герцога, обмякшего в кресле, прикрывшего глаза. И не мог не подумать, что цена жизней тысяч людей и благоденствия целой страны – жизнь одного человека. И несмываемый грех, разумеется. Но мало ли грехов на его, Домициана, совести? Кто может доподлинно знать волю Света и судьбу, уготованную созданиям Тьмы? И кто знает, не погибнет ли душа страны Домициана без фэйри куда вернее, чем с ними?
Одно он теперь понимал ясно: амулету фэйри недолго лежать без употребления. Уже потому, что трудно придумать лучший повод для войны с нечистью, чем убийство епископа. Особенно если епископ против этой войны. А Инквизиториум, разумеется, опять останется ни при чем…
Западная часть герцогства Альбан, баронство Бринар, монастырь святого Матилина
26-й день ундецимуса, год 1218-й от Пришествия Света Истинного
Едва скрипнула дверь, пропуская человека, пригнувшего голову под низкой притолокой, Женевьева, спрыгнув с кровати, кинулась к нему. Упав на колени, схватила темную руку с узловатыми пальцами и принялась покрывать ее поцелуями, торопливо лепеча:
– Где они? Прошу вас, светлый отец… Умоляю… отведите меня к детям. Дайте хоть посмотреть на них! Энни больна! Она не сможет без меня! И Эрек тоже. Прошу вас. Я все скажу, все сделаю, только дайте хоть взглянуть, хоть узнать…
– Успокойся, дочь моя…
Сильные руки вздернули ее, рыдающую, вверх, помогли дойти обратно до кровати, тем более что и идти было шага три: каморка, куда привели Женевьеву после допроса, от угла до угла насчитывала шагов пять-шесть. Вдоль длинной стороны едва умещалась маленькая кровать, на которой приходилось спать, поджав ноги. Впрочем, так было даже теплее, только живот мешал, и на вторую же ночь у Женевьевы начались судороги. На третью она просыпалась раз десять, растирая ледяные ступни, едва сгибаясь в отчаянно ноющей пояснице. А на четвертую и вовсе не заснула: ей все казалось, что где-то совсем рядом, за стеной, плачет и зовет ее Энни. Стоило задремать – и плач начинался снова. Женевьева лежала в полной темноте – масляную лампаду ей давали лишь на день, просовывая ее в то же окошко в двери, куда подавали еду, – и понимала, что сходит с ума. Разве можно услышать плач сквозь толстую каменную стену без малейшей щели? Но он был! Она могла бы душой своей в этом поклясться. И плакала девочка, тихо и жалобно…
– Успокойся, – повторил священник ласково и твердо, усаживая ее на кровать и опускаясь рядом.
Женевьева подняла заплаканное лицо и увидела, что этот тот самый, что разоблачил ее ложь на допросе. О, как она была глупа, отказавшись разговаривать дальше и приготовившись молчать даже под пытками, если понадобится. Ей ничего не сделали, просто отвели сюда и заперли в полном одиночестве. Дети! Ее дети…
Она набрала воздуха, чтобы умолять снова, но священник быстро поднял руку, останавливая поток просьб, уже готовый сорваться с ее губ.
– Разумеется, ты увидишь их, дитя мое, – сказал он негромко. – С ними все хорошо. Девочка и вправду нездорова, но мы позвали к ней монастырского лекаря. Ей нужен покой, тепло и целебные отвары. А еще, конечно же, молитва. Ведь ты молилась за нее, дитя мое?
– Днем и ночью, – прошептала Женевьева. – За нее и Эрека. Свет Истинный, в Тебе упование мое, к Тебе прибегаю во времена отчаяния и Тобой сердце утешается…
Она повторяла слова знакомой с детства молитвы, и они, казалось, рвались из сердца, выплескиваясь болью и страхом.
– Я вижу, ты истинная дочь Церкви, Женевьева. Твоя молитва глубока и искренна. Как же случилось, что Тьма опутала душу твою ложью? О, дитя мое, как я скорблю об этом.
Священник взял ее руки, у него были горячие, хоть и жесткие ладони, и Женевьева, давным-давно закоченевшая в этой подземной каморке и телом, и душой, едва не разрыдалась снова от этого простого жеста участия.
– Прошу вас, – снова повторила она униженно. – Дайте мне взглянуть на них. Хоть одним глазком. Я все расскажу. Я… просто не могу ни о чем думать, кроме них.
– Разумеется, ты их увидишь. Я сам отведу тебя. Бедная девочка… Служители епископского суда были слишком суровы с тобой. Увы, я уезжал и слишком поздно узнал об их решении разлучить тебя с детьми…
– Епископского? – повторила Женевьева, трепеща. – Так вы…
– Я инквизитор, дитя мое, – сказал священник по-молльски. – Светлый брат Арсений Каприччиола. Родился и вырос в Молле, как и ты. И я здесь, чтоб восстановить справедливость.
– Благодарение Свету Истинному, – прошептала так же на молльском, изнемогая от внезапного облегчения, Женевьева. – Инквизитор, да еще моллец… Что же вы сразу не сказали! О, отец мой… Я так виновата! Так раскаиваюсь… Я совершила грех, ужасный грех! Но мои дети, они ни при чем, клянусь Светом Истинным и Благодатью Его. Пусть поразит меня гнев Господень, если я солгу хоть в одном слове! Только, умоляю…
– Идем, дитя мое, – поднявшись, мягко проговорил инквизитор.
Его суровое лицо, тогда, на допросе, показавшееся Женевьеве таким неприятным, теперь освещала изнутри ласковая улыбка. Дрожа, Женевьева последовала за ним на трясущихся ногах, по-детски опасаясь, что дверь не откроется. Но та открылась, скрипнув, а в коридоре их ждал монах в теплом плаще с надвинутым на лицо капюшоном. Он поднял над головой факел, освещая путь, и повел их длинными темными коридорами наверх. Идти было тяжело: Женевьева отвыкла от движения за эти дни, и ноги все норовили подкоситься, но отец Арсений взял ее под руку, помогая… Только выйдя из очередного закоулка и прикрыв глаза от ударившего в них света, Женевьева поняла, что здесь, наверху, ясный день. Воздух был так свеж и благоуханен, что у нее даже в груди закололо, а потом потемнело в глазах и голова поплыла куда-то…
Женевьева очнулась, лежа на постели. Мягкой постели, застеленной чистым шерстяным покрывалом, а второе покрывало укутывало ее сверху от подбородка до пят блаженным теплом.
– Энни! – вскинулась она, умоляюще глядя на отца Арсения, что сидел рядом, глядя на нее с явной тревогой. – Я шла к детям! Где они?
– Они здесь, рядом…
Рука отца Арсения легла ей на лоб, показавшись раскаленной – Женевьева и не думала, что так замерзла, а ведь совсем не чувствовала холода.
– Они в соседней комнате, – сказал отец Арсений. – Ждут тебя. Слышишь голос?
Женевьева прислушалась. Действительно, из-за двери, простой деревянной двери, чуть приоткрытой, слышался голос. Эрек читал вслух «Роман о Лисе», давным-давно прочитанный им. Это было в Молле, целую вечность назад. Но неужели в монастырской библиотеке есть такое чтение?
Женевьева прислушалась. Вот Эрек закончил главу, и Энни спросила что-то тихим, но ясным голосом. А в комнате было тепло, за окном, забранным тонким прозрачным стеклом, пели птицы и утренний солнечный свет сиял, проникая во все существо Женевьевы и согревая, кажется, не только тело, но и душу. Она даже глаза прикрыла от облегчения, что дети – вот они. Живы, здоровы, в тепле и под присмотром. И не может быть, чтоб ей не дали повидаться с ними потом, какое бы наказание ее ни ждало. Она выросла в Молле, где инквизитора можно встретить чаще, чем зеленщика или молочника. И она точно знала, рассудком и душой, что Инквизиториум справедлив. Гораздо справедливее, чем местные священники епископата: грубые, смотрящие на нее свысока и насмешливо, не верящие, что она сожалеет о своем проступке и хочет снова стать верной дочерью Церкви. Неважно, что заслуженная кара ждет ее, дети не пострадают без вины…
– Я действительно не хотела, святой отец, – прошептала она, глядя в строгие, но исполненные понимания и сочувствия глаза инквизитора. – Там, в часовне, я только желала пересидеть ночь. Но дверь открылась, и вошел человек. Я не знаю его, клянусь. Ни имени, ни звания… Он выглядел как наемник. Или, может, бездоспешный рыцарь. И, кажется, он не отсюда. Черный как ворон, носатый, глаза – угли… Он колдовал… Осветил часовню колдовским огнем и расспрашивал меня о том, что я сделала. Сказал, что чтит старых богов, да простит меня Свет – я лишь повторяю его слова…
– Я понимаю, дитя мое, – мягко успокоил ее отец Арсений. – Продолжай, не страшись.
И она продолжила. И говорила, говорила, выплескивая весь накопившийся страх и стыд, что мучил ее все наполненные заботой о детях дни и бесконечные, полные раздумий ночи. Рассказывала о постыдном договоре, на который ее толкнуло отчаяние, об ужасе, что колдун назвал Охотником, и о песне, которую пела замерзающими от холода и страха губами, не зная, чего боится больше: что черный колдун погибнет – и Охота вернется за ней или что он спасется – и ей придется отдать не рожденное еще дитя.
– Разве ты не хочешь избавиться от ребенка, зачатого колдуном и нечестивцем Бринаром? – негромко и словно равнодушно спросил ее отец Арсений, не отрывая, впрочем, от Женевьевы внимательного взгляда.
– Как я могу, светлый отец? – растерянно удивилась Женевьева. – Ведь это невинное дитя, непричастное к делам своего отца. Да поможет мне Свет, я… уже люблю этого ребенка.
Она опустила глаза, стыдясь своего признания. Наверное, и правда нельзя любить отродье колдуна. Но ведь это ребенок. Теплый комочек, живущий у нее во чреве под сердцем. И, кажется, уже занявший в сердце то же место, что и другие ее дети.
– Я слышу, как он шевелится, – призналась она, снова поднимая глаза на инквизитора, чей взгляд явно смягчился. – Да простит меня Свет, но мне легче было бы отдать душу, чем этого малыша. Ведь он совсем беззащитен, отец мой…
– Разве? – все так же негромко и тяжело уронил инквизитор. – Как и ты, он под защитой Церкви, дочь моя. Ничего не бойся, дитя. Твое раскаяние так же чисто, как твои слезы… Разумеется, ребенок останется с тобой.
– А как же клятва, светлый отец? – прошептала Женевьева, мучительно прислушиваясь к голосам из другой комнаты, дверь в которую прикрыли, когда она начала рассказывать о случившемся в проклятую ночь. – Я дала клятву. Он… обещал погубить Энни с Эреком.
– Успокойся, дитя, – снисходительно улыбнулся отец Арсений, гладя ее по голове, как маленькую девочку. – Клятва, данная под принуждением, недействительна. Силой и Благодатью матери нашей Церкви я разрешаю тебя от нее. Ничего не бойся. Ты поедешь со мной в монастырь Инквизиториума, там наш целитель присмотрит за тобой. А когда придет срок и ребенок появится на свет, вся сила Церкви станет на вашу защиту…
– Благодарю… О, благодарю…
Женевьева запнулась, но все же спросила не о том, что боялась услышать:
– А Эрек… ведь он действительно…
– Убил барона? – подсказал ей отец Арсений. – Что ж, это деяние само по себе не похвальное, можно понять… Я назначу ему епитимью. Думаю, чтение и заучивание Книги Истины искупит грех. И работы в монастырском саду и на конюшне, пожалуй. Юноше благородного происхождения это послужит во смирение гордыни. Больше ты ничего не хочешь спросить, дитя мое?
Он смотрел на нее с такой понимающей улыбкой, видя насквозь, и Женевьева покраснела, прижав к загоревшимся щекам ладони и опустив взгляд: ей часто говорили, что глаза у нее бесстыжие, слишком смелые для порядочной женщины.
– Что… что будет со мной, светлый отец? – вымолвила она наконец с немалым трудом.
Молчание длилось долго. Боясь посмотреть в лицо инквизитору, Женевьева ждала, изнемогая от страха и надежды, пока наконец сверху не прозвучало:
– Покаяние, дочь моя. Покаяние, неустанные молитвы и служение Свету Истинному, милосердному в справедливости своей и справедливому в милосердии. До конца дней твоих я назначаю тебе за грех договора с Нечистым, совершенный от страха и в отчаянии, читать семь раз молитву о Благодати на рассвете и трижды – молитву об искуплении грехов в полдень. Каждый день, без изъятия. Разве что ты будешь сильно больна и не сможешь прочесть молитву вслух… Тогда прочти ее за пропущенные дни потом, когда выздоровеешь. Подавай щедрую милостыню каждый год в день своего греха, жертвуя деньгами или служением ближнему – как сможешь. Также вышей покров на алтарь с той сценой из Книги Истины, что укажет тебе священник, и укрась в меру своего достатка: без скупости, но и не отрывая необходимого от детей. Поняла ли ты, Женевьева?
– Да, – выдохнула Женевьева радостно. – И это… все?
– Все, – улыбнулся инквизитор. – Церковь не карает заблудших чад, что искренне хотят вернуться в лоно ее. Разве ты наказала бы своих малышей за проступок, совершенный от страха? Благодари Свет, дитя мое, что раскаяние твое истинно и своевременно.
– Не устану благодарить…
Женевьева склонилась к протянутой ей руке вставшего инквизитора, поцеловала ее благоговейно и преданно. В памяти мелькнули жуткие черные глаза незнакомца, чье имя она так и не узнала и – видит Свет! – желала никогда не узнать. Рядом были Эрек и Энни, отец Арсений даровал ей прощение, а под сердцем снова шевельнулся ребенок. Шевельнулся тревожно и сильно, но Женевьева вдохнула поглубже, положила руку на чрево и переждала резкий приступ боли, прежде чем осторожно спустить ноги с кровати, пройти несколько шагов – тяжелых от боли в распухших ногах – и открыть дверь в комнату, где ждали ее дети.
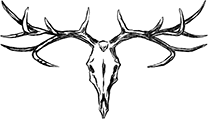
Глава 13
Флейта ланон ши. Предрассветные сны

Восток Арморики
25-й день ундецимуса, год 1218-й от Пришествия Света Истинного
В саду зеленом за дворцом,Резвясь и веселясь,Играли в мячик ясным днемТри сына короля…Склонившись над ретортой, он легкими движениями ладоней управляет огнем. Послушное пламя лижет стекло то сильнее, то слабее, а он мурлычет сосредоточенно, не обращая внимания ни на что, кроме бурления зеленоватой жидкости в реторте:
– Сестрица, мячик принеси, —Кричит принцессе брат.Помчалась девочка бегом,Но не пришла назад…Он часто напевает за работой, и тогда надо сидеть тише мыши рядом с голодной кошкой, чтобы, упаси Темный, не помешать. Впрочем, я и так стараюсь не торчать перед глазами лишний раз, только получается плохо: Керен смотрит на меня, когда ему нужно. А вот видит, кажется, всегда.
В реторте клубится мутная взвесь, зато в другой колбе, куда через стеклянный змеевик уходит драгоценный пар, на донышке собралось несколько прозрачных капель с едва уловимым зеленоватым оттенком. Зачем он показывает мне это? Все равно я так не смогу. Мне со своим даром даже подходить ближе пары шагов нельзя, чтоб эманации смерти не испортили зелье. Как-то я спросил. Он просто пожал плечами и терпеливо повторил в очередной раз, что лишних знаний не бывает. Вдруг, мол, пригодится? Я еще не знаю, что да – пригодится. Когда через несколько лет встречу Ури и начну учить его основам…
И вот тут я понимаю, что сплю. Ведь откуда мне знать про Ури – сейчас? И что это – именно сейчас? Где оно? Когда? Тихонько звякает стекло колбы – и я вспоминаю. Убежище Керена, тысяча двести четырнадцатый год от Пришествия Света Истинного, мне же – двадцать три. И я здесь восьмой год.
Вот теперь помню все, что будет дальше, и от обреченности становится тошно. Он снимает реторту с огня и затыкает горлышко пробкой. Значит, даже пары́ ядовитые… Отправляет змеевик в котел с горячей водой: это моя работа – отмывать все после его экспериментов. Поворачивается ко мне:
– Полей на руки, мальчик.
Молча встаю со стула, лью приготовленную воду на узкие, безупречно чистые ладони и пальцы. Струйки сбегают в чан, пахнет лавандой мыло… Я не смотрю ему в лицо. Может, обойдется? Но сон – невыносимо четкий и ясный – никогда не заканчивается иначе. Подаю полотенце, теплое, тоже пахнущее цветами. Он вытирает руки досуха, вешает его на крючок. До чего же невыносима его дикая, нечеловеческая аккуратность! Все всегда на своих местах, везде полная чистота и порядок, у каждой вещи свое предназначение. Вот полотенце – им вытирают руки. Вот стол – на нем только работают. А это – я. Ученик, поломойка, постельная игрушка… Ненавижу.
Он смотрит молча, слегка растянув губы в подобии улыбки. Потом хмыкает.
– Через час придешь в спальню. И вино захвати.
Уходит. Я стою, вцепившись пальцами в край стола, чтоб не заорать ему вслед, не выплеснуться грязной бранью на сияющую чистоту лаборатории, не расколотить что-нибудь бесценное… Наконец перевожу дух и поправляю ошейник: то ли правда жмет, то ли кажется. Приду, конечно. Куда я денусь? Час, значит, на подготовку… Ванну и прочее. «Чтоб ты сдох, – повторяю привычно, как молитву. – Чтоб ты сдох медленно, в муках, осознавая каждый миг. Чтоб ты сдох, Керен. Мне бы твое настоящее имя, а не этот огрызок. И час без ошейника покорности. Всего час! Хоть бы даже и этот – перед спальней».
Когда захожу, он лениво перелистывает книгу, продолжая напевать про принцессу Эллейн, украденную королем сидхе. Баллада едва ли на середине. Чайлд Роланд, младший принц, только выехал спасать сестру и двух старших братьев, успевших сгинуть без следа. С мечом из холодного железа против всех чар Волшебной страны! Дурак железнолобый, но сказочные принцы все такие. Странно… Получается, без меня он не пел? Я привык замечать все, что касается его: да-да-да, лишних знаний не бывает – уж это я запомнил. Кто знает, что может пригодиться? Не поднимая глаз от книги, он хлопает ладонью по кровати рядом с собой, словно подзывая собаку. Я ставлю вино и стаканы на столик рядом с маленьким золотым подсвечником, послушно сажусь, стараясь не прикоснуться. От него пахнет мятой, чабрецом и чем-то горьковато-смолистым, так что хочется вдохнуть полной грудью и держать этот запах в себе, пока хватит дыхания. Если закрыть глаза, покажется, что сидишь на летнем лугу, но не на солнце, а под полной луной – аромат холодный и резковатый.
– «Семь сказаний о камнях и травах» прочитал? – интересуется он.
– Да, – чуть хрипловато отзываюсь я.
– И как? Что понял?
– Что за могущество и знания надо платить. – Мой голос звучит мертво даже для меня самого. – И что если правильно спросить – ответит даже то, у чего нет голоса…
– Грель, за столько лет пора бы и привыкнуть, – неожиданно мягко говорит мой мучитель, откладывая книгу и откидываясь на высокую подушку у спинки кровати. – Не в первый же раз. Да тебе и самому нравится в итоге.
Он прав. От его правоты хочется свить петлю или воткнуть ланцет себе в горло, но ошейник, разумеется, не позволит этого сделать. Мне нравится. То, что начинается с отвращения, на удивление быстро переходит в удовольствие, заставляющее стискивать зубы, чтобы не стонать и не просить еще. Он знает меня до малейшего уголка: и плоть, и душу. Знает, как прикоснуться, что и когда сказать… И так каждый раз – от омерзения к наслаждению. И снова к омерзению, когда прихожу в себя. Я не златовласая принцесса. За мной не явится никакой Чайлд Роланд.
– Тебе двадцать три, Грель, – повторяет он то, о чем я думал недавно, как обычно, не обращая внимания, что я ничего не говорю. – Тело требует своего, как ни крути. Кого тебе здесь стыдиться, дурачок?
Вместо ответа я ровно, медленно и глубоко дышу. Сам научил, как сохранять равновесие. Только все прежние уроки вылетают из головы под внимательным взглядом ярко-зеленых глаз. Сегодня в них ни малейшего мутно-болотистого оттенка, как бывает, когда у него болит голова. И эксперимент, похоже, удался. Значит, все будет надолго и всерьез, до самого утра…
– Почему? – неожиданно для самого себя спрашиваю я. – Почему тебе не все равно, что я чувствую?
Он пожимает плечами.
– Было бы гораздо проще и приятнее, мальчик. Никаких искусанных губ, никаких слез в подушку – потом, когда ты уходишь.
– Я не плачу! – вспыхиваю я.
– Да, знаю. Давно не плачешь, – чуть криво улыбается он. – Научился. Это хорошо, как ты думаешь?
И, не дожидаясь ответа, продолжает:
– Завтра я уезжаю. На месяц примерно. Представляешь, столько времени – и без меня.
Улыбается уже по-настоящему. Ну да, у меня дыхание перехватило. Месяц свободы! Делать что захочу, спать в одиночку… Библиотека без присмотра! Лаборатория… Бывало такое и раньше, но роскошь редкая. И никогда – так надолго.
– И что? – интересуюсь осторожно.
Он закладывает руки за голову, вытягиваясь на постели, смотрит на меня долго, насмешливо.
– Хочешь – отпущу погулять? Наружу… Куда захочешь.
Я даже думать боюсь, что это всерьез. Мы, конечно, выезжали из убежища во внешний мир, и в последнее время даже нередко. Но он всегда был рядом, каждое мгновение. Рассказывал, показывал: от различий в одежде и говоре у встреченных людей до способов предсказания погоды или ловли рыбы. Учитель. Наставник, чтоб его. Пару раз мы гостили в богатых замках, где мастера Керена, ученого целителя, принимали с почтением, доля которого доставалась и его ученику. А иногда ночевали в лесу, и он водил меня к сверкающей в лунном свете реке, где плескались нагие девушки невыносимой красоты…
Будь это кто-то другой – я бы ждал этих поездок, словно чуда… Но он и тут все умел испортить парой слов, якобы случайным прикосновением на людях, ночью в дешевой гостинице с тонкими стенами, где даже стонать нельзя – разве что в подушку или в узкую ладонь, умело зажимающую рот. Наружу – одному? В лес, горы или в город – к людям! Не верю… Не верю такому счастью.
– Хочу, – сдержанно соглашаюсь я, хотя кого бы обманула моя сдержанность. – Отпустишь?
– Непременно, – улыбается он. – Только не даром. Прекратишь строить из себя недотрогу. Хотя бы на одну ночь. Согласись, одна ночь за месяц свободы – не так уж и дорого.
– А если не соглашусь? – проталкиваю слова сквозь пересохшее горло.
– Тогда ляжешь со мной просто так, как раньше, – хмыкает он. – И поедешь со мной – тоже как раньше.
Под его взглядом я опускаю глаза, стискиваю сложенные ладони между коленей. Одна ночь. Ну кого я обманываю своим ненужным сопротивлением? И какой от него толк? Восемь бесконечных лет, когда он не просто превращал меня в подстилку, но заставлял смириться с этим. Каждый раз мне все легче потянуть за шнуровку на рубашке, расстегнуть пряжку ремня. Каждый раз все проще и приятнее подставить ему губы и обнять, когда он приказывает. Только по приказанию! Но легче ведь. И мы оба это знаем. А месяц без него и в большом мире – не просто счастье свободы. Я бы мог найти другого колдуна, чтобы снять ошейник. Ну, хоть попробовать… И это окончательно перевешивает чашу весов. И я киваю, помня, что так уже было: однажды наяву и множество раз во сне – как сейчас. От этой мысли становится немного легче. Сон – это ведь не по-настоящему? Только вот проснуться не выйдет – это я тоже знаю.
– Хорошо, – просто и спокойно говорит он в ответ на мой кивок. – Вот и договорились.
– Что мне делать? – с трудом шевелю словно замерзшими губами.
– Успокоиться, – все так же серьезно, без малейшей издевки, отвечает он. – Не бояться: больно сегодня не будет. Сделать вид, что ты со мной по своей воле. И вообще – в первый раз. Если что-то не понравится – скажи, я перестану. Только не говори, что тебе не нравится все: не поверю.
На последней фразе он все же улыбается. Чуть-чуть и совсем не обидно. Сев, кладет мне руку на колено – я привычно сдерживаю дрожь.
– Перестань уже, – говорит он почти с сочувствием. – Я ведь знаю, что и как ты любишь. Хорошо, не ты, – поправляется сразу. – Не ты, а твое тело. Только решать все равно тебе, а не ему.
Снова кивнув, я непослушными пальцами тяну воротник рубашки, пытаясь распустить узел на шнуровке. Дергаю, затягивая еще сильнее. Через несколько мгновений его прохладные пальцы ложатся поверх моих, и я изо всех сил пытаюсь не скосить на них глаза. Смотрю на ковер, на так и не распечатанную бутылку вина – куда угодно, лишь бы не на него. На стекле бокалов играют блики от свечи… Вот же проклятье! И правда недотрога. Бордельная…
Ему даже мои пальцы на узле не мешают. Распускает шнуровку, помогает мне – неловкому, закаменевшему – стянуть рубашку. Обнимает за плечи, нежно и мягко притягивая к себе. Проклятье, тысячу раз проклятье! До чего же проще было, когда я мог прикрыться фальшивым несогласием. Как себя обманывать сейчас? Когда его ладони проходят по моей спине, мгновенно теплея, – и я не могу отодвинуться, только сжимаюсь.
– Тише, – шепчет он мне в ухо, грея его дыханием. – Я не буду торопиться. А ты можешь ко мне прикоснуться. Помоги мне раздеться. Пожалуйста. Если хочешь…
Если? Если хочу? То ли мир сошел с ума, то ли я. Его рубашка на ощупь мягкая, плотное льняное полотно обволакивает плечи, как лучшая замша. Обычный лен так не умеет, но ради него, сидхе-полукровки, старается… Любая вещь считает за счастье служить ему. Видимо, я все-таки не вещь. Этот узел под пальцами распускается легко и сразу. Перед тем как снять рубашку, провожу ладонями по его плечам, вдыхаю изменившийся запах. Розмарин, шалфей, зверобой и еле уловимый привкус розы – он научил меня отличать по запаху любые травы, хоть в питье, хоть в благовониях. Несложная наука, если у его спокойствия один запах, у желания – другой, а у дурного настроения – третий. Но такого запаха я не знаю – и от этого еще тревожнее. Светлые волосы, связанные в длинный хвост, рассыпались по спине. Можно распустить? Не рискну, пожалуй. У сидхе свой этикет, и я не помню, чтоб Керен распускал волосы в постели. Керен… Ну что, пора назвать его по имени? Он когда-то разрешил, как раз на такой случай…







