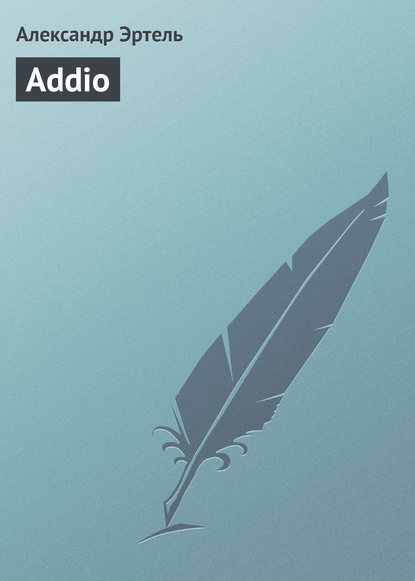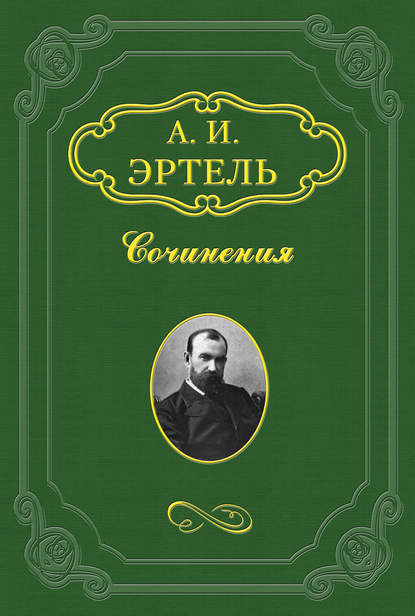Полная версия
Полная версияПолная версия:
Александр Иванович Эртель Крокодил
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Александр Иванович Эртель
Крокодил
Я познакомился с Крокодилом в Батеевке.
Но вы не знаете Батеевки? О, это славная усадьба, и хозяева ее славные люди. Кроме того, они либералы. Сам Петр Петрович даже в некотором смысле пострадал за свои убеждения, и пострадал, по его словам, из-за любви к мужику.
Что же касается до Олимпиады Петровны, – она не страдала за свои убеждения. Она только очень мило путала волосы Петра Петровича, когда он рассказывал о своем увлечении «теоретическим мужичком», и сладко восклицала: «О, мой романтик!» – на что Петр Петрович меланхолически улыбался.
Но теперь он уже не был романтиком. Он, по его словам, «раскусил» мужика и, отчаявшись в его лучезарности, обратился в образцового сельского хозяина. Но, вместе с тем, он, как и подобает просвещенному человеку, не забывал «принципов». Каждый сельскохозяйственный поступок свой, каждое свое распоряжение о починке хомута на счет неисправного рабочего или об изловлении мужицкой коровы, пожирающей его траву, он с усердием притягивал к возвышенным принципам. Так кучер притягивает друг к другу клещи неподатливого хомута, налегая на них коленом… А превозмогающим принципом был у него один: внесть в заскорузлую мужицкую душу идею порядка, черствого и сухого, как старая пятикопеечная булка, и посвятить этого мужика в очаровательные секреты культуры. Для этого («и только для этого!», – как уверял он) все его хозяйство было поставлено на «либеральную» ногу. Сохи и допотопные сабаны заменились рансомовскими плугами; ручной разброс семян уступил место механическому; неуклюжая молотилка, воздвигнутая крепостным изобретателем Федулаем, отстранилась в пользу паровой машины Маршаля… И так во всем. Изящные хомуты и шлеи, красивые фуры и вилы, окрашенные в однообразный зеленый цвет, – все это заклеймилось яркими номерами и поступило на руки годовых рабочих. Каждую субботу производилась поверка. Недостающая вещь моментально вползала в пассив злополучного батрака, и всякий разорванный ремешок неукоснительно отзывался на его бюджете.
Впрочем, иногда проверка производилась не самим Петром Петровичем, и тогда принцип страдал. Тогда происходило то, что рабочие называли: «Бить морду по номерам». Дело в том, что ключник Малафей, заменявший в таких случаях барина, имел какое-то неизъяснимое отвращение к отметкам в книге и всякий недостаток в инвентаре предпочитал возмещать руганью и мордобоем. И рабочие всегда радовались, когда суровый Малафей выступал на сцену, а мягкий барин, посвистывая, уходил в дом, откуда призывно неслись звуки шопеновской мазурки и либеральные разговоры неосторожными раскатами будили сельскую тишину.
Олимпиада Петровна деятельно помогала мужу. Она отвешивала рабочим хлеб, штрафовала коровниц, посещала кладовые и ледники, а в промежутках читала умные книжки и рожала здоровых и розовых детей, которых Петр Петрович величал «будущими интеллигентами».
Нужно ли добавлять, что Батеевы сторонились «консервативных элементов»? О да, – они их очень сторонились. Их общество по обыкновению состояло или из деловых, нужных людей, и тогда не редкость было встретить в щегольской батеевской гостиной прасола Уcтюшкина, или из господ образа мыслей самого возвышенного и даже благородного.
Вот у этих-то милых и передовых людей я гостил однажды. Олимпиада Петровна была в детской и производила с будущим интеллигентом какие-то в высшей степени либеральные манипуляции. Мы с Петром Петровичем сидели в кабинете и говорили о важных материях.
Но нам надоело говорить о важных материях. Мы начали курить, слегка вздыхая, и сосредоточенно поглядывали в окна. Не подумайте, однако же, чтобы за окнами было что-либо особенно примечательное. Там зеленел пруд, покрытый водорослями (дело было в июне), стояли ленивые березы, расслабленно поникнув ветвями, да синело бесконечное ласковое небо. Ближе пруда плотники рубили новую кухню. Синие и коричневые рубахи плотно облепили стены, и сверкающие топоры однообразно гремели.
– Чьи у вас плотники? – спросил я Петра Петровича.
– Э, да разве вы не слыхали! Это знаменитая Сазонова артель работает.
Я кое-что слышал об этой артели, но все-таки спросил:
– Чем же она знаменитая?
– Работники великолепные. Трезвость, смышленость, распределение труда, взаимные отношения – изумительнейшие.
– А вот вы все говорите… – не утерпел я, чтобы не упрекнуть Батеева. Но он вдруг взбеленился.
– Что я говорю?! Что?! – вскинулся он на меня, отрываясь от сигары. Человек я смирный, и мне его натиск показался неприятным.
– Всегда насчет мужика говорите как-то… – возразил я.
– Как я говорю? Я говорю, что стадо ваш мужик. Что без героя, без личности – поступать ему в архаические музеи. Вот что я говорю. Так на это я право имею. Я на своей шкуре… – Тут Батеев внушительно потряс отрепьями истерзанной своей альмавивы.
– А Сазонова артель?
– Что Сазонова артель?
– Да сами же вы говорите…
– Что я говорю?..
– Хвалите, и вообще… ну, превозносите, что ли.
– Так разве это потому я ее хвалю, что она артель? Какая она к черту артель. Она ерунда, а не артель. Да и все наши артели ерунда.
– В чем же дело-то, позвольте вас спросить?
Петр Петрович посмотрел на меня иронически и отрезал:
– В порядке.
– Как в порядке?
– А вот погодите, – сказал он, взглянув в окно, – я вам покажу, как в порядке. Смотрите. Видите: на жирном жеребце подъехал пузатенький человечек?
– Вижу.
– В нем и заключается порядок.
– Да кто же он?
– Это Сазон. Жена прозвала его Крокодилом. Именно Крокодил, проглотивший утленькое и беспомощное созданьице, эту вашу мистическую артель. Теперь смотрите, как артель встречает Крокодила.
Я смотрел. В то время как Крокодил подъехал к плотникам, взмыленный жеребец остановился. Плотники дружно поднялись и отдали пузатенькому человечку низкий поклон. Затем из них отделились два человека в бородах, почтенного вида и немолодые («Десятники!» – сказал Батеев), и поспешно направились к тележке. Пузатенький человек сидел недвижимо. Когда же десятники подошли к нему, он шевельнул головою и приподнял картуз. Потом каждому из них ткнул руку для пожатия.
– Что у вас? – произнес он сиповатым басом.
– Благодарение господу, – ответили десятники в один голос и с какой-то особой певучестью в голосе. Крокодил подумал. Затем совершилось следующее. Он в молчании протянул руки, и десятники, подхватив его под мышки, стали бережно высаживать из тележки. Лицо его, круглое и пухлое как дождевик, во все время этого высаживания хранило вид великолепнейшего равнодушия. Сивые волосики реденькой и плюгавой бороденки важно топорщились во все стороны. Вытаращенные глазки изображали ленивое величие.
– Живот не прищемите, – кратко выразился он, отдаваясь объятиям десятников.
– О господи! – воскликнули те в преизбытке почтительности.
Наконец он стал на ноги. Тогда десятники чуть не на голову очутились выше его. Зато он значительно превосходил их шириною: я редко видывал утробу более внушительную! На ногах его блистали сапоги с традиционными бураками. Длинный сюртук, застегнутый на все пуговицы, был на животе немилосердно засален. Став на ноги, он тяжело вздохнул, снял картуз, отер платком вспотевшую голову, подумал с минуту и снова протянул руки. Десятники снова проворно подхватили его и повели к работам.
– Что это такое? – в недоумении обратился я к Батееву.
Он хохотал, катаясь по дивану.
– Хорош ритуал? – вырвалось, наконец, у него посреди смеха.
– Да что это, идол, что ли, какой?
– Ничуть не идол. Это просто мужик, глупый как бревно, и у которого в кармане преизряднейший капиталец. Это – Крокодил.
– Сазон?
– Он самый. Да разве вы никогда не слыхали? Он самый налицо и есть.
– Я думал, что подрядчиков у артели не существует?
– Да он и не подрядчик. Кто вам сказал, что он подрядчик? Он просто бог ихний. Смотрите!
Я посмотрел и действительно готов был убедиться, что артель составляет из себя какую-то мистическую секту и что Крокодил играет в ней роль бога. Почтительно поддерживаемый десятниками, он важно и медлительно расхаживал по постройкам. Плотники при его приближении оставляли работу и низко склоняли головы. На это получался легкий кивок, и шествие продолжалось. После того как все было осмотрено, целая толпа окружила Крокодила и направилась в свое помещение. Он шел впереди, тупо и значительно озираясь по сторонам. Непосредственно за ним следовали наиболее почетные люди артели. Дальше шла молодежь. Из тележки достали бутыль водки и окорок, и шустрый подросток торжественно нес это. Сзади процессии, сдерживая рьяного жеребца, шагом ехал кучер… Наконец вся артель скрылась за углом.
– Видели? – спросил Петр Петрович. Мне в его вопросе послышалось какое-то злорадство. Так мой знакомый выкрест из жидов, Мысей Петрович Хайкин, обращал мое внимание на еврейку, случайно очутившуюся без парика.
– Не понимаю, – чистосердечно сознался я.
– А между тем это очень просто. По-моему, это жажда порядка… Артель сначала действительно существовала без главы, и, говорят, было худо. Главное, и вследствие условий заполучения подрядов было худо: зимою артели деньги нужны, а брать их было негде; если где и рядились – задатки давались небольшие. Это раз, это внешняя сторона дела. Другая – внутренняя путаница: никто не хотел подчиняться; вылезали наружу личные счеты, зачиналось пьянство, отлынивание от работы… Одним словом, артель заживо разлагалась. Вот в эту-то поистине трагическую для артели минуту и появляется Крокодил. Он такой же рязанский мужик, как и все, с тою разве разницею, что глуп; но у него умирает дядя, торговавший тесом, и оставляет ему пятьсот целковых. Кроме того, Крокодил ужасно молчалив и честен; то есть там по-своему, по-ихнему, честен. Ну, и стал этот Крокодил зимою им деньги давать, а летом брать подряды. Из артели он понаставил десятников. Вот у меня работают двадцать три человека, и над ними два десятника. Они наблюдают за порядком; смотрят, чтоб не было куренья, пьянства, лени. И за все за это, с общего соизволения, происходит порка. Вы не верите? Да-с, именно, самая первобытная, самая настоящая порка!.. У них, ежели закурил цыгарку парень на работе – пороть, зашел в кабак – опять пороть, не послушался десятника или изругался матерным словом – снова и снова его пороть, голубчика… Нравы спартанские!
– И подчиняются?
– Ах, чудак вы!.. Да как же не подчиниться?.. Ведь что он сам по себе? – Нуль… Во-первых, не подчинись, – артель его выгонит, без ней он работы не найдет; а во-вторых, прямо уж ему Крокодил в деньгах откажет. И тогда… ну, понимаете, что тогда?..
– Так он просто, значит, подрядчик.
– Ну, зачем же вы так круто. Подряд снимать он приезжает не иначе, как в сопровождении двух человек из артели. Затем свои резолюции не кладет… Все у него «собча» и с общего согласия. Он вот заметит, ежели малый работает подло, он сейчас к артели: так и так, надо поучить малого. И артель учит. Ну, а за денежки за свои он берет пользу! У него, посмотрите-ка, в Козлове дом-то какой, а с пятисот рублей пошел!.. В последнее время, говорят, роялино какое-то с ручкой завел: по целым часам сидит за этим роялино и хор нищих из «Фауста» отжаривает!
– Но зачем же он нужен артели?! – воскликнул я, – ведь сумей она добиться кредита, и Крокодил этот является совершеннейшим пятым колесом!
– Ах, как вы ошибаетесь! Вы плохо знаете народ, Николай Василич. Я имею право судить о нем… Я на своей шкуре… Не кредит тут главное, а главное – пришел к ним порядок в лице Крокодила. Вот в чем подоплека-то самая – порядок-с! Удалите-ка от них Крокодила, да они в тоске измаются… Помилуйте!.. Есть страх, палка, неумолимая как фатум[1], цемент. Есть смысл совокупного проживательства!..
– Петр Петрович! – воскликнул я в ужасе.
В эту неловкую для обоих нас минуту вошел лакей Евдокимка и степенно доложил:
– Сазон Психеич пришли-с.
– Зови, – с живостью произнес Батеев.
В кабинет боком пролез Крокодил. Он решительно сунул Батееву руку свою с толстыми, точно обрубленными пальцами, затем сунул ее мне и, не дожидаясь приглашения, тяжело ввалился в кресло. Я снова оглядел его: ну, толстяк! Лицо его казалось слепленным из теста и вот-вот было готово расплыться. Глаза глядели тупо и неподвижно. Он часто вздыхал и отирал лицо новым батистовым платком.
– Откуда едешь, Сазон Психеич? – спросил его Петр Петрович.
Тот вяло посмотрел на него.
– По ребятам езжу, – вымолвил он.
– Глуп, как этот стол, – шепнул мне Батеев и для вящей убедительности постучал по столу кулаком.
– Ну что, все в порядке?
– Это чего? – в недоумении спросил Крокодил.
– Везде порядок, говорю? Все как следует?
– Гм… – Крокодил задумался: он, видимо, не понимал вопроса. Петр Петрович подмигнул мне.
– В артели-то все благополучно, спрашиваю? – повторил он, возвышая голос.
– Ничего себе, – равнодушно ответил Крокодил.
– Скажите, пожалуйста, правда – вы порете, ежели кто забалуется? спросил я.
– Бывает.
– Разве же нельзя без этого?
Он поглядел на меня. Мне показалось, что в заплывших глазах его проскользнуло лукавство.
– Это уж как артель рассудит. Как она.
– Ну, а собственной властью не порете?
– Чего это-с? – Он снова не понял вопроса.
– Барин спрашивает, сам-то ты, без артели, порешь когда или нет? пояснил Петр Петрович.
Крокодил усмехнулся.
– Помилуйте, разве это возможно, чтоб без артели?
– А почему же нельзя?
Крокодил на мгновение задумался, но потом ответил с легким смехом:
– Шутить изволите.
– Положительный идиот! – шепнул мне Батеев.
– Ну, а каким вы пользуетесь процентом на капитал, что даете артели? полюбопытствовал я.
– Чего это-с? – беспомощно спросил Крокодил и вдруг ужасно вспотел.
Я повторил вопрос.
– Мы не обучены по эфтому… – сухо произнес он и, глубоко вздохнув, обратился к Петру Петровичу: – Вы уж, батюшка, пожалуйста, говядинку-то получше давайте!..
– Как получше! – вскочил Петр Петрович. – Да лучше моей говядины не найдешь!..
– Нет уж вы, пожалуйста, получше, – упрямо повторил Крокодил.
Петр Петрович пожал плечами.
Вошла Олимпиада Петровна. Крокодил и ей сунул свою потную, пухлую руку. Она сделала легонькую гримаску, но руку пожала.
– Как здоровье супруги? – любезно спросила она Крокодила.
– Ничего себе, – ответил Крокодил и прибавил неприличное слово.
Олимпиада Петровна усмехнулась, но не покраснела. Петр Петрович снова пожал плечами и постучал по столу. Вдруг Крокодил засуетился и стал прощаться. Олимпиада Петровна предложила ему остаться обедать. Он отказался, говоря, что ему нужно к артели; вечером же обещался зайти. Затем опять посовал рукою и ушел.
– Дурак! – сказали в один голос Батеевы по уходе Крокодила.
Я попросил у них извинения и вышел вслед за ним. Он шел костыляя и переваливаясь и тяжело опирался на яблоневую палку. Пузо свое он нес с каким-то достоинством и, видимо, щеголял его обширностью. Я дал ему скрыться в той избе, где жили плотники, и спустя двадцать минут последовал за ним. Артель обедала. В конце длинного стола восседал Крокодил. Перед ним стояла наполовину опорожненная бутыль и лежала ломтями нарезанная ветчина. Около него так же, как и прежде, помещались почетнейшие лица артели. Все ели истово и, если можно так выразиться, в глубоком благоговении.
– Хлеб да соль! – сказал я.
Крокодил буркнул что-то; один из его соседей предупредительно дал мне место на скамейке. Я взял ложку и попробовал щей; щи оказались превосходнейшие. После щей Крокодил сказал, прижмуривая глаза:
– Насыпь по стаканчику.
Один из десятников взял бутыль под мышку и начал обходить с нею стол. Все выпили. Во время паузы, наступившей после щей, языки несколько развязались. Послышались степенные замечания насчет инструментов, способа рубки и т. п. Вдруг раскрыл уста Крокодил.
– Петрович, – вымолвил он, – твоя мать, Петрович, денег просит. Прислала письмо.
Петрович, детина лет тридцати пяти, смуглый и мужественный, принялся рассматривать ложку.
– Давать ли денег Петровичу? – продолжал Крокодил.
После некоторого молчания один из десятников спросил:
– А много ли?
– Это чего-с?
– Денег-то много ли, Сазон Психеич?
– Денег две десятки.
Опять наступило молчание.
– Оно, конечно, – произнес один из соседей Крокодила, – оно отчего не дать… – Он крякнул. – Оно дело удобное… Только вот по кабакам, ежели…
Петрович вдруг бросил ложку и обратил смущенное лицо к Крокодилу.
– Что ж, по кабакам, – заторопился он, – я разве что говорю… Я зашел в кабак. Ну, положи мне за это… Я не сто… Я ведь прямо говорю: хоть сейчас…Но только матушка ни в чем тут не повинна.
Крокодил подумал.
– Ну хорошо, Петров, – наконец сурово произнес он, – деньги я матери пошлю… Это пошлю. А уж поучить тебя надо… надо. Вот ужо поучите его, ребята. Слегка, а поучите.
Петрович немного побледнел и осунулся. Все стали есть кашу, и ели с какой-то серьезной сосредоточенностью.
– Вот тоже с Ефимкой что нам делать? – сказал десятник.
– А что?
– Цыгарки курит.
Крокодил снова подумал, но, подумавши, ничего не ответил. Десятник прискорбно вздохнул. После обеда Крокодил помолился и сел в сторонке. Плотники в глубоком молчании выходили из-за стола, медленно крестились на икону и, степенно подходя к Крокодилу, отвешивали ему низкий поклон. Когда эта процедура была кончена, Крокодил вздохнул и произнес:
– Ефим!
К нему подбежал молодой малый, еще без малейшего признака пуха на бороде.
– Ты что же это, Ефим, цыгарки куришь? – спросил его Крокодил.
Тот повалился в ноги.
– Сазон Психеич!.. Век не буду! – молил он.
Крокодил отстранил одну ногу, вероятно для того, чтобы Ефимке удобнее было валяться по земле, и несколько минут равнодушно смотрел на него.
– Ежели простить его на первый раз, – вопросительно произнес он, ежели теперь простить его, а в другой – выпороть?
Все молчали.
– Егорыч, потряси-ка его за виски! – сказал Крокодил.
Десятник усердно вцепился в Ефимкину голову и пребольно оттрепал его. После трепки Ефимка снова поклонился в ноги Крокодилу и, сдерживая слезы, скрылся в толпе. Там его встретили осторожным хихиканием.
– Ну, ступайте, я сосну малость, – вымолвил Крокодил, и плотники тихою гурьбою вышли из избы. Остались десятник Егорыч и я.
– Мы в пятницу Фому пороли, – кратко заявил Егорыч.
Крокодил зевнул.
– Скверным словом выругался, – продолжал Егорыч.
– Что ж, это хорошо, – лениво отозвался Крокодил, преодолевая новый зевок.
Я простился и ушел. Вслед за мной пошел и Егорыч.
– Почитаете вы Сазона Психеича, – сказал я.
– Отец!.. – с чувством ответил Егорыч. – Мы с ним свет увидели. Теперь ведь против наших артельных порядков хоть всю Рязань обойди, – не найдешь. Что насчет строгости, что насчет чести… Нас ведь и господа помещики за это уважают. Лишние деньги платят!
– А много, пожалуй, наживает от вас Сазон Психеич?
– Как, поди, не наживать. Наживает, – хладнокровно произнес Егорыч.
Вечером пришел Крокодил. Свечей еще не зажигали. Он прошел тяжелой поступью в зал и смолк. Мы с Петром Петровичем сидели в кабинете; Олимпиада Петровна суетилась по хозяйству.
– Что он теперь делает? – сказал я, входя в положение Крокодила, оставленного в пустынном зале.
– А спит небось, чего же ему еще делать! – пренебрежительно произнес Петр Петрович.
Но чрез несколько мгновений робкий звук рояля достиг до нас.
Батеев прыснул.
– Ведь это Крокодил играет! – воскликнул он.
Мы тихо подошли к дверям зала. Действительно, неуклюжая и тучная фигура Крокодила виднелась за роялью. Указательным пальцем заскорузлой руки он странствовал по клавиатуре и, видимо, подбирал ноты. Я прислушался: было некоторое сходство с «Лучинушкой». Но часто верный звук сопровождался ужаснейшим диссонансом, и тогда Крокодил тяжко вздыхал.
Принесли свечи, и мы вошли. Крокодил конфузливо поднялся из-за рояля и, отираясь гремящим своим платком, опустился на стул.
– Любишь? – спросил Батеев, указывая на рояль.
– Штука важная, – ответил Крокодил и улыбнулся.
– Ну, погоди, барыня придет. Она тебя утешит.
Мы вступили в посторонние разговоры. Крокодил упорно молчал и потел. Я его попробовал втянуть в разговор. Это оказалось положительно невозможным: он путался и не понимал самых простейших вещей. Часто отвечал совершенно невпопад и, видимо, страдал. Тогда мы его оставили в покое.
– Где же будет барыня? – спросил он немного спустя и покосился на рояль.
– Придет, придет.
Действительно, Олимпиада Петровна скоро присоединилась к нам. Она с достоинством заявила, что отвешивала провизию для рабочих.
– Говядинку-то получше давайте! – вымолвил Крокодил.
Олимпиада Петровна ничего на это не ответила. Тогда Петр Петрович со смехом заявил ей о меломанстве Крокодила. Это и в ней возбудило веселость. Она села за рояль и разразилась шумными solfedgio[2]. Лицо Сазона Психеича преобразилось. В глазах засветилось живое и теплое участие. Он подсел к Олимпиаде Петровне и в наивном восхищении смотрел на ее руки. Она заиграла из «Жизни за царя»[3], затем из «Фауста», из «Тангейзера»[4]. Крокодил слушал, не меняя позы и выражения. Только пухлое лицо его, казалось, все более и более светлело и вместе с тем переполнялось какой-то странной привлекательностью. Наконец Олимпиада Петровна заиграла «Не белы-то снежки». Крокодил не утерпел: как-то странно шевельнув носом, он всхлипнул и в умилении произнес:
– Вот, вот, оно самое!.. Самое оно и есть!.. – затем с каким-то азартом загремел своим платком.
Потом мы перешли к чайному столу. Крокодил снова впал в недвижимое свое состояние и только и делал, что глотал чай.
– У вас, кажется, есть рояль? – спросила его Олимпиада Петровна.
Он встрепенулся.
– Чего это-с?
Ему пояснили.
– Завел, завел, – ответил он и опять улыбнулся, – только у меня вроде, например, как веялка: вертишь ее, ну она и разделывает. Ничего, здорово разделывает. Семьсот целковых…
– Ну, что же мы насчет амбара-то, сойдемся или нет? – прервал его Батеев.
Крокодил допил свое блюдечко.
– Завтра с артелью подумаю, – сказал он.
– Да ведь хорошая цена.
– Как артель.
Петр Петрович пожал плечами и постучал пальцем по самовару. А мне снова захотелось поисповедовать Крокодила.
– Какую вы пользу берете с артели? – спросил я.
– Разную берем пользу, – ответил Крокодил.
– Однако же?
– Мы лесом торгуем, – .неожиданно произнес он после маленькой паузы.
– Ну так что же?
– За лес берем пользу.
– Я у него лес беру, – пояснил мне Батеев, – и почти все наши помещики берут.
Крокодил помолчал.
– С подрядов берем десятую копейку, – задумчиво продолжал он и снова помолчал. – Комиссионные берем… – прибавил он. – За подожданье берем… Лавку имеем для артели…
Все это проговорил он, как будто с трудом вспоминая.
– А велика ваша артель?
– Человек сто двадцать.
Вечер закончился неожиданным казусом. Передняя вдруг переполнилась сдержанным топотом мужицких сапогов, и неуверенные голоса требовали барыню. Лицо Олимпиады Петровны покрылось багровыми пятнами. Она быстро вышла в переднюю. Голоса сразу загудели.
Мы тоже пошли туда.
– Воля ваша, сударыня, а мы голодать не согласны, – говорил красивый парень, выступив вперед. За ним галдел добрый десяток других рабочих.
– Как голодать? – трепетно спросила Олимпиада Петровна.
– Как голодать! – воскликнул Петр Петрович.
Несколько мгновений ничего нельзя было разобрать в беспорядочном шуме.
– Говори один… Чего кричите, говори один! – волновался Батеев. Переконфуженная барыня в нерешительности перебирала оборку своего миленького платья цвета gris de perle[5].
Выступил снова красивый парень.
– Воля ваша, Петр Петрович, никак невозможно.
– Что никак невозможно-то?
– Три фунта? Помилуйте-с… Барыня изволит три фунта отвешивать. Нам это никак невозможно. Он решительно закинул назад волосы.
– Я знаю тебя, ты вечно недоволен, – прошипел Петр Петрович.
– Воля ваша, – твердо произнес парень.
– Сколько же вам прикажете хлеба отпускать? – иронически спросил Батеев.
– Да уж сколько плотникам. Сколько плотникам, столько и нам.
Петр Петрович согласился на это требование, и толпа, рассыпавшись в благодарностях, удалилась. Но наше настроение было жестоко испорчено; Олимпиада Петровна хмурилась; Петр Петрович волновался и приводил какие-то оправдания… В конце концов, правда, разговор начал налаживаться, и уж Олимпиада Петровна с живостью заговорила было о новой пьеске Рубинштейна, которую ей только что прислал Юргенсон, как вдруг неожиданно и совершенно некстати Крокодил ляпнул: