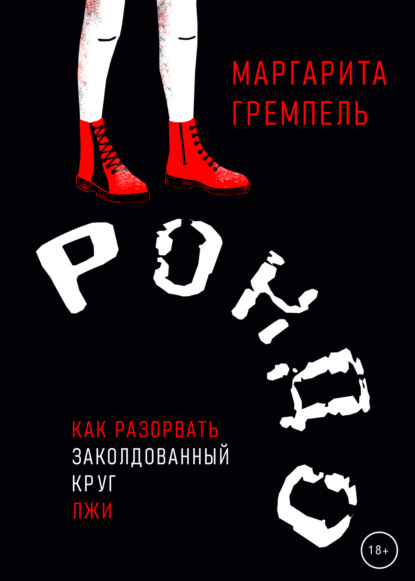Полная версия:
Маргарита Гремпель Зинаида. Роман
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Зинаида
Роман
Маргарита Гремпель
© Маргарита Гремпель, 2020
ISBN 978-5-0051-3199-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Тихое солнце не палило почём зря, а лишь высвечивало маленький дворик перед зданием больницы
Они подъехали. Внук Роман повёл определять бабушку в хирургическое отделение. Он и сам был врачом. А она ему – бабушкой по отцу. Автомобиль уехал быстро, потому что бабушку тут же положили. А Роман остался дежурить в гинекологическом отделении, бабушка часто радовалась, что внук у неё – женский доктор.
Бабушку, о которой зашла речь в этот не сильно жаркий день, звали Зинаидой.
Она оглядела палату, спокойно вздохнула, подошла к окну.
Сегодняшний день ей показался самым лучшим днём в её жизни.
О своей болезни она сейчас не хотела говорить. Это было не самое страшное, что могло бы настораживать и серьёзно беспокоить медсестру с сорокапятилетним стажем, а сейчас зрелую пенсионерку, прожившую трудную, но – она была уверена – нужную жизнь. Только для того уже стоило жить, чтобы появился на свет внук Роман. И можно было сказать: у меня такой умный и красивый сын моего сына, и к тому же врач. А Романом его назовут при рождении, потому что этого захочет старший брат – он был сыном снохи от первого брака, его звали Виталий, а у него оказался на то время друг и сосед тоже по имени Роман.
Про своё имя, как оно досталось, Зинаида вспоминала теперь с улыбкой и трогательным сочувствием к тем неграмотным людям большой бедной деревни с неизгладимой опалённой печатью Курской дуги.
Их родственник по отцу, которого все в деревне звали Парнасом, а настоящее имя у него было Афанасий, пошёл в сельский совет регистрировать новорождённую, или, просто, записать девочку. Семьи тогда были многодетные, родственников у Парнаса было много, и часто посылали его, даже доверяя выбрать имя. Это стало уже как бы обычаем, традицией. Кто-то и когда-то счёл его то ли счастливым, то ли удачливым, и эти счастье и удача должны были передаться и детям, которых он именовал. Но случилось в этот раз так, что он потерял записку, где родители написали имя, и никак не мог вспомнить, потому что в тридцатые годы в их деревне не было ни одной женщины по имени Людмила. Афанасий мучился и копался в своей памяти, так что даже загрустил почти до слёз. Наконец решение само стало медленно напрашиваться, будто ему кто-то подсказывал, и простая мысль начала заполнять его голову. Он вспомнил, что по соседству с родителями, появившейся на свет девочки, жила родная сестра матери, то есть получалось – родная тётка новорождённой.
Это была скупая, одинокая, работавшая на хлебопекарне, как говорили, женщина с «плохим глазом». Но никто и никогда бы не смог упрекнуть её в том, что она не любила свою сестру, очень худую носатую Маню. Та была замужем за Мишкой, самым высоким и красивым парнем на деревне, на которого «хлебная дива», так ещё называли её из-за хлебопекарни и за белые пышные щёки, имела свои виды. А тут сбоку припёка – он взял да и выбрал не её, а Маню. Она не могла понять этого, пока не началась война – жестокая и ужасная.
Сейчас дед Парнас мучил свою память и нашёл сладкое утешение от той мысли, что посетила его и вошла в его дырявую голову. Родная сестра Мани, а для её детей – тётка Наташа, «хлебная дива» или женщина с «плохим глазом», когда-то завела коз и стала называть их Зинками, в отместку своему суженому, кем она считала Михаила, а у того родную сестру звали Зиной. Но Михаил только посмеивался и на это не реагировал, даже когда она громко, аж на три двора кричала:
– Зинка!.. Зинка!.. Зинка!.. – как будто созывала кур в курятник, и делала это демонстративно, наигранно и ехидно.
Но для деда Афанасия главным оказалось теперь другое обстоятельство. Он знал, что назовёт новорождённую Зиной. Это дело стало понятным. Вся деревня знала, что в трудные голодные годы не жалела тётка Наташа козьего молока для семьи Конкиных, какой стала фамилия семьи Михаила и Мани после свадьбы, сразу нарожавших двоих детей-погодков, мальчика и девочку. А Зинаида стала теперь третьим ребёнком. Так и говорили односельчане:
– Спасла Наташка детей у Мани молоком Зинок!
Они говорили, безусловно, о двух погодках, вспоминая то трудное время, особенно голод тридцать третьего года, и добавляли:
– Знает, что сестра и сейчас не бросит их, поэтому ещё больше Зинок развела!
Вот и подумал дед Афанасий: что же в этом плохого, раз для спасения семьи таким трогательным, и замечательным, и большим по смыслу стало имя Зина? Не раз потом вспоминали односельчане эту историю, пересказанную много раз для них Парнасом, и по-доброму улыбались. Так появилась в одной из деревень Курской губернии новая жительница – Зинаида Конкина.
Сама Зинаида не очень любила своё имя и даже стеснялась его до определённого времени, пока не выросла и не поехала учиться в город на фельдшера.
Зинаида осмотрелась в палате лучше, увидела, что есть вторая кровать, и она занята. Разместилась на свободной. Как будто бы снова оказалась в родной стихии: как рыба в воде или птица в полёте – сестра милосердия на страже здоровья людей. Она отдала всю свою жизнь, всю сущность натуры любимому делу. И выполняла назначения врачей, выслушивая стоны и крики, сквозь слёзы и страдания, успокаивая радостью выздоровления своих вечно оставшихся в памяти и в сознании, будто наяву перед глазами, любимых и незабываемых заболевших и исцелившихся людей, памятуя о тех, кто рано ушёл из жизни. Чего ещё лучшего можно хотеть человеку, когда память у него сохраняет трудную, но честную жизнь, отданную во благо других в полном и бескорыстном служении долгу?
Как любой человек, Зинаида не помнила первых лет своей жизни. Если спросить учёных, когда маленький человек начинает осознавать своё бытие и окружающий мир, наверное, не будет на этот вопрос однозначного ответа. И Зинаиду не нужно было спрашивать об этом. Ей исполнилось пять лет, когда началась война, и она её запомнила от начала и до конца.
Вот и задаёмся мы много раз вопросом, порою подолгу задумываясь: когда началась наша жизнь? В утробе, до рождения или после? С чего? Когда стали понимать, что мы пришли в этот трудный, но светлый и солнечный мир?
Михаила призвали на фронт. Маня долго причитала:
– Мишка, Мишка, ты же вон какой высокий, тебя же сразу убьют… Не спрячешься… Окопов-то таких глубоких, под твой рост, не роют, говорят, не успевают. А, Миш?!
Михаил был высоким и красивым мужиком, хоть и «курнявый» – так в их деревне называли курносых. Из простой семьи, он и сам был простым, малодоступным, малоразговорчивым, несколько мешковатым тюленем с удивительно вьющимися волосами.
Уходили они на фронт всей деревней. Мужиков до войны было много, не хватало им всем деда Афанасия, неповторимого стихоплёта Парнаса. Он умер незадолго до войны, оставив после себя маленький заваленный домик с земляными полами и светлую, хоть и смешную, память.
Провожавшие женщины много ревели, причитали, учили, как спастись при атаке и отступлении. В общем, говорили бабы русские всё то, чего не знали сами, и мало понимали в военном деле. Говорили от большой любви к своим мужьям, братьям, сыновьям. Любовь переполняла души каждого, здоровых и прихворнувших, замужних и незамужних и даже тех, кто до этого враждовал между собой, но весть о войне умиротворяла всех.
Сестра Наташа тоже плакала и думала о том, что она не пережила бы такого горя – провожать на войну мужа, который оставил бы ей троих маленьких, несмышлёных детей, как случилось теперь с Маней. Вот и подумала она: где оно, счастье – в замужестве или в одиночестве?
Возвращаясь и возвращаясь к этой мысли, Наташа ещё сильнее, до боли в руках и груди обнимала несчастную Маню и не понимала, почему та была гордой и счастливой, будто озарённая лучами будущей победы.
«Грянула война громом несусветным. Загорелась родная земля пламенем страшного пожара. И пошли мужики страны Советов, все те, кто жил на Руси многострадальной и вокруг неё, на врага проклятого». Да и кто же, если не Мишка, пойдёт защищать Маню и своих детишек, среди которых пятилетняя Зина была самой маленькой и беспомощной? Не было в курских деревнях трусов и предателей.
И Маня, перекрестив Михаила, чтобы Пресвятая Богородица защитила его от напрасной смерти, просила его беречь себя и не лезть на рожон, не соваться под пули.
Пошли они, бойцы-новобранцы, сводным отрядом, поднимая за собой столб пыли. Заскрежетали телеги и повозки в жаркий июньский день. И жара эта потом всю жизнь мучила и настораживала Зинаиду, отложившись страшным пятном уже в памяти и сознании малолетней девочки. Эта картина растворяющейся в лучах солнца и раскалённого воздуха пыли, где на фоне всех, кто уходил на фронт, раскачивалась кучерявая голова её высокорослого отца, запомнится ей навсегда. Больше она его не увидит. Только на фотографиях, что остались в доме: с них на неё будет смотреть всегда молодой и красивый отец, не стареющий от времени. Спустя три месяца, когда ещё не высохли слёзы на глазах женщин, проводивших своих мужей на фронт, Маня, одна из первых, получит извещение, что рядовой Конкин Михаил Евграфович, её муж, пропал без вести. Так она стала вдовой, но всю жизнь будет надеяться и ждать, что, может быть, он ещё вернётся.
Начались трудные дни: страх, голод или что-то ещё, чего нельзя объяснить, смешалось в единый ком страданий людей, кого коснулись Великая Отечественная война и оккупация.
Зинаида помнила, как немцы вошли в деревню. Были они поначалу не злыми. Угощали конфетами, шутили, заигрывали, пытались говорить на ломаном русском языке. Длилось время «фашистского рая» недолго. Затем деревня погрузилась в ад. Настоящий, кромешный ад: расстреливали коммунистов, евреев, насиловали и убивали женщин, уводили коров, тащили поросят, забирали курей. На глазах у Зинаиды выстрелили в голову безногому старику, не попавшему на фронт, а потом – женщине, от которой осталось двое сирот.
Жители деревни уходили в леса. Ещё до этого, пока немцы не дошли до Курска, всех призывали рыть окопы. Дети тоже рыли, точнее, помогали. Маня брала с собой и Зинку, потому что оставить её было не с кем. Первые детишки были уже взрослые по меркам тыла и тоже помогали рыть окопы. Зина была слишком мала и доставляла Мане одни только трудности, потому что при налётах фашистской авиации, бежать и прятаться вместе с ней, было сложнее, чем увести за собой двух погодков, и они уже научились этому, деловито и сноровисто.
А вот Зину она прижимала к груди и бежала, но лечь на живот не могла, падала на бок, удерживая и поднимая её, чтобы не отбить ребёнку внутренности.
Система оповещения не всегда была своевременной, неожиданно налетевшие немецкие самолёты косили наповал и взрослых и детей. И как считать: были они участниками войны или тружениками тыла? – если на этих окопах, земляных валах, в противотанковых рвах и заградительных траншеях поверху и внизу лежало порой столько трупов женщин, детей и стариков, что могло показаться, что здесь и есть тот самый фронт. Какое чудо спасало Маню и её детей, она не ведала. Она была вместе со всеми: и рыла, и копала не меньше других, и плакала на кровавые мозоли своих первенцев, которые не хотели уходить от матери, когда им разрешали остаться в специально оборудованных местах, похожих на детские сады или школы.
И теперь, когда фашисты пришли, и нужно было уходить в леса, рыть землянки, все уже научились делать это быстро и ловко, накопился огромный опыт на окопах. Но зачем нам, Господи, этот опыт, чтобы он стал привычкой у наших детей, привитой им в то опасное время вместе с грудным молоком кормящих матерей и от страха, переданного по наследству от бежавшего под пулемётным огнём люда. И этот страх застывал на лицах убитых женщин и на мёртвых губах бездыханных детей, не способных от природы сохранять на себе гримасу смерти. Лица всех детей у всех народов всегда жизнерадостные и жизнеутверждающие, как у ангелочков, которых рисуют в виде пухленьких детишек с крылышками на стенах старых и уже новых церквей.
В землянках было сыро и холодно, стояли буржуйки. Топили их часто, особенно там, где было много детишек. Если оставалась в деревне учительница, то пытались открыть школу прямо в землянке и учить детей. Сама Маня была неграмотной, помнила барина, революцию, а учиться так и не довелось. День своего рождения не знала. Мать ей сказала, что она родилась в то время, когда «цвели овсы». Потом работала, как и Михаил, в колхозе. Выполняли любую работу, профессии как таковой у них не было, значит, делать, как говорилось, умели всё. Михаил легко управлялся с лошадьми, с плугом, а потом и с трактором. Маня доила и кормила коров, чесала овец, могла шить и вязать, а Наташка была искусницей по мучной выпечке, потому её сразу заприметили и забрали на хлебопекарню.
Война длилась долго. Сельчане, измождённые чувством голода и страданием, получали горькие известия о погибших родственниках, слушали сводки информбюро и продолжали верить в победу. Лютая зима сорок первого года помогла не пустить немцев в Москву, а для жителей землянок была страшным, нечеловеческим испытанием.
Маня сберегла всех троих детишек, не осознавая своим женским малограмотным умом, как она смогла это – в слезах и одиночестве бороться с нуждой, голодом и закоченевшими руками прижимать и согревать своих худющих обездоленных сирот. И такой она была не одна. Сколько их, думала потом Зинаида, по всей стране таких женщин и детей, устоявших и выживших, хлебнувших до краёв своего терпения безутешной горечи вдов, выкормивших и сохранивших жизнь будущему поколению.
Когда немцы ушли, домов в деревне почти не осталось. Сожгли всё. А дом Мани почему-то не тронули. И она поняла почему. Он был самый плохой и дряхлый, покосившийся, с окнами, вросшими в землю, с соломенной крышей, а внутри и того хуже – одна-единственная комната с утоптанной до каменистой плотности землёй, чтобы называться полом. Она его даже мыла водой, и он не стирался, как земля, а блестел, будто камень.
Ведро с водой, из которого она мыла этот пол, наполнялось не землёй, а осевшей пылью. В тех домах, где обустроили хорошие завалинки, пол был не сильно холодным зимой, терпимым, а без завалинки – ледяным. У Мани завалинку не успели утеплить и поэтому ходили в доме в валенках почти круглый год. Но летом наступала благодать, было прохладно, не душно – спасение от жары.
Когда фашистов поджарили на Курской дуге, в деревне появилась снова жизнь, открыли постоянную школу. За парты в один класс сели дети разных возрастов навёрстывать упущенные знания. Уже все поверили, что война закончится, и победа всё равно скоро наступит. Детишкам после землянок, где их учили читать и считать, теперь нужны были и другие знания. Но в классах собрались разновозрастные дети – трудно было всем. Зинаида до сих пор вспоминает, что у неё была особенность при заучивании стихов. Она долго их зубрила, но утром не могла вспомнить ни строчки. Проходила неделя, и стих как будто сам всплывал в памяти, и она его чеканила, как говорили, от зубов отскакивал, да ещё не с детским, а со взрослым выражением чувств и переживаний – наверное, такими их сделала война, потому что детство у них она забрала навсегда.
И сегодня, когда её просит взрослый внук Роман, о котором мы уже говорили, рассказать стихотворение Лермонтова «Смерть поэта», она с удовольствием, с артистическим порывом и так вдохновенно декламирует строки великого поэта, что доставляет минуты радости всем, кто её слушает. Вместе с ней почти заново начали учиться сестра Муся и брат Василий, повзрослевшие дети, высокие в отца. Ваську тоже называл и давал ему имя покойный дед Афанасий – в честь Василия Ивановича Чапаева, легендарного революционного командира. С Мусей была подобная история, как и с Зинаидой. Назвал её Парнас в честь какой-то героини или персонажа из старых довоенных фильмов, никто уже этого не помнил, но то, что в сельсовете это имя расценили как «Мария», дед так и не узнал, а в школе по свидетельству о рождении она была Мария Конкина, хотя все её продолжали звать Мусей. Кто же разбирался в таких премудрых тонкостях, что имена Муся, Маня, Маша, Мария – это одно и то же имя? Поэтому сестра её уже в паспорте, а она его получила раньше, чем аттестат зрелости, прочитала, что она – Мария Яковлевна Конкина. Маня долго не могла понять, как это получилось, что у них с дочерью одинаковые имена. И различало их теперь только отчество.
Отца у Мани звали Яковом, он же был дедушкой её детей, и был он священником, о чём говорить вслух после революции было неуместно, но Маня считала, что только благодаря отцу-священнику она стала набожной. Детишек своих крестила втихомолку, чтоб никто не знал, времена оказались другими: как она говорила, «атеизму учили». Зина тоже помнила это время – время «воинствующего атеизма», когда её подружку красавицу Элеонору за церковные увлечения и христианские обряды, хотя она до сих пор не уверена, была ли у Элеоноры настоящая вера и есть ли настоящий Бог, сначала исключили из комсомола, потом – из школы. Это была длинная и постыдная история. Вспоминать о ней Зинаида не любила, оттого что она вместе с другими учениками осудила Элеонору, хотя самой Элеоноре это не помешало после удачно выйти замуж, став счастливой женой и многодетной матерью.
Муся училась хорошо, Василий не учился вовсе и был большим шалуном и шалопаем, хотя учёба давалась ему легко, а вот у Зинаиды было всё наоборот. Она хотела и желала учиться, но все предметы ей давались так трудно, что для всех она была неисправимой зубрилкой, даже мать, Маня, ходила в школу за тем, чтобы попросить директора и всех учителей задавать Зинаиде уроки или домашнее задание заранее, хотя бы за неделю. Вот тогда, благодаря её усидчивости, особым свойствам памяти, упорству, она читала, но скорее проживала строки из поэзии или прозы, выразительно и словно нараспев удивляла стихами, с надрывом, а порою с трагическим символизмом наизусть приводила отрывки из романов и повестей, как настоящая актриса. Шпарила таблицу умножения, выходя далеко за пределы цифры «девять», без остановки. Во времена Мани учителя сказали бы, что знала таблицу умножения как «Отче наш», но тогда даже произнести это шёпотом было страшно, на 20 лет уходили некоторые, как их называли, враги народа в лагеря за такое безобидное сравнение.
Дети войны в то время после школы все работали. Васька пас лошадей и коров. Муська ходила с доярками на дойку, носила в вёдрах и перетаскивала во флягах молоко. Зинаида копнила пшеницу и рожь. И многое другое, что могли и умели делать эти дети, раз выпала участь на их плечи и на плечи их родителей, а тогда почти одних женщин, стариков да безногих мужчин, кого не взяли на фронт. За работу, худо-бедно, их кормили. И это было немало, ведь шла ещё война.
После долгих изнурительных дней и ночей война кончилась, как и началась, по ощущениям человеческого сознания как-то сразу и вроде неожиданно.
Васька, сбежавший с уроков, вернулся в школу и заорал во всё горло:
– Победа! Войне конец! Победа!
Всех распустили, уроков в этот день больше не было.
Жили после войны так же бедно. Маня ходила по ночам собирать колоски, это когда на скошенном поле можно было ещё подобрать или сорвать уцелевший колосок пшеницы или же на ржаном поле раздобыть ржаной колосок. Но это наказывалось строго, хотя к покосу или сбору с этого поля хлебов уже никто не возвращался.
В каждой многодетной семье было голодно. Матери как могли, так и подкармливали своих детишек: мололи из зёрен, что оставались на колосках, муку, добавляли чечевицу и пекли лепёшки. Почему нельзя было собирать колоски на брошенных и как бы никому ненужных уже в этом сезоне полях, никто не знал. Маня так и не поняла этого до конца своей жизни, только Зинаида потом будет рассказывать своим детям, что за это даже кого-то посадили. И вот как-то Маня в одну из ночей пришла без колосков, вся грязная, в рваной одежде, бледная, напуганная и долго плакала. На этот раз объездчик Фёдор, заметив кучку деревенских баб, собирающих колоски, начал их гонять.
Все, кто был проворнее, разбежались через придорожные кусты и скрылись в лесопосадках. Маня, исхудавшая, измождённая, болеющая тогда какой-то болезнью, которую бил кашель, за что потом бабы её ругали, что только из-за кашля, раздававшегося на всё поле, как лай собаки, Фёдор их и обнаружил, а если бы не она, глядишь, ничего, как всегда, и не было бы. Она попала чуть ли не под ноги чёрного жеребца, на котором Фёдор сидел верхом и размахивал большой плетью.
– Ну что, косорукая, говорил: попадёшься – запорю!
Слово «косорукая» прозвучало для Мани как-то неожиданно, потому что дразнили её в детстве Носком, видно от девичьей фамилии Носкова. А в землянках в лесу, когда прятались от немцев, её придавило упавшим деревом и изломало руку в нескольких местах. Потом кости срослись неправильно, и рука стала согнутой, косой и высохшей и сильно отличалась от другой руки. Маня была правшой, и искалеченной оказалась правая рука, что делало Маню неуклюжей, неловкой. Бежала она по пашне, по рытвинам и буеракам, падала, раздирала одежду и кожу о кусты и ветви деревьев. А тот, на лошади, время от времени догонял и перепоясывал её кнутом до красных полос на теле и рваных ран, что затянутся после грубыми рубцами.
А хуже всего, когда груди захлёстывал, очень больно было, и боялась Маня, что рубцы потом изуродуют молочные железы. Она выбежала снова на пашню, здесь было светлей, будто луна светила ярче, а пеньки от скошенных колосьев жёлтым светом отливали, оттого поле вокруг становилось янтарно-жёлтым. Упала на колени и закричала:
– Убивай, Фёдор! Запори насмерть. Детишек троих по миру пусти. И Мишку вспомни, не за себя одного, а, может, и за тебя с войны не вернулся!
Обуздал Фёдор коня, натянул поводья, ноздри у коня раздувались, и сам Фёдор тоже дышал тяжело. Трусом он не был, от фронта не прятался, а когда летом в гимнастёрке вернулся, места на груди не было, медали и ордена за доблесть солдатскую вплотную, как черепица на крыше, внахлёст, один орден за другим, одна медаль на другой, закрывали его широкую, трудом накачанную крестьянскую грудь.
– Иди! – сказал он тихо. – И не попадай боле, – добавил ей в спину.
И все колоски, что у других баб отобрал, за пазуху Мане сунул. Но через разорванную одежду Маня колоски все растеряла. Говорят, после этого Фёдор отказался, у председателя в кабинете, охранять поля по ночам.
А председатель нажимал на то, что он приказ самого товарища Сталина выполнять отказывается. Но Фёдор сказал как отрубил, что того приказа никогда не видел и не читал, а про Маню у председателя промолчал. Знал, что та председателю дальней сродственницей приходится по Мишкиной линии, который с войны не вернулся. Под Москвой пропал, много там их, курских, полегло, страшная война была.
Ну а через три дня сестру Наташку забрали и осудили на шесть лет. Васька знал, в чём там дело было, вину свою чувствовал. За последний год он скрытный стал, щеки нарастил, побелел, как пышка, многие заметили. В плечах стал раздаваться, в весе прибавил, но жители села списывали на возраст – мол, растёт наследник у Михаила. А Васька заприметил у тётки Наташи масло подсолнечное, а та сама стала с работы его частенько приносить. Повадился он у неё это масло подворовывать, убегал в кукурузное поле рядом с домом и, макая хлеб в масло, съедал половину бутылки, отлитой у Наташи. Она догадывалась, что за «кот» у неё завёлся, потом подкараулила и проследила за ним, но никому говорить не стала, знала, что и он никому не скажет, голод не тётка. Он ей сильно Михаила напоминал, похож был, сорванец, а она до сих пор Михаила любила и забыть так и не смогла.
Надеялась тоже, что вернётся. Взяли её, конечно, не по вине Васьки, просто органы хорошо работали. Сажали и других: за украденный мешок картошки, за карман сворованного зерна. А уж если попадёшься на ворованном подсолнечном масле, совсем несдобровать, по полной программе давали, на много лет сажали. Сначала брала Наташка как бы понарошку, а потом, когда Васька стал у неё подворовывать, начала уже умышленно носить – не чужих же детей балует, а своего племянника подкармливает.
Маня увидела из окна, как конвой забирает сестру, выбежала, упала прямо ей на плечи. Рыдала. Конвой не оттаскивал, отвернулись, стояли молча. Понимали – время такое. Маня рыдала, себя не помнила. А Наташка слезы не уронила, спокойной была, лишь прошептала:
– Хорошо, Михаил не видит, позор-то какой!
Вернулась она через шесть лет, жили они с Маней по соседству, дом к дому. Прожила Наташа свою трудную жизнь, ещё поработать успела, пенсию получила, на пенсии пожила, сестре больше не помогала и умерла раньше её.
Маня продолжала работать и днём и ночью, в любое время: до войны, во время войны, после войны. Она уже давно не знала, что такое отдых. Про отпуск и думать забыла, слова такого или похожего в голове у неё не осталось. Детишек тянула, вырастить хотела, в жизнь выпустить, чтоб шли дальше, чтоб жили лучше. Работала в колхозе за трудодни, денег не платили, почти всё себе сама выращивала: капусту, морковь, картошку. Дети ленивыми не были, во всём помогали. От государства помощи тогда ни вдовам, ни детям, хоть сиротам, не полагалось. Они ещё государству помогали. Для всех установили налог: держишь козу – сдай шерсть, держишь корову – молоко сдавай, если даже курица одна во дворе бегает – всё равно государству налог отдай… Задолжала она налог на картошку, чуточку утаить хотела. Зимой, ночью – органы приходили чаще всего по ночам – пришли из продотряда, выгребли остатки картошки из подпола прямо на снег. Маня босиком, в одной сорочке на картошку брякнулась и запричитала так, как на похоронах воют: