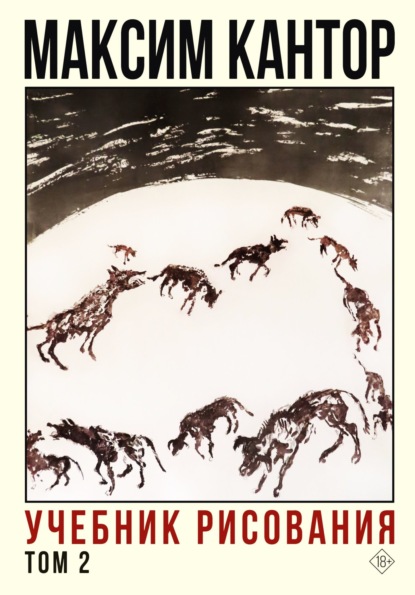Полная версия:
Максим Карлович Кантор Чертополох и терн. Возрождение веры
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Максим Кантор
Чертополох и терн. Возрождение веры
© Максим Кантор, 2021
© ООО «Издательство АСТ», 2021
* * *But value dwells not in particular will;
It holds his estimate and dignity
As well wherein 'tis precious of itself
As in the prizer: 'tis mad idolatry
To make the service greater than the god
And the will dotes that is attributive
To what infectiously itself affects,
Without some image of the affected merit.
Shakespeare, Troilus and CressidaДостоинство и ценность всякой вещи —
Внутри ее, равно как и в уме
Людей, ее ценящих. Неразумно
Служенье богу ставить выше бога!
Нередко люди наделять стремятся
Причудливыми свойствами предмет,
Которому те свойства не присущи.
Уильям Шекспир, Троил и КрессидаКарлу Кантору, отцу
Благодарности
Во всем, что пишу, ориентируюсь на отца, Карла Кантора, моего учителя.
Первоначальный набросок книги опубликован пять лет назад под названием «Чертополох». Книгу «Чертополох» посвятил жене, Дарье Акимовой.
Новая книга, «Чертополох и Терн», развивает предыдущую: уже не столько история искусств, сколько философия искусства. Без уроков отца книги не существует, посвящаю книгу ему.
Однако первоначальное посвящение сохраняет актуальность.
Уточнить жанр книги помог Эрик Хобсбаум, с которым посчастливилось дружить в последние годы его жизни, которому изложил замысел и получил несколько советов.
Работа была бы невозможна без консультаций друзей и коллег, которые брали на себя труд знакомиться с рукописью, советовать, уточнять детали. С благодарностью привожу имена тех, кто принял участие в подготовке материалов.
Игнас Бертон (Доминиканский монастырь, Брюссель), Леа Кампос Барлеви (Universita degli Studi di Firenza), Стивен Вайтфилд (Pembroke College, Oxford University), Харальд Видроу (St Catherine college, Cambridge University), Бернард Галлахер (Бирмингем), Вадим Дамье (Институт всеобщей истории, РАН), Кристиан Иллес, (Otto-Friedrich-Universitat, Bamberg), Георгий Кантор (St John College, Oxford University), Джанлука Куаццо (Universita degli Stidi di Torino), Андрей Писарев (Москва), Мэлис Рутвен (Лондон), Борис Фридман (Бостон), Витторио Хесле (Notre Dame University, Ind), Вадим Штейнман (Иерусалим), Гервиг Эпкес (Фрайбург), Жан Эре (LSRS, Люксембург).
Считаю долгом упомянуть ученых, дружба и беседы с которыми так или иначе нашли отражение в этой книге, хотя непосредственных консультаций по конкретному поводу и не было: Эрнст Нольте, Тони Негри, Сергей Шкунаев.
Существенную роль сыграла помощь Кристины Барбано и Наталии Григорцевич.
Консультации в переводах, поиски необходимой литературы, помощь в обширной переписке, возникавшей в процессе поисков новых источников, связь с музеями – это было сделано двумя исключительными помощниками.
Наталия Григорцевич взяла на себя труд вычитывать главы, которые бесконечно менялись в ходе уточнения общей концепции, помогала ценными советами. Помимо прочего, Кристина Барбано великодушно выполнила перевод некоторых глав на итальянский язык. Без Кристины и Наталии книги бы не было. Обеим – огромная благодарность.
Без поддержки и влияния семьи книги не пишутся. Учился и учусь у Дарьи Акимовой, Екатерины Зайцевой, у Георгия, Петера и Томаса. Благодарен за уроки брата, ученого и писателя Владимира Кантора, полученные в молодости. Сколь бы плохо я ни учился, уроки близких были важны. Спасибо им.
Выражаю благодарность изданиям, публиковавшим отдельные главы в сокращенном варианте.
Выражаю искреннюю признательность издательству АСТ и, разумеется, Сергею Тишкову. Терпеливое внимание к постоянным корректировкам заслуживает отдельной благодарности.
Предисловие
1Нет лучшего образа общества, чем палитра художника.
Демократию проще всего представить себе в виде набора разных красок, расположенных на палитре живописца в том порядке, как цвета идут друг за другом по спектру радуги. Так учат в начальной художественной школе: всякого цвета берут понемногу. Лимонно-желтый, потом желтый яркий, за ним оранжевый, затем вермильон, потом красный темный, потом пурпурный и так далее. Цветов много, все равновелики по значению. Новичок помещает на палитру все имеющиеся краски, радуясь пестроте, располагает краски без предпочтений, веером, смешивает все подряд, и, как правило, получается грязь. Грязь получается неизбежно, это закон: если смешать больше двух красок, то в результате выходит грязно-бурый оттенок. Так образуется общее убеждение толпы. Подавляющее большинство картин в мире написано грязными цветами.
Художник опытный располагает цвета контрастными парами. Не требуется обилия цветов, нужные оттенки можно получить в смесях. Синий и желтый произведут зеленый цвет, а красный с желтым дадут оранжевый. Гораздо важнее иметь три богатых красных оттенка на палитре, чем оранжевую краску. Существенно, что тот оранжевый, который произойдет от собственно красного, будет связан семейным, родовым происхождением со всеми цветами картины. Чужой оранжевый – лишний голос в хоре; посторонний звук нарушит гармонию. Палитра выглядит лаконично: вариации красных противопоставлены вариациям синих, желтый усилен оттенками ради разнообразия в смесях. В результате использования такой палитры вариации оттенков будут иметь общее происхождение и единую природу. Это палитра аристократическая.
Если несколько цветов изначально объявлены главными, эти цвета легко могут стать доминирующими и отменить все нюансы цвета. Так возникает живопись локальными цветами, плакатная живопись; строго говоря, это уже область знака и лозунга, к собственно живописи отношения не имеет. Так аристократическая палитра эволюционирует в олигархическую.
Существует, наконец, способ расположения красок веером подле основного цвета, вокруг той краски, которая чаще других используется в смесях. К белилам прибегают чаще прочих красок для того, чтобы обеспечить градацию тона: больше белил – светлее цвет, меньше – темнее. Поэтому многие делают белила центром палитры, причем сразу же кладут на палитру много белил, окружая белую краску небольшими порциями других красок. Важно то, что белила – это не цвет; белила – это необходимый регулятор; белила – безлики, это функция, а не характер. Такая палитра символизирует монархию. Часто, особенно у неопытных живописцев, происходит следующее: находясь в центре палитры, белая краска (которая предназначалась для градаций тона) проникает повсюду и вскоре разбеливает все цвета. Вместо того чтобы регулировать тональность, белая краска создает общую белесую кашу. Возникает фактически та же самая ситуация, что и при пестрой палитре демократии, – возникает общая грязь. Это тираническая палитра.
Глядя на картины в музеях, можно установить, какой именно палитрой эти картины написаны. Когда мы находимся в музее, мы видим не только хронологию, мы видим развитие состояний социума. Написать историю общества по истории живописи – задача естественная.
Надо лишь понять, что картина не иллюстрирует состояние общества, но картина сама создает общество.
Данная книга – не история искусств, но роман о живописи, которая меняет общество и меняется вместе с ним. Тем самым это роман об истории Европы, поскольку живопись по преимуществу европейское искусство.
2Искусство живописи предельно персонально, и важен выбор героев романа о живописи. Поскольку я считаю, что критерием общественного развития должен являться моральный императив, я выбирал художников, которые обдумывали принцип гуманизма – во всей сложности этого термина: от христианского гуманизма до гуманизма гражданского. Тем самым старался написать историю концепции гуманизма в Европе; главы книги – не жизнеописания, не хроника стилей, это исследование идеальной и идеологической палитры. Ведь идеи изменяются так же, как цвета: меняют оттенок, теряют интенсивность, превращаются в идеологию.
Существует тень идеи – идеология, которая пользуется тенью искусства – декоративной продукцией. Декоративная продукция, манипулирующая сознанием, тоже называется искусством. Плакат и знак постоянно подменяют то искусство, что продуцирует идеи и символы. Так палитра аристократическая превращается в плакатную палитру олигархии.
Красота сама по себе мир не спасет; сегодняшний мир наряден (кто-то может решить, что красив), но не защитит от зла, хотя бы потому, что зло и ложь – декоративны и красивы. Спасти мир может идея красоты, понятой как истина. В данном рассуждении важно понятие «идея». Идея есть формообразующий принцип мира; исходя из того, что мир должен существовать, идея есть благо. Не может существовать аморальной идеи, идеи лжи, идеи насилия. Такие идеологические установки возможны, но к идеям они отношения не имеют.
Если бы наука искусствознания верила в то, что главное в искусстве – идея, а не декорация, то искусствознание занималось бы не описанием произведения, но анализом идей. Шагнуть от иконографии к иконологии было непросто; вдруг оказалось, что возможно не только описывать то, что нарисовано, но исследовать метафизику произведения. Если согласиться, что изобразительное искусство есть род философии, тогда нужно изучать не только картину, но и то понимание картины, которое живет автономно от произведения. Идея, единожды родившись, живет самостоятельно.
Беда науке истории, если ученый ставит знак равенства между пророком и политическим интриганом; беда искусствознанию, если ученый путает художника, создающего идеи, с художником, провоцирующим энтузиазм.
3Книга называется «Чертополох и терн».
Четыре года назад я публиковал наброски о живописи, назвал ту книгу «Чертополох»; образ чертополоха возник по той причине, что структура растения напоминает готический собор. Листья и соцветия чертополоха похожи на аркбутаны и нервюры готического храма. Поскольку я полагаю, что живопись масляными красками явилась следствием готики, то счел возможным вынести слово «чертополох» в заглавие книги. Живопись масляными красками – вторая латынь Европы, всеобщий язык; требовалось показать, как возникала масляная живопись из семантики готического собора, из света и цвета витражей, как создала особую перспективу. Перспектива – это форма сознания, расставляющая ценности сообразно иерархии, существующей в нашем воображении, в той последовательности, какую диктуют убеждения. Мы видим то, что позволяем себе увидеть, что способны включить в наше априорное знание мира.
Масляная живопись, возникшая в XV в., не просто меняет обратную перспективу на прямую, но впускает в мир бесконечное множество прямых перспектив, различных меж собой так же, как различны авторы, их создавшие. Обратная перспектива – это взгляд на вещи, который исходит как бы от Бога; обратная перспектива едина для всех иконописцев, потому что Бог – един. Но прямая перспектива не может быть общей для всех. Общий индивидуальный взгляд – это нонсенс. Многовариантность прямых перспектив – следствие масляной живописи, усложнившей сознание. Если осознать перспективу как символическую форму (это проделал Панофский, об этом пишет Кант, трактуя пространство как функцию сознания), появится потребность понять: как перспективные построения создают разные общественные формы и различные толкования веры.
Живопись Ренессанса – это христианская живопись; но индивидуальное пространство, которое создала масляная живопись, подразумевает собственное толкование Завета. Существуют четыре канонических Евангелия и несколько апокрифических; но живопись создает параллельные тексты, которые можно расценить как варианты Писания. В эпоху размежевания церковных конфессий возникли тысячи индивидуальных пространств, описывающих христианскую догму с разных точек зрения. Живописец – это проповедник и даже евангелист; на этом основании и ради этого возникает искусство Боттичелли, Брейгеля, Гойи и Пикассо.
Существенно то, что живопись выполняет две противоречивые функции. Став проповедью, живопись не утратила ту свою ипостась, которая делает ее предметом эстетического наслаждения. Возникает парадоксальное соединение: красивое изделие, которое мастер создает индивидуально, имеет значение общей морали, и лишь в этом случае прекрасное становится примером христианского гуманизма. Художник, осознающий противоречие, – не просто мастер изобразительного искусства, но философ. Именно в живописи в большей степени, нежели чем через слово, явил Ренессанс противоречивую философию.
Живопись масляными красками постулирует свободу воли, хотя служит не самоутверждению, но общему благу. Такая свобода воли была выражена Эразмом в «Диатрибе», Лоренцо Валла в «Трактате о свободе воли», Франсуа Рабле в «Гаргантюа и Пантагрюэле», Монтенем, Кантом, Гегелем – вне эстетики этих мыслителей нет искусства живописи. Так роман о живописи (и история Европы) вступил в драматическую фазу: развитие действия опровергает замысел; развязка неизвестна.
Так герои мифов, путешествуя в поисках Руна или Грааля, проходят испытания на пути. Произведение искусства, если понимать искусство как образ истины и истории, поражает сразу, но ясным становится постепенно, при разглядывании; однако ясность может и не наступить. Существует версия, что история имеет логический конец и цель (автор книги разделяет это убеждение), но ведь это лишь догадка.
4Образы искусства, согласно толкованиям схоластов (чаще всего ссылаются на Фому Аквинского), раскрываются четырьмя последовательно применимыми методами.
Первой ступенью является буквальное толкование увиденного. Это самый распространенный метод узнавания искусства, буквальное толкование неизбежно сводится к описанию увиденного, то есть к экфрасису. Как явствует из житейской практики, не все зрители способны увидеть то, что изображено: надо увиденное облечь словами. «Смысл буквальный всегда должен предшествовать остальным, ибо в нем заключены и все другие и без него невозможно добиваться понимания иных смыслов, в особенности аллегорического» (Данте).
Второй ступенью является прочтение аллегории. Художник изобразил объект, и данный объект сообщает нам о существовании иных, более общих конструкций бытия. Так, портрет человека рассказывает про общество, где живет человек.
За аллегорическим следует моральное толкование, нравственный урок. Искусство показывает примеры хорошего или дурного; так воспитывает зрителя религиозное искусство; так манипулирует сознанием зрителя искусство идеологическое.
Последнее метафизическое толкование образа, схоласты называли его анагогическим, – это обнаружение сверхсмысла, по выражению Данте, то есть философской системы, открытой художественным образом.
Историки искусств, исследуя произведения, следуют этим ступеням знания.
1) Методом буквального описания картины пользуется иконография. Вельфлин – учитель иконографии оставил примеры формального описания образа.
2) Аллегорический метод познания образа предъявил Эрвин Панофский и историки искусства венской школы, создав дисциплину иконологию, разгадывающую семантику картин, вписанных в культурный контекст.
3) Моральный метод трактовки образов мы узнаем через идеологию и религию. Винкельман в XVIII в., оживив малоизвестное до того искусство греческой демократии, ввел в рассуждения об искусстве моральный императив.
4) Последний, метафизический, метод раскрытия образа – можно представить термином иконософия (по аналогии с иконографией и иконологией).
Иконософия утверждает ценность картины в том, что образ представляет метод размышления. Если икона существует как окно, распахнутое в ино-бытие, то светская картина является инструментом философствования, способом думанья. Возникает система мышления, которая продуцирует смыслы самостоятельно. Поняв систему думанья, можно анализировать не только картину, но историю, которую картина формирует.
Иконология, великое достижение венской школы, вечно будет пребывать заложницей иконографии, взрывающей любую концепцию иконологии изнутри. Это тот парадокс исторического знания, который не дает толкованию истории состояться. Финальной версии истории не существует, в противном случае жизнь бы замерла навсегда. История не останавливается, продуцируя новые трактовки постоянно. Иконология (как наблюдаем на примере критиков Панофского), обобщив опыт иконографии, оказывается уязвима для новых иконографических толкований. Но метафизическое толкование образа, та автономная жизнь, которую получает идея произведения, – неуязвима. Идея существует сама по себе: существует параллельно истории, реагируя на историю, отвечая на вызовы истории.
Существует жанр философского романа; я попытался написать иконософский роман.
5История искусств, прикасаясь ледяными пальцами к художникам, делает давно умерших мастеров еще более мертвыми. Фауст однажды сказал своему коллеге так:
…Не трогайте далекой старины.Нам не сломить ее семи печатей.А то, что духом времени зовут,Есть дух профессоров и их понятий,Который эти господа некстатиЗа истинную древность выдают.Как представляем мы порядок древний?Как рухлядью заваленный чулан,А некоторые еще плачевней —Как кукольника старый балаган.По мненью некоторых, наши предкиНе люди были, а марионетки[1].Именно потому, что следует говорить с живыми людьми, а не с куклами, надо пережить их строй мыслей, а не навязать им схему хрестоматии.
Структура романа такова: концепции авторов чередуются с рассуждениями, трактующими исторические причины или последствия концепций. Картина не иллюстрирует историю; картина – и есть история; переходя от анализа картины к рассказу об исторических событиях, я оставался в пределах сюжета.
В ходе работы потребовалось ответить на вопрос: может ли «гуманизм» отстоять свое значение без поддержки дефиниции «христианский»?
Название настоящей книги «Чертополох и Терн». Естественно увидеть в «терне» символ христианства. Этим словом обозначена не только вера, но и Церковь, и Священная Римская империя, и христианская империя, о которой мечтал Данте, и царство Иисуса. Будет справедливым увидеть в слове «чертополох» символ Ветхого Завета, пустынного растения, упрямого и затоптанного, но, тем не менее, цветущего. Почему символ Ветхого Завета одновременно символизирует и готику, автор догадывался смутно. Но постарался объяснить это себе самому.
Название выражает конфликт, что содержится в словосочетании «христианский гуманизм»: гуманность связана с верой или существует вопреки конфессии? Вера императивна, но если целью веры является освобождение, как соседствуют свобода и догма? Власть пользуется верой, а культура формирует власть: если свобода отрицает власть, то отрицает ли вместе с ней – веру и культуру? Полагаю, все это можно разглядеть в картине, понять историю – по истории живописи.
Название «Чертополох и Терн» можно прочитать как «Республика и Империя». Или «Ветхий Завет и Завет Новый». Разрешением этого уравнения занимается европейская живопись на протяжении своей истории.
Часть I. Возрождение веры
Глава 1. Образ общества в перспективе картины
1Изобразительное искусство в Средние века было средством пропаганды.
Пропаганда – резкое слово. Корректнее говорить о «внушении», «вразумлении», «просветлении» или, пользуясь выражением Толстого, о «заражении» идеей. Однако слово «пропаганда» избрано сознательно, чтобы заострить проблему: в течение многих веков искусство выполняло идеологические функции и выполняет их до сих пор. Лишь в короткий промежуток времени – от Высокого Ренессанса и вплоть до века революций – искусство стало частным занятием и перешло из разряда идеологии в форму философствования. Затем, во время, завершающее историю живописи, искусство снова стало средством пропаганды, методом манипулирования сознанием.
Принципиальное отличие мировоззрений, выраженное через противопоставление прямой перспективы ее предшественнице – обратной перспективе, описано подробно. Обратная перспектива соответствует взгляду Бога на Человека, прямая перспектива соответствует взгляду человека на мир, где точкой схода может быть Бог, а может и не быть. Но в промежутке между двумя ясными позициями – существует множество промежуточных дефиниций, а также такие, которые принципиально не соответствуют ни той, ни другой. Идеолог выражает конкретный социальный строй, но философ часто не описывает никакого социального строя вовсе, а лишь возможности и условия, сомнения и диалектику сомнений. Динамику мутаций: от идеологии к философии и опять к идеологии – можно проследить. Разумеется, никакие перемены в культуре не бывают тотальными и безусловными; искусство идеологическое хранит в себе рудименты философии и наоборот. Художник может мнить себя философом, но его произведения используются для пропаганды. Иконописец может быть убежденным последователем канона, но его произведение становится объектом не фанатичного поклонения, но философствования. Живопись – субстанция, зависящая от личности художника и зрителя, и всякий случай диалога уникален. Но в целом можно констатировать, что «философская» стадия развития изобразительного искусства миновала и, в связи с сугубо социальными, рыночными, демографическими вопросами, искусство снова вернуло себе идеологический статус. Идеология ли это рынка, прогресса, демократического общества, цивилизации, которая осознала себя вечно развивающимся организмом, – не столь важно. Важно то, что с определенного момента (и этот пункт в истории XX в. можно уточнить) произведению искусства, картине, статуе или иному объекту – потребовалось вступить в диалог с массой народа с сугубо практическими, манипулятивными целями. Конечно же, и во времена барокко, и в эпоху модерна живопись порой обслуживала вкусы королей или партийные интересы; но впервые после Средневековья перед изобразительным искусством была вновь поставлена задача тотального манипулирования. Отныне искусство вновь, как и в Средние века, говорит с массой, а вовсе не с избранным ценителем. И даже если эту условную массу олицетворяет один человек (директор музея, галерист, коллекционер, зритель), этот человек как бы делегирован всем социумом и представляет общую потребность. Искусство диалога «одного с одним», как было в XVI в. и как того хотел, скажем, Сезанн, – не могло выжить в соседстве иных форм воздействия на публику, таких как фотография, кинематограф, плакат, телевидение, а позже интернет. Изобразительное искусство мутировало естественным путем – в рамках социокультурной эволюции западного общества. В конце концов искусство, сколь бы ни было оно свободным, обслуживает конкретное общество и зависит от нужд общества.
Ценности, которые пропагандирует изобразительное искусство сегодня, отличаются от религиозных догматов, которые искусство было обязано воплощать в Средние века. Можно даже сказать, что сегодняшняя идеология во многом противоположна христианской. Не отрицает христианскую идеологию (это было бы невозможно для цивилизации, которая именует себя «христианской»), но отнюдь не воспроизводит ту христианскую идеологию, что обслуживала средневековое общество. Христианская цивилизация мутировала, и искусство, выражающее цивилизацию, менялось вместе с ней.
Некоторые аспекты христианской церковной идеологии перешли в законы современной цивилизации, но изобразительное искусство воплощает не закон, но дух культуры; идеалы современного общества не христианские, и, соответственно, изобразительное искусство с христианской символикой более не связано. Христианская икона породила специфическое символическое искусство, и эти символы затем перешли в искусство светское, всякий раз отсылая зрителя к христианскому догмату. Но современное изобразительное искусство мутировало от принципов символики – к знаковому письму. Связан ли современный знак и то, как знак используют, с дохристианской цивилизацией или христианская цивилизация в своих мутациях описала своего рода круг и вернулась к истокам – сказать нельзя. Очевидно, что перемена произошла, и знак, как инструмент идеологической работы, более востребован, нежели символ. Знак показал себя значительно более эффективным в работе с массами. Но и во время философствования, и во времена идеологии главным в изобразительном искусстве Европы остается не декоративность, а своего рода внушение. Картина или скульптура передают энергию такого рода, которая формирует общество.
И во время своего возникновения, и на закате само качество изобразительного искусства не столь важно, как та идеология, которую искусство транслирует.
Важно то, что произошло с изобразительным искусством в промежутке между этими полюсами, на пути от христианского символа – к языческому тотему.
В промежутке между этими полюсами изобразительное искусство существовало независимо от общественной идеологии или с незначительной зависимостью. Если история искусства когда-либо будет написана так, как пишется история философии, то это будет не перечень артефактов и биографий, но история эволюции взаимоотношения произведения – и общества. История живописи воплощает одновременно и движение социальной эволюции, и преобразование социальной эволюции в субстанцию духа, собственно – в осознанную, осмысленную свободу. Состоявшись как автономная субстанция, эта свобода в свою очередь формирует социум.