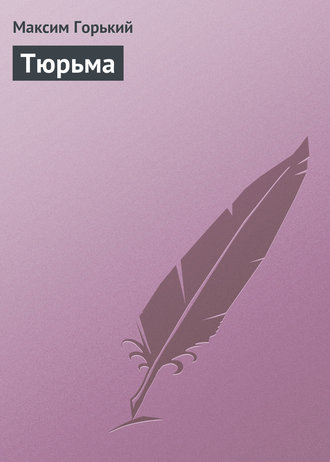
Максим Горький
Тюрьма
– Ходите! – сказал надзиратель. – Останавливаться – нельзя…
Миша медленно пошёл, а надзиратель, оглядываясь, следовал за ним немного в стороне.
– Чего вы всё бунтуете? – тихо говорил он, глядя в землю. – Учились бы себе… потом вышли бы товарищем прокурора – только и всего! А вы – бунтуете… такой молодой, красавец… Чай, мамаша есть?..
Миша был тронут его словами, и он остановился, засмеялся и, приложив руки к груди, тоже хотел сказать что-то простое, ласковое… но надзиратель испуганно отскочил, оглянулся вокруг и быстро зашептал:
– Идите, идите! Увидят – оштрафуют меня за разговор…
Он скрылся за углом тюрьмы, а юноша, полный смешанным чувством печали, любопытства, начал медленно ходить вдоль высокой тюремной ограды…
Над приземистым, грязно-серым зданием тюрьмы, с четырьмя башнями по углам, безмолвно распростёрлось бледно-голубое небо, вымытое осенними дождями, полинявшее…
«Сколько времени просижу я здесь?» – подумал Миша, оглядываясь вокруг. Ему казалось, что уже и теперь он мог бы рассказать о тюрьме довольно много интересного, если б его выпустили.
Он не заметил, как быстро прошло время прогулки, и, когда рябой надзиратель, подойдя к нему, сказал: «Пожалуйте в камеру…» – он удивлённо воскликнул:
– Уже?
Надзиратель утвердительно кивнул головой. В коридоре он тихо сообщил Мише:
– А у меня мамаша в богадельне…
И виновато опустил голову.
– Ага!.. Ну – ничего! – улыбаясь, сказал Миша, не найдя более удачных слов. Снова закрылась тяжёлая дверь камеры, резко и зло загремело железо засова и замка…
Так и потекла его жизнь день за днём, однообразно правильная, одноцветная…
V
…Поверка давно кончилась, и тюрьма спит тяжёлым сном. Сквозь глазок в двери из коридора доносятся порою какие-то странные звуки… Кто-то шепчет во сне, – кто-то бредит, должно быть. Тихо шаркают за дверью шаги надзирателя – сегодня дежурит старик с неподвижными глазами. Он медленно ходит по коридору и бормочет, а Миша лежит на нарах и, чутко прислушиваясь, думает.
Сегодня, во время прогулки, рябой досказал ему свою историю. Он – сын какого-то офицера, который соблазнил его мать, швейку, и – бросил её, оставив на память о себе свою фотографическую карточку и ребёнка. Молодая женщина четырнадцать лет нянчила сына и всё работала без отдыха, не имея в жизни ничего, кроме сына. Она отдала его в приходскую школу, потом в городское училище, но там однажды учитель дёрнул мальчика за волосы, и мать, никогда не сказавшая сыну своему даже грубого слова, взяла его домой. Потом она нашла ему место писца у судебного следователя, а сама все шила, делала цветы, вязала чулки, всё работала. Сына взяли в солдаты, и там он, воспитанный любовью матери и влюблённый в неё, не стерпев насмешек над нею со стороны унтер-офицера, ударил начальника во время ученья. За это его отдали на три года в дисциплинарный батальон, без зачёта службы, а мать его всё работала и плакала над жизнью своего сына. Прослужив в солдатах семь лет, измученный, запуганный, он воротился домой и нашёл мать почти ослепшей, – она уже не могла работать, а ходила на паперти церквей собирать милостину… Но и тогда она подарила ему шарф, связанный ею, – последнюю работу дряхлых пальцев и полуслепых глаз, последнее воплощение своих сил, безропотно отданных сыну. Он несколько месяцев не мог найти себе дела и жил милостиной, собранной матерью. А потом она совсем ослепла; он, наконец, получил место в тюрьме; кто-то поместил слепую старуху в богадельню, и там она теперь вяжет чулки сыну своему…
«Какая женщина! – думал Миша. – Сколько любви… сколько простой, трогательной красоты!»
Он вспомнил пугливые, недоумевающие глаза рябого, его тихий голос…
– Какой же смысл в её труде, если сын всё-таки…
– Господин Малинин! – послышался громкий шёпот.
Миша вскочил с нар, – в окошечке двери беспокойно светился глаз надзирателя.
– Вы чего говорите? – спрашивал старик.
– Я? Я – не говорю… – удивлённо ответил Миша.
– Ведь я слышал!
– Это, должно быть, так…
– То-то… А вы удержите себя…
Глаз надзирателя на минуту скрылся, потом снова явился, и старик заговорил предупреждающим шёпотом:
– Вот так же всё разговаривал с самим собой… один тут… сказать правду – племянник он мне…
– Ну? – быстро спросил Миша.
– Ну, и свезли его в сумасшедший дом…
– Племянник ваш?
Глаз странно прыгал, – должно быть, надзиратель утвердительно кивал головой.
– И – сидел здесь? – тихо спросил Миша.
– В девятом номере…
– И вы его… вы – тоже были здесь? – не сразу сказал Миша.
– Я здесь – семнадцать лет, – спокойно ответил старик.
Миша, глядя на тусклый глаз старика, на его длинный хрящеватый нос, хотел спросить его:
«Неужели и племянника своего вы так же вот караулили, как меня?»
Но, боясь обидеть старика, он не спросил об этом, а только сказал:
– Давно вы здесь…
– Подождите-ка, я стул принесу себе, – подмигнув, зашептал старик, – а то – трудно мне нагибаться… спина болит.
Он ушёл. Миша стоял перед дверью, слушая шарканье его ног, и думал:
«Если у человека есть душа – у этого она должна быть такая же тёмная, сморщенная и сухая, как его лицо…»
Старик воротился, бесшумно приставил к двери стул, и снова в круглом отверстии явился его глаз и мохнатая, седая бровь, высоко поднятая над ним.
– Вот так-то лучше, – заговорил он. – Спать я не могу – косточки болят… И вы не спите… вот мы и поговорим… Ночью это можно… днём – нельзя, а ночью – кто узнает? Днём-то я притворяюсь, будто строгий с вами… нельзя иначе, начальство требует! А ночью и с вами можно поговорить… К тому же – какой вы преступник? Эхе-хе! Жалко мне вас… Смеётесь вы, радуетесь, будто вам чин дали… молодость! Повинились бы вы начальству-то…
Мише стало неприятно слушать. Он нервно наклонился к двери и спросил старика:
– Ваш племянник чем занимался?
Снова зашуршал в камере сухой, бесцветный голос:
– Слесарь… Инженера он застрелил… Про него даже в газетах писали… как же! Он сам мне газету читал… случаем она попала, а в ней как раз про него и напечатано… Читал он – и смеялся… вот как вы… Резкий парень был… Мать-то его – сестра моя – ревела, ревела… Однако – слезой кровь не смоешь… Бывало, я скажу ему – ну что, Фёдор, какова она, тюрьма-то? А он только фыркнет… Сначала – всё молчал он здесь, сердитый был. А потом – разговаривать начал… да и заговорился…
– Что же он говорил? – тихо осведомился Миша.
– А так – разное… кто же его знает? Вы не калужский сами-то?
– Да…
– То-то… фамилия знакомая. Почтмейстер в Калуге был, Малинин…
– Отец мой…
– Ну-ну… ведь и я калужский… да! Умер отец-то?
– Умер…
– Та-ак… все умрём!
Говорили они оба шёпотом, и голоса их шуршали в тишине, как сухие листья осени. За окном, как бы отмеряя уходящие минуты, глухо топали по земле мерные шаги часового.
– Скучно вам здесь? – спросил Миша.
– Старикам везде скушно… – ответил ему из-за двери шёпот.
– А… племянника жалко было… когда он здесь сидел?
– Что же его жалеть, коли он человека убил… Сестру жалко… А кто человека убил…
Старик вдруг замолчал, и лицо его исчезло, точно упало вниз. Миша смотрел в окошечко и ждал.
Лицо старика поравнялось с его лицом, и, медленно двигая тонкими губами большого рта, окружённого клочьями седых волос, старик, кивая головой и как будто усмехаясь, сказал:
– Соврал я… жалко мне Федьку… тоже молодой был… хороший парень…
Вдруг по коридору, всколыхнув тишину, точно порыв ветра тёмную воду уснувшего пруда, пронёсся дикий, потрясающий вой:
– Не бей… голубчики… помилуйте!
– Что это? Что? – вздрогнув, крикнул Миша.
– Ш-шш! – зашипел старик. – Ничего… Это он во сне… они часто кричат… Тоже ведь у всякого своя совесть есть… Нуте-ка, спите… Ложитесь-ка с богом… Уж двенадцать било…
Он встал и пошёл прочь, и ноги его так шаркали, точно по полу тащили что-то большое, мягкое и очень тяжёлое.
Миша подошёл к нарам, лёг и уставился печальными глазами в каменный, грязный свод, молча нависший над его головой.







