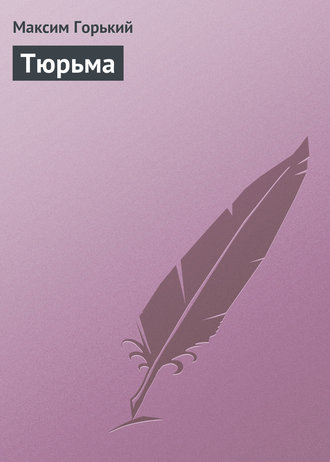
Максим Горький
Тюрьма
– Смирно-о! – донеслось в камеру Миши подавленное восклицание.
Где-то протяжно завизжал блок, хлопнула дверь, воздух вздрогнул от звука, похожего на выстрел, вновь раздался тяжёлый скрежет железа, отчётливо прозвучали мерные твёрдые шаги, ещё раз Миша услыхал суровый окрик:
– Смирно-о!..
И – стало тихо, точно всю тюрьму сразу окутали мягкой, непроницаемой для звуков тёмной тканью…
Малинин почувствовал, что у него точно зуб заболел, но тотчас же устыдился тихо ноющей боли, встряхнул головой, сунул руки глубоко в карманы брюк и, громко насвистывая, зашагал по камере.
В окошке явился мёртвый глаз надзирателя, и его сухой старческий голос спокойно произнёс:
– Свистеть – нельзя!
– Нельзя? – остановясь, повторил Миша.
– Ну, да…
– Хорошо… не буду! – усмехаясь, сказал Миша, пожав плечами.
Несколько секунд глаз тускло поблестел, потом медленно всплыл вверх. За дверью прозвучали, удаляясь, мягкие шаги. В соседней камере у каторжан гудел тёмный, однообразный шум… Кто-то, должно быть, молился или рассказывал сказку… Миша подошёл к окну, встал на подоконник и, прислонясь лбом к холодному железу решётки, стал смотреть во тьму ночи… А ночь была так густо темна, что казалось – если за окно высунуть руку, – рука покроется сырым, чёрным, как сажа, налётом…
III
В тишине, точно подстерегавшей звуки и готовой резко обнаружить их, Миша почувствовал, что в нём снова растёт гордость собою.
…Среди сотни людей только он один нашёл в себе мужество смело спорить против насилия!.. Ему вспомнились влажные глаза девушки. Может быть, теперь, сидя в своей маленькой комнатке, она рассказывает подругам о том, как высокий студент говорил речь, призывая на борьбу с насилием.
Высоко в чёрном небе трепетно горели маленькие, страшно далёкие звёзды – сквозь грязное стекло окна плохо было видно их.
Миша, не мигая, смотрел в высоту, и его думы кружились в медленном хороводе, сменяя одна другую…
«Приятно будет рассказывать о тюрьме, когда выйдешь на свободу!..» – думалось ему. Он крепко закрыл глаза, подумал и через минуту взволнованно шептал:
Сквозь железные решётки
С неба в окна смотрят звёзды…
Ах! В России даже звёзды
Смотрят с неба сквозь решётки…
Четверостишие показалось ему красивым и остроумным. Обрадованный этим, он соскочил с окна и, расхаживая по камере, вслух стал декламировать, возбуждённо улыбаясь:
Ах! В России даже звёзды
Сквозь решётки смотрят с неба!
– Говорить – нельзя! – раздался тревожный, громкий шёпот.
Миша остановился и несколько секунд молча смотрел в глаз надзирателя, блестевший среди двери.
– Почему же нельзя? – спросил он наконец, невольно понижая голос.
– Запрещено!
Мише показалось, что теперь глаз точно ожил и в нём сверкает испуг.
– Но – почему? – тихо спросил Миша, подходя к двери. – Ведь кроме вас – никто не слышит… а вам разве я мешаю?
Он наклонился к двери, и вместе с тёплым дыханием лица его коснулись странные, строгие слова:
– Чего вы смеётесь, господин студент? Разве для смеху вас сюда посадили?
– Да скажите вы… – начал Миша.
Но глаз надзирателя исчез, за дверью притаилась тишина.
– Смирно! – глухо раздался за окном сиплый голос. Звякнуло ружьё, составленное к ноге. Во тьме часовой торопливо и негромко бормотал:
– Двенадцать окошков… дыве будки…
– Ты, чуваш! Ежели увидишь башка из окна высунется, або рука – не стреляй!..
– Слушаю!
– То-то! А то – бухнешь, как намедни… Быков, объясни ему подробно!..
В тишине каждое слово сверкает, как искра во тьме.
– Ежели увидишь – в окно смотрят – не стреляй! Понял?
– Тах точино…
Слова, сказанные ломаным языком, звучат боязливо и грустно.
– Ну, а ежели кто полезет из окна, а то побежит тут вот, али там – видишь?
– Тах точино…
– Сейчас ты кричи – кто идёть? И раз кричи, и два… а третий – стреляй, ну, только – вверх, для тревоги… И тогда – бегущего этого – тоже стреляй… али бей прикладом, али штыком… Как тебе сподручно, понял?
– Тах точино…
– Ну, ходи теперь вот отсюда дотудова… и гляди в окна… Да – дрыхнуть не вздумай!
– Никак нету…
– То-то, – идол! А ну, объясни – когда ты должен стрелять?
– Кохда полезит на стине…
– А ежели он прямо через стенку?
Слышно, как ноги нетерпеливо топают о сырую землю.
– Н-ну, чёрт!..
– Тохда – бить… – раздаётся робкий, тихий голос.
– А ежели – голова в окне, – тогда что?
Молчание. Брякает ружьё. Озлобленно плюют…
– Н-ну, дубовая башка!..
Громко звучит нецензурное ругательство и – противный звук, точно ударили ладонью по тесту…
– Тогда – ничего… – как вздох, доносится едва слышный ответ.
– Врёшь! – рычит бас. – Тогда должен сказать – убери прочь голову… Понял? У, жабья морда… Марш!..
…Миша плотно прильнул к решётке, стараясь увидеть часового, который говорит так грустно и робко. Узкое пространство между стеной тюрьмы и высокой каменной оградой было наполнено густой тьмой, и в ней медленно, почти бесшумно двигалась небольшая серая фигурка, высоко подняв голову. Тонкая полоска штыка, поблескивая во мраке, была похожа на рыбу в воде.
– Вубери башка! – прозвучал торопливый, испуганный возглас.
Миша тихо слез с подоконника, осмотрелся вокруг. В камере было душно… На глаза ему попало циничное ругательство, крупно выведенное карандашом на сером фоне стены… Он прочитал его, помолчал и вдруг громко повторил вслух… Потом взглянул на дверь, лёг на нары и закрыл глаза…
Тотчас же в двери тускло заблестел рыбий глаз…
IV
Миша крепко спал, раскинувшись на нарах, и ему снилось, что он бежит по узкой, тёмной улице, а за ним гонится кто-то невидимый, хватает его за плечи и кричит непонятные, строгие слова:
– Поверка!..
Он открыл глаза, приподнял голову – около нар стоял рыжий, толстый надзиратель и дёргал его за полу тужурки, а высокий, сутулый помощник начальника тюрьмы насмешливо смотрел на него серыми глазами и говорил:
– Извольте вставать вовремя, здесь не у маменьки!
– Сейчас… – безобидно улыбаясь, сказал Миша, быстро соскочив с нар.
Помощник начальника взглянул ему в лицо, отвернулся к двери и уже мягче заметил:
– Вы бы спросили бумаги и написали домой… насчёт постели… и прочее…
Потом Миша ходил умываться в конец коридора, где над широким и длинным железным корытом из стены торчал ряд медных кранов, а из них текла круглой, толстой струёй холодная вода… По коридору бегали серые арестанты с жестяными чайниками в руках, и время от времени раздавался крик:
– За кипятком… эй!
Гремя кандалами, навстречу Мише прошёл высокий, стройный каторжник с бледным лицом, в густой русой бороде; он взглянул на студента, подмигнул ему и, улыбаясь, сказал:
– Что, барчук, накрыли?
Рыжий надзиратель принёс Мише кружку тёплого, жидкого чая и большой кусок чёрного хлеба.
Тюрьма гудела, как гнездо ос. Раздавался смех, ругань, обрывки песен, резкие окрики надзирателей, в коридоре мягко шуршали швабры, хлюпала вода, и Миша, полный острого интереса к жизни и людям, запертым в этом старом здании из камня и грязи, напряжённо вслушивался в гулкий шум…
Он мало читал и ещё меньше видел; до университета его жизнь скучно текла в строгом доме сестры и её мужа, и он чувствовал себя неловко среди тех студентов, которые свободно и горячо говорили мудрёным, книжным языком о разных общественных вопросах. Общая волна недовольства жизнью уже успела коснуться его души, возбуждая в ней смутное, но здоровое желание протеста, но он ещё не успел понять, куда, на что именно следует обратить этот протест. Теперь, чувствуя себя героем, он с жадностью юноши поглощал новые впечатления, наполняя ими огромную ёмкость молодой души…
Выпив чай, он влез на подоконник. По тропинке, у высокой стены, окружавшей тюрьму, быстрыми шагами ходил, заложив руки за спину, широкоплечий, чёрный человек в картузе и коротком толстом пиджаке. Порою он сильным движением вскидывал голову и, не останавливаясь, быстрым взглядом осматривал окна. Несколько раз Миша чувствовал, как этот наблюдательный взгляд ярких глаз скользил по его лицу. Ему захотелось что-то сказать этому человеку, назвать свою фамилию, спросить, за что он сидит, и, когда человек поравнялся с окном, Миша негромко крикнул:
– Послушайте!..
Откуда-то из-под окна явился часовой и, грозя пальцем, сурово сказал:
– Эй… нельзя!
Человек в картузе пожал плечами и, улыбнувшись Мише, прошёл далее. Миша спрыгнул на пол.
Около полудня в камеру вошёл молодой и тонкий, как тростинка, надзиратель, с лицом, безобразно изрытым оспой. Он встал в двери и, не глядя на арестованного, тихо сказал:
– Пожалуйте на прогулку…
На дворе тюрьмы, в ямках между камнями, блестела отстоявшаяся вода; трое арестантов ходили по двору с метлами и лениво сгоняли воду к воротам, а она, уже мутная, густо насыщенная грязью, вновь медленно расползалась между камнями…
Надзиратель привел Мишу за угол тюрьмы и негромко проговорил:
– Гуляйте вот тут, от угла до стены, – разговаривать с арестантами – нельзя!
Здесь, под голубым, безгранично высоким небом, слово «нельзя» точно впервые коснулось сердца Миши, и теперь в звуках его он почувствовал нечто унижающее. Нахмурив брови, он взглянул в лицо надзирателя, неподвижное, как маска, поросшее на скулах и подбородке кустиками светлых волос, и глаза на этом лице показались ему лишними, чужими; тёмные, овальные, прикрытые длинными ресницами, они смотрели ласково, и в них светилось что-то робко-недоумевающее…







