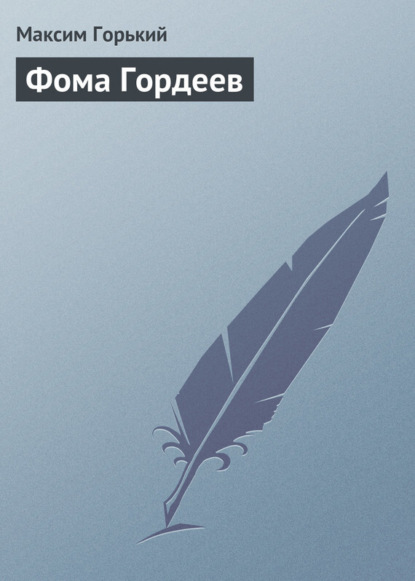
- Рейтинг Литрес:4.6
- Рейтинг Livelib:4.2
Полная версия:
Максим Горький Фома Гордеев
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Максим Горький
Фома Гордеев
Антону Павловичу Чехову
М. ГорькийI
Лет шестьдесят тому назад, когда на Волге со сказочною быстротой создавались миллионные состояния, – на одной из барж богача купца Заева служил водоливом Игнат Гордеев.
Сильный, красивый и неглупый, он был одним из тех людей, которым всегда и во всем сопутствует удача – не потому, что они талантливы и трудолюбивы, а скорее потому, что, обладая огромным запасом энергии, они по пути к своим целям не умеют – даже не могут – задумываться над выбором средств и не знают иного закона, кроме своего желания. Иногда они со страхом говорят о своей совести, порою искренно мучаются в борьбе с ней, – но совесть непобедима лишь для слабых духом; сильные же, быстро овладевая ею, порабощают ее своим целям. Они приносят ей в жертву несколько бессонных ночей; а если случится, что она одолеет их души, то они, побежденные ею, никогда не бывают разбиты и так же сильно живут под ее началом, как жили и без нее…
В сорок лет от роду Игнат Гордеев сам был собственником трех пароходов и десятка барж. На Волге его уважали, как богача и умного человека, но дали ему прозвище – Шалый, ибо жизнь его не текла ровно, по прямому руслу, как у других людей, ему подобных, а то и дело, мятежно вскипая, бросалась вон из колеи, в стороны от наживы, главной цели существования. Было как бы трое Гордеевых – в теле Игната жили три души. Одна из них, самая мощная, была только жадна, и, когда Игнат подчинялся ее велениям, – он был просто человек, охваченный неукротимой страстью к работе. Эта страсть горела в нем дни и ночи, он всецело поглощался ею и, хватая всюду сотни и тысячи рублей, казалось, никогда не мог насытиться шелестом и звоном денег. Он метался по Волге вверх и вниз, укрепляя и разбрасывая сети, которыми ловил золото: скупал по деревням хлеб, возил его в Рыбинск на своих баржах; обманывал, иногда не замечал этого, порою – замечал, торжествуя, открыто смеялся над обманутыми и, в безумии жажды денег, возвышался до поэзии. Но, отдавая так много силы этой погоне за рублем, он не был жаден в узком смысле понятия и даже, иногда, обнаруживал искреннее равнодушие к своему имуществу.
Однажды, во время ледохода на Волге, он стоял на берегу и, видя, как лед ломает его новую тридцатипятисаженную баржу, притиснув ее к обрывистому берегу, приговаривал сквозь зубы:
– Так ее!.. Ну-ка еще… жми-дави!.. Ну, еще разок!..
– Что, Игнат, – спросил его кум Маякин, – выжимает лед-то у тебя из мошны тысяч десять, этак?
– Ничего! Еще сто наживем!.. Ты гляди, как работает Волга-то! Здорово? Она, матушка, всю землю может разворотить, как творог ножом, – гляди! Вот те «Боярыня» моя! Всего одну воду поплавала… Ну, справим, что ли, поминки ей?
Баржу раздавило. Игнат с кумом, сидя в трактире, на берегу, пили водку и смотрели в окно, как вместе со льдом по реке неслись обломки «Боярыни».
– Жалко посуду-то, Игнат? – спросил Маякин.
– Ну, чего ж жалеть? Волга дала, Волга и взяла… Чай, не руки мне оторвало…
– Все-таки…
– Что – все-таки? Ладно, хоть сам видел, как все делалось, – вперед – наука! А вот, когда у меня «Волгарь» горел, – жалко, не видал я. Чай, какая красота, когда на воде, темной ночью, этакий кострище пылает, а? Большущий пароходина был…
– Будто тоже не пожалел?
– Пароход? Пароход – жалко было, точно… Ну, да ведь это глупость одна – жалость! Какой толк? Плачь, пожалуй: слезы пожара не потушат. Пускай их – пароходы горят. И – хоть всё сгори – плевать! Горела бы душа к работе… так ли?
– Н-да, – сказал Маякин, усмехаясь. – Это ты крепкие слова говоришь… И кто так говорит – его хоть догола раздень, он все богат будет…
Относясь философски к потерям тысяч, Игнат знал цену каждой копейки; он даже нищим подавал редко и только тем, которые были совершенно неспособны к работе. Если же милостыню просил человек мало-мальски здоровый, Игнат строго говорил:
– Проваливай! Еще работать можешь, – поди вот дворнику моему помоги навоз убрать – семишник дам.
В периоды увлечения работой он к людям относился сурово и безжалостно, – он и себе покоя не давал, ловя рубли. И вдруг – обыкновенно это случалось весной, когда все на земле становится так обаятельно красиво и чем-то укоризненно ласковым веет на душу с ясного неба, – Игнат Гордеев как бы чувствовал, что он не хозяин своего дела, а низкий раб его. Он задумывался и, пытливо поглядывая вокруг себя из-под густых, нахмуренных бровей, целыми днями ходил угрюмый и злой, точно спрашивая молча о чем-то и боясь спросить вслух. Тогда в нем просыпалась другая душа – буйная и похотливая душа раздраженного голодом зверя. Дерзкий со всеми и циничный, он пил, развратничал и спаивал других, он приходил в исступление, и в нем точно вулкан грязи вскипал. Казалось, он бешено рвет те цепи, которые сам на себя сковал и носит, рвет их и бессилен разорвать. Всклокоченный, грязный, с лицом, опухшим от пьянства и бессонных ночей, с безумными глазами, огромный и ревущий хриплым голосом, он носился по городу из одного вертепа в другой, не считая бросал деньги, плакал под пение заунывных песен, плясал и бил кого-нибудь, но нигде и ни в чем не находил успокоения.
О его кутежах в городе создавались легенды, его строго осуждали, но никто никогда не отказывался от его приглашения на оргии. Так он жил неделями. И неожиданно являлся домой еще весь пропитанный запахом кабаков, но уже подавленный и тихий. Со смиренно опущенными глазами, в которых теперь горел стыд, он молча слушал упреки жены, смирный и тупой, как овца, уходил к себе в комнату и там запирался. По нескольку часов кряду он выстаивал на коленях пред образами, опустив голову на грудь; беспомощно висели его руки, спина сгибалась, и он молчал, как бы не смея молиться. К дверям на цыпочках подходила жена и слушала. Тяжелые вздохи раздавались за дверью – вздохи лошади, усталой и больной.
– Господи! Ты – видишь!.. – глухо шептал Игнат, с силой прижимая к широкой груди ладони.
Во дни покаяния он пил только воду и ел ржаной хлеб. Жена утром ставила к двери его комнаты большой графин воды, фунта полтора хлеба и соль. Он отворял дверь, брал эту трапезу и снова запирался. Его не беспокоили в это время, даже избегали попадаться на глаза ему… Через несколько дней он снова являлся на бирже, шутил, смеялся, принимал подряды на поставку хлеба, зоркий, как опытный хищник, тонкий знаток всего, что касалось дела.
Но во всех трех полосах жизни Игната не покидало одно страстное желание – желание иметь сына, и чем старее он становился, тем сильнее желал. Часто между ним и женой происходили такие беседы. Поутру, за чаем, или в полдень, за обедом, он, хмуро взглянув на жену, толстую, раскормленную женщину, с румяным лицом и сонными глазами, спрашивал ее:
– Что, ничего не чувствуешь?
Она знала, о чем он спрашивал, но неизменно отвечала:
– Как мне не чувствовать? Кулаки-то у тебя – вона какие, как гири…
– Я про чрево спрашиваю, дура…
– От такого бою разве можно понести?
– Не от бою ты не родишь, а оттого, что жрешь много. Набьешь себе брюхо всякой пищей – ребенку и негде зародиться.
– Будто я не родила тебе?..
– Девок-то! – укоризненно говорил Игнат. – Мне сына надо! Понимаешь ты? Сына, наследника! Кому я после смерти капитал сдам? Кто грех мой замолит? В монастырь, что ль, все отдать? Дадено им, – будет уж! Тебе оставить? Молельщица ты, – ты, и во храме стоя, о кулебяках думаешь. А помру я – опять замуж выйдешь, попадут тогда мои деньги какому-нибудь дураку, – али я для этого работаю? Эх ты…
И его охватывала злобная тоска, он чувствовал, что жизнь его бесцельна, если не будет у него сына, который продолжал бы ее.
За девять лет супружества жена родила ему четырех дочерей, но все они умерли. С трепетом ожидая рождения, Игнат мало горевал об их смерти – они были не нужны ему. Жену он бил уже на второй год свадьбы, бил сначала под пьяную руку и без злобы, а просто по пословице: «люби жену – как душу, тряси ее – как грушу»; но после каждых родов у него, обманутого в ожиданиях, разгоралась ненависть к жене, и он уже бил ее с наслаждением, за то, что она не родит ему сына.
Однажды, находясь по делам в Самарской губернии, он получил из дома от родных депешу, извещавшую его о смерти жены. Он перекрестился, подумал и написал куму Маякину:
«Хороните без меня, наблюдай за имуществом…»
Потом он пошел в церковь служить панихиду и, помолившись о упокоении души новопреставленной Акилины, решил поскорее жениться.
В то время ему было сорок три года; высокий, широкоплечий, он говорил густым басом, как протодьякон; большие глаза его смотрели из-под темных бровей смело и умно; в загорелом лице, обросшем густой черной бородой, и во всей его мощной фигуре было много русской, здоровой и грубой красоты; от его плавных движений и неторопливой походки веяло сознанием силы. Женщинам он нравился и не избегал их.
Не прошло полугода со дня смерти жены, как он уже посватался к дочери знакомого ему по делам уральского казака-старообрядца. Отец невесты, несмотря на то, что Игнат был и на Урале известен как «шалый» человек, выдал за него дочь. Ее звали Наталья. Высокая, стройная, с огромными голубыми глазами и длинной темно-русой косой, она была достойной парой красавцу Игнату; а он гордился своей женой и любил ее любовью здорового самца, но вскоре начал задумчиво и зорко присматриваться к ней.
Улыбка редко являлась на овальном, строго правильном лице его жены, – всегда она думала о чем-то, и в голубых ее глазах, холодно спокойных, порой сверкало что-то темное, нелюдимое. В свободное от занятий по хозяйству время она садилась у окна самой большой комнаты в доме и неподвижно, молча сидела тут по два, по три часа. Лицо ее обращено на улицу, но взгляд был так безучастен ко всему, что жило и двигалось за окном, и в то же время был так сосредоточенно глубок, как будто она смотрела внутрь себя. И походка у нее была странная – Наталья двигалась по просторным комнатам дома медленно и осторожно, как будто что-то невидимое стесняло свободу ее движений. Дом был обставлен с тяжелой, грубо хвастливой роскошью, все в нем блестело и кричало о богатстве хозяина, но казачка ходила мимо дорогих мебелей и горок, наполненных серебром, боком, пугливо, точно боялась, что эти вещи схватят ее и задавят. Шумная жизнь большого торгового города не интересовала эту женщину, и когда она выезжала с мужем кататься – глаза ее смотрели в спину кучера. Если муж звал ее в гости – она шла, но и там вела себя так же тихо, как дома; если к ней приходили гости, она усердно поила и кормила их, не обнаруживая интереса к тому, о чем говорили они, и никого из них не предпочитая. Лишь Маякин, умница и балагур, порой вызывал на лице ее улыбку, неясную, как тень.
Он говорил про нее:
– Дерево – не баба! Однако – жизнь – как костер неугасимый, вспыхнет и эта молоканка, дай срок! Тогда увидим, какими она цветами расцветет…
– Эй, кулугурка! – шутливо говорил Игнат жене. – Что задумалась? Или по своей станице скучаешь? Живи веселей!
Она молчала, спокойно поглядывая на него.
– Больно уж ты часто по церквам ходишь… Погодила бы! успеешь еще грехи-то замолить, – сперва нагреши. Знаешь: не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасешься… Ты вот греши, пока молода. Поедем кататься?
– Не хочется…
Он подсаживался к ней, обнимал ее, холодную, скупо отвечавшую на его ласки, и, заглядывая в ее глаза, говорил:
– Наталья! Чего ты такая нерадостная? Скучно, что ли, со мной, а?
– Нет, – кратко отвечала она.
– Так что же – к своим, что ли, хочется?
– Да, – нет… так это…
– О чем ты думаешь?
– Я не думаю…
– А что же?
– Так…
Однажды он добился от нее более многосложного ответа:
– В сердце у меня – смутное что-то. И в глазах… И все кажется мне, что это – не настоящее…
Она повела вокруг себя рукой, на стены, мебель, на все. Игнат не подумал над ее словами и, смеясь, сказал ей:
– Это ты напрасно! Тут все самое настоящее… вещь все дорогая, прочная!.. Но – захочешь – все сожгу, распродам, раздарю и – новое заведу! Ну, желаешь?
– На что? – спокойно сказала она.
Его удивляло, как это она, такая молодая, здоровая, живет – точно спит, ничего не хочет, никуда, кроме церквей, не ходит, людей дичится. И он утешал ее:
– Вот погоди – родишь ты мне сына, – совсем другая жизнь у тебя пойдет. Это ты оттого печалишься, что заботы у тебя мало, он тебе даст заботу… Родишь ведь сына, а?
– Как бог даст, – отвечала она, опуская голову.
Потом ее настроение стало раздражать его.
– Ну, молоканка, что нос повесила? Ходит – ровно по стеклу смотрит – будто душу чью-то загубила! Баба ты такая ядреная, а вкуса у тебя нет ни к чему, – дуреха!
Раз, придя домой выпивши, он начал приставать к ней с ласками, а она уклонялась от них. Тогда он рассердился и крикнул:
– Наталья! Не дури, смотри.
Она обернулась лицом к нему и спокойно спросила:
– А то что будет?
Игнат освирепел от этих слов и ее безбоязненного взгляда.
– Что? – рявкнул он, наступая на нее.
– Прибить, что ли, хочешь? – не двигаясь с места и не моргнув глазом, спрашивала она.
Игнат привык, чтоб пред гневом его трепетали, ему было дико и обидно видеть ее спокойствие.
– А – вот!.. – крикнул он, замахиваясь на нее. Не быстро, но вовремя она уклонилась от его удара, потом схватила руку его, оттолкнула ее прочь от себя и, не повышая голоса, сказала:
– Ежели тронешь, – больше ко мне не подходи! Не допущу до себя!
Большие глаза ее сузились, и их острый, режущий блеск отрезвил Игната. Он понял по лицу ее, что она тоже – зверь сильный и, если захочет, – не допустит его до себя, хоть до смерти забей ее.
– У-у, кулугурка! – рыкнул он и ушел.
Но, отступив пред нею однажды, в другой раз он не сделал бы этого: не мог он потерпеть, чтобы женщина и жена его не преклонилась пред ним, – это унизило бы его. Он почувствовал, что жена ни в чем и никогда не уступит ему и что между ним и ею должна завязаться упорная борьба.
«Ладно! Поглядим, кто кого», – думал он на следующий день, с угрюмым любопытством наблюдая за нею, и в душе его уже разгоралось бурное желание начать борьбу, чтоб скорее насладиться победой.
Но дня через четыре Наталья Фоминична объявила мужу, что она беременна. Игнат вздрогнул от радости, крепко обнял ее и глухо заговорил:
– Наташа… ежели – сын, ежели сына родишь – озолочу! Что там! Прямо говорю – слугою тебе буду! Вот – как перед богом! Под ноги тебе лягу, топчи меня, как захочешь!
– В этом не наша воля, а божья!.. – тихо и вразумительно сказала она.
– Да, – божья! – с горечью воскликнул Игнат и грустно поник головой.
С этой минуты он начал ходить за женой, как за малым ребенком.
– Пошто села к окну? Смотри – надует в бок, захвораешь еще!.. – говорил он ей сурово и ласково. – Что ты скачешь по лестнице-то? Встряхнешься как-нибудь… А ты ешь больше, на двоих ешь, чтобы ему хватало…
Наталью же беременность сделала еще более сосредоточенной и молчаливой; она глубже ушла в себя, поглощенная биением новой жизни под сердцем своим. Но улыбка ее губ стала яснее, и в глазах порой вспыхивало что-то новое, слабое и робкое, как первый проблеск утренней зари.
Когда наступило время родов, – это было рано утром осеннего дня, – при первом крике боли, вырвавшемся у жены, Игнат побледнел, хотел что-то сказать ей, но только махнул рукой и ушел из спальни, где жена корчилась в судорогах, ушел вниз в маленькую комнатку, моленную его покойной матери. Он велел принести себе водки, сел за стол и стал угрюмо пить, прислушиваясь к суете в доме. В углу комнаты, освещенные огнем лампады, смутно рисовались лики икон, безучастные и темные. Там, наверху, над его головой, топали и шаркали ногами, что-то тяжелое передвигали по полу, гремела посуда, по лестнице вверх и вниз суетливо бегали… Все делалось быстро, торопливо, но время шло медленно… До слуха Игната доносились подавленные голоса:
– Не разродится она так-то… в церковь бы послать, чтоб царские врата отворили…
В комнату, соседнюю с той, где сидел Игнат, вошла приживалка Вассушка и громким шепотом стала молиться:
– Господи боже наш… благоволивый снити с небес и родитися от святыя богородицы… ведый немощное человеческого естества… прости рабе твоей…
И вдруг, заглушая все звуки, раздавался нечеловеческий вой, сотрясавший душу, или продолжительный стон тихо плыл по комнатам дома и умирал в углах, уже полных вечернего сумрака… Игнат бpocал угрюмые взгляды на иконы, тяжело вздыхал и думал:
«Неужто опять дочь будет?»
Порой он вставал и молча крестился, низко кланяясь иконам, потом опять садился за стол, пил водку, не опьянявшую его в эти часы, дремал, и – так провел весь вечер, и всю ночь, и утро до полудня…
И вот наконец сверху торопливо сбежала повитуха, тонким и радостным голосом крича ему:
– С сыном тебя, Игнат Матвеевич!
– Врешь?
– Ну, что это ты, батюшка!..
Вздохнув во всю силу груди, Игнат рухнул на колени и дрожащим голосом забормотал, крепко прижимая руки к груди:
– Слава тебе, господи! Не восхотел ты, стало быть, чтобы прекратился род мой! Не останутся без оправдания грехи мои пред тобою… Спасибо тебе, господи! – И тотчас же, поднявшись на ноги, он начал зычно командовать: – Эй! Поезжай кто-нибудь к Николе за попом! Игнатий, мол, Матвеич просит! Пожалуйте, мол, молитву роженице дать…
Явилась горничная и тревожно сказала ему:
– Игнатий Матвеич! Наталья Фоминишна вас зовет… плохо им…
– Чего плохо? Пройдет! – рычал он, радостно сверкая глазами. – Скажи – сейчас иду! Скажи – молодец она! Сейчас, мол, подарок на зубок достанет и придет! Стой! Закуску попу приготовьте, за кумом Маякиным пошлите!
Его огромная фигура точно еще выросла, опьяненный радостью, он нелепо метался по комнате, потирая руки и, бросая на образа умиленные взгляды, крестился, широко размахивая рукой… Наконец пошел к жене.
Там прежде всего бросилось в глаза ему маленькое красное тельце, которое повитуха мыла в корыте. Увидав его, Игнат встал на носки сапог и, заложив руки за спину, пошел к нему, ступая осторожно и смешно оттопырив губы. Оно верещало и барахталось в воде, обнаженное, бессильное, трогательно жалкое…
– Ты, того, – осторожнее тискай… Ведь у него еще и костей-то нет… – сказал Игнат повитухе просительно и вполголоса.
Она засмеялась, открывая беззубый рот и ловко перебрасывая ребенка с руки на руку.
– Иди к жене-то…
Он послушно двинулся к постели и на ходу спросил:
– Ну что, Наталья?
Потом, подойдя, отдернул прочь полог, бросавший тень на постель.
– Не выживу я… – раздался тихий, хрипящий голос.
Игнат молчал, пристально глядя на лицо жены, утонувшее в белой подушке, по которой, как мертвые змеи, раскинулись темные пряди волос. Желтое, безжизненное, с черными пятнами вокруг огромных, широко раскрытых глаз – оно было чужое ему. И взгляд этих страшных глаз, неподвижно устремленный куда-то вдаль, сквозь стену, – тоже был незнаком Игнату. Сердце его, стиснутое тяжелым предчувствием, замедлило радостное биение.
– Ничего… Это уж всегда… – тихо говорил он, наклоняясь поцеловать жену.
Но прямо в лицо его она повторила:
– Не выживу…
Губы у нее были серые, холодные, и когда он прикоснулся к ним своими губами, то понял, что смерть – уже в ней.
– О, господи! – испуганным шепотом произнес он, чувствуя, что страх давит ему горло и не дает дышать. – Наташа! Как же? Ведь ему – грудь надо? Что ты это!
Он чуть не закричал на жену. Около него суетилась повитуха; болтая в воздухе плачущим ребенком, она что-то убедительно говорила ему, но он ничего не слышал и не мог оторвать своих глаз от страшного лица жены. Губы ее шевелились, он слышал тихие слова, но не понимал их. Сидя на краю постели, он говорил глухим и робким голосом:
– Ты подумай – ведь он без тебя не может, – ведь младенец! Ты крепись душой-то: мысль-то эту гони! Гони ее…
Говорил и понимал – ненужное говорит он. Слезы вскипали в нем, в груди родилось что-то тяжелое, точно камень, холодное, как льдина.
– Прости – меня – прощай! Береги, смотри… Не пей… – беззвучно шептала Наталья.
Священник пришел и, закрыв чем-то лицо ее, стал, вздыхая, читать над нею умоляющие слова:
– «Владыко господи вседержителю, исцеляй всякий недуг… и сию, днесь родившую, рабу твою Наталью исцели… и восстави ю от одра, на нем же лежит… зане, по пророка Давида словеси: в беззакониях зачахомся и сквернави вси есмы пред тобою…»
Голос старика прерывался, худое лицо было строго, от одежд его пахло ладаном.
– «…из нея рожденного младенца coблюди от всякого ада… от всякия лютости… от всякия бури… от всякия духов лукавых, дневных же и нощных…»
Игнат безмолвно плакал. Слезы его, большие и теплые, падали на обнаженную руку жены. Но рука ее, должно быть, не чувствовала, как ударяются о нее слезы: она оставалась неподвижной, и кожа на ней не вздрагивала от ударов слез. Приняв молитву, Наталья впала в беспамятство и на вторые сутки умерла, ни слова не сказав никому больше, – умерла так же молча, как жила. Устроив жене пышные похороны, Игнат окрестил сына, назвал его Фомой и, скрепя сердце, отдал его в семью крестного отца, Маякина, у которого жена незадолго пред этим тоже родила. В густой, темной бороде Игната смерть жены посеяла много седин, но в блеске его глаз явилось нечто новое – мягкое и ласковое.
II
Маякин жил в огромном двухэтажном доме с большим палисадником, в котором пышно разрослись могучие, старые липы. Густые ветви частым, темным кружевом закрывали окна, и солнце сквозь эту завесу с трудом, раздробленными лучами проникало в маленькие комнаты, тесно заставленные разнообразной мебелью и большими сундуками, отчего в комнатах всегда царил строгий полумрак. Семья была благочестива – запах воска, ладана и лампадного масла наполнял дом, покаянные вздохи, молитвенные слова носились в воздухе. Обрядности исполнялись неуклонно, с наслаждением, в них влагалась вся свободная сила обитателей дома. В сумрачной, душной и тяжелой атмосфере по комнатам почти бесшумно двигались женские фигуры, одетые в темные платья, всегда с видом душевного сокрушения на лицах и всегда в мягких туфлях на ногах.
Семья Якова Маякина состояла из него самого, его жены, дочери и пяти родственниц, причем самой младшей из них было тридцать четыре года. Все они были одинаково благочестивы, безличны и подчинены Антонине Ивановне, хозяйке дома, женщине высокой, худой, с темным лицом и строгими серыми глазами, – они блестели властно и умно. Был еще у Маякина сын Тарас, но имя его не упоминалось в семье; в городе было известно, что с той поры, как девятнадцатилетний Тарас уехал в Москву учиться и через три года женился там против воли отца, – Яков отрекся от него. А потом Тарас – пропал без вести. Говорили, что он за что-то сослан в Сибирь.
Яков Маякин – низенький, худой, юркий, с огненно-рыжей клинообразной бородкой – так смотрел зеленоватыми глазами, точно говорил всем и каждому: «Ничего, сударь мой, не беспокойтесь! Я вас понимаю, но ежели вы меня не тронете – не выдам…»
Голова у него была похожа на яйцо и уродливо велика. Высокий лоб, изрезанный морщинами, сливался с лысиной, и казалось, что у этого человека два лица – одно проницательное и умное, с длинным хрящеватым носом, всем видимое, а над ним – другое, без глаз, с одними только морщинами, но за ними Маякин как бы прятал и глаза и губы, – прятал до времени, а когда оно наступит, Маякин посмотрит на мир иными глазами, улыбнется иной улыбкой.
Он был владельцем канатного завода, имел в городе у пристаней лавочку. В этой лавочке, до потолка заваленной канатом, веревкой, пенькой и паклей, у него была маленькая каморка со стеклянной скрипучей дверью. В каморке стоял большой, старый, уродливый стол, перед ним – глубокое кресло, и в нем Маякин сидел целыми днями, попивая чай, читая «Московские ведомости». Среди купечества он пользовался уважением, славой «мозгового» человека и очень любил ставить на вид древность своей породы, говоря сиплым голосом:
– Мы, Маякины, еще при матушке Екатерине купцами были, – стало быть, я – человек чистой крови…
В этой семье сын Игната Гордеева прожил шесть лет. На седьмом году Фома, большеголовый, широкогрудый мальчик, казался старше своих лет и по росту и по серьезному взгляду миндалевидных, темных глаз. Молчаливый и настойчивый в своих детских желаниях, он по целым дням возился с игрушками вместе с дочерью Маякина – Любой, под безмолвным надзором одной из родственниц, рябой и толстой старой девы, которую почему-то звали Бузя, – существо чем-то испуганное, даже с детьми она говорила вполголоса, односложными словами. Зная множество молитв, она не рассказывала Фоме ни одной сказки.





