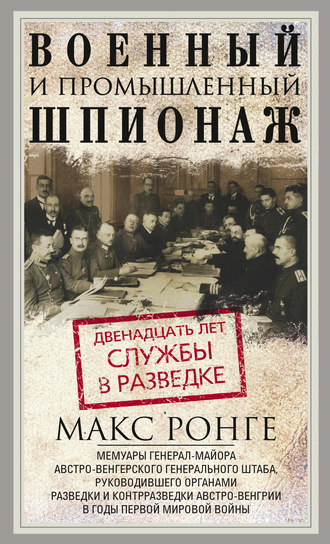
Макс Ронге
Военный и промышленный шпионаж. Двенадцать лет службы в разведке
Быстро деградировал до уровня шпиона-авантюриста и агент тайной полиции России Исаак Персиц, бывший во время Русско-японской войны начальником разведывательного бюро тыла Российской армии. Началом его падения послужил 1906 год, когда он решил продать «Эвиденцбюро» документы, представившись офицером Генерального штаба. Когда зимой 1909/10 года он объявился в Галиции, выслать его оттуда удалось только в Италию, так как к тому времени все остальные страны уже отказывались его принять.
Впрочем, исходя из личного опыта должен сказать, что торопиться с причислением того или иного агента к мошенникам не следует. Один из самых лучших моих агентов предложил мне при первой встрече, ради которой я проделал довольно большой путь, секретную инструкцию, не представлявшую собой никакой ценности. Однако в дальнейшем он работал великолепно и не делал ни малейшей попытки навязать мне малоценные вещи.
Большинство шпионов были пойманы в Галиции и там же предстали перед судом. Русская охранка – царская политическая полиция, работавшая как внутри страны, так и за рубежом и нередко прибегавшая к содействию наших властей, использовала поездки своих агентов в Галицию для проведения рекогносцировки. Одним из них была вдова русского подполковника Софья Владимировна Корецкая, служившая посредницей и инспектором.
Уличать этих агентов удавалось с большим трудом. Так, во время процесса над жившим на пенсии финансовым директором Владимиром Вежбицким выяснилось, что бывший австрийский почтовый чиновник Филимон Стечишин являлся руководителем разветвленной шпионской сети, действовавшей в интересах России. Ему самому вместе с любовницей-помощницей удалось скрыться, и в руки полиции попала только его жена. Насколько опасен был этот Стечишин, можно судить по тому, что во время войны нашелся один патриот, предложивший свои услуги для организации убийства Стечишина и еще одного подобного шпиона по фамилии Рудской. Однако наша контрразведывательная служба такое предложение немедленно отклонила.
Поразительный случай произошел с одним глухонемым, останавливавшимся под видом рисовальщика во всех укрепленных пунктах Галиции. Его личность установить никак не удавалось, но нашелся один свидетель, который признал в нем агитатора из Киева. Вызывали сомнения и сведения о том, что этот глухонемой является неграмотным. Поэтому мы предположили, что он симулирует, и подвергли его аресту. После восьмимесячного дознания в Лемберге он был оправдан. В то время решения галицийских судов вообще были очень мягкими.
Тогда я просмотрел материалы дел за последнее время и нашел их явно неудовлетворительными – существенным фактам не придавалось никакого значения, а ложные показания брались за основу. На этом дознавание заканчивалось. Пришлось срочно принимать меры, и порядок был наведен. Причем перелом наметился только тогда, когда в следственные группы стали назначаться постоянные военные эксперты.
Небольшую радость мы испытали тогда, когда при помощи одного чешского музыканта нам удалось подстроить хорошую ловушку для главного разведывательного пункта в Киеве, который занимался преимущественно политической обработкой населения Галиции и Буковины. Этот музыкант принялся хвастать в Киеве знакомством с обремененным долгами офицером австрийского Генерального штаба, что, естественно, немедленно привлекло к нему внимание русской разведки. Для вида он дал себя завербовать в качестве шпиона, после чего сразу же заявился в полицию и попросил уточнить некоторые «детали», что окончательно укрепило к нему доверие начальника киевской разведывательной службы, проходившего у нас как полковник Маринско. После этого киевский полковник решился организовать через него мнимому австрийскому офицеру Генштаба свидание с одной красивой женщиной в Праге, которая должна была дать ему дальнейшие указания.
В общем, все прошло блестяще. Офицер Генерального штаба, женщина, фотография которой вскоре украсила нашу коллекцию, и музыкант встретились в Праге. В ходе этой встречи офицеру было предложено посетить русского полковника в баварском городе Линдау.
Наш обер-лейтенант Милан Ульманский, выдававший себя за майора австрийского Генштаба, действительно нашел на указанном для свидания месте русского полковника с характерным шрамом на лице, приобретенным во время войны с японцами, и заметно обогатил наши сведения о методах шпионажа, практиковавшихся Киевом. А вот чешский музыкант после этого был вынужден «переменить климат» и стал впоследствии дирижером военного оркестра в Черногории.
Причины прекращения затеянной нами столь многообещающей игры по поддержанию связей мнимого майора Генштаба с русским полковником, которые вскоре внезапно оборвались, выяснились лишь много позже – у нас в бюро завелся предатель, раскрывший русским нашу затею!
Требования к искусству дешифрирования в свете военного похода на Триполи
1910 год и первые месяцы 1911 года, внешне прошедшие спокойно, но скрывавшие глубинные процессы постоянно нараставшего политического напряжения, оказались для следившей за всем этим разведки благоприятными. Сами органы военной разведывательной службы в то время были проникнуты духом бодрости и взаимовыручки. Поэтому их усилия по налаживанию гармоничного сотрудничества со всеми гражданскими властями, имеющими отношение к разведывательным вопросам, не прошли даром.
10 марта 1911 года разработанный мною проект новой инструкции по разведывательному делу был одобрен, в результате чего на свет появилось предписание, дававшее правовую основу для взаимодействия всех соответствующих органов и инстанций. Эта инструкция оказалась настолько действенной, что ее использовали в качестве образца даже возникшие на месте австро-венгерской монархии после мировой войны национальные государства. В результате подчиненное чешскому министру обороны и бывшему антимилитаристски настроенному депутату рейхсрата Вацлаву Клофачу разведывательное бюро стало работать по служебному предписанию, на основании которого в свое время велась работа против него самого.
Поистине огромное значение в ближайшем будущем сыграл мой интерес, который я проявлял в отношении шифровального дела. Это древнее как мир средство тайной переписки в процессе борьбы между сторонними дешифровщиками тайнописи и ее создателями постоянно совершенствовалось. При этом всегда возникают обстоятельства, заставляющие использовать приемы, разработанные ранее. Например, агенты, для которых уже сам факт обнаружения у них шифра может иметь роковые последствия, стремятся применять в своей тайной переписке самые простые и, можно сказать, первоначальные формы шифрования, переставляя лишь буквы.
Другой способ тайнописи (метод подставки) предполагает собой использование квадратов, разбитых на сетки, в ячейках которых проставляются буквы. При этом каждая строка и каждый столбец имеют цифровое обозначение. В результате каждая буква шифруется путем перекрещивания соответствующих строк и столбцов. Для пояснения возьмем один пример:

В этом случае буква «а» будет представлена набором цифр «38». Тогда слово «Bad» станет выглядеть как набор групп из двух цифр – 29, 38 и 58, а само его написание уже в виде шифра возможно следующим образом: 293, 858.
При желании затруднить расшифровку текста сторонними лицами процесс шифрования и раскодирования может быть в высшей степени усложнен. Тогда и тем, кто шифрует текст, и тем, кто его расшифровывает, приходится проделывать довольно трудную и кропотливую работу. Применение механических средств, конечно, облегчает и то и другое, но большое неудобство буквенного шифрования все же остается, так как оно само по себе хлопотливо, а сам текст послания оказывается гораздо длиннее, чем в случае открытого его написания. Поэтому алфавиты были дополнены наиболее употребляемыми слогами и часто встречающимися словами, в результате чего возникли специальные таблицы и даже «шифровальные книги».
Тем не менее, как бы ни сложны и хитроумны были системы шифрования, все же при наличии достаточного количества зашифрованного материала рано или поздно применяемая система шифрования обнаруживается, и тогда дешифрование становится возможным.
К моменту моего назначения в «Эвиденцбюро» шифрование как необходимое средство сохранения тайны было оценено там по достоинству – шифровали и дешифровали много. Однако вопросами подборки шифровальных ключей для раскодирования иностранных шифров никто не занимался. Лишь после продолжительных поисков мне удалось найти один глубоко похороненный под папками с различными материалами ключ шифрования, применявшийся при отправке секретных посланий из русского консульства.
Тогда по моей просьбе в распоряжение бюро было предоставлено огромное количество перехваченных нашими военными кораблями начиная с 1908 года зашифрованных радиограмм, переданных и принятых радиостанцией Антивари[57]. Началась прослушка и кабельных линий связи.
Процесс дешифрирования показался мне очень интересным, и я с огромным рвением принялся за трудную работу, напоминавшую вследствие малого количества лиц, умеющих читать, и обусловленного этим страшным перевиранием текста, настоящий сизифов труд. Однако постепенно наметился успех.
Служба контроля телеграфных и телефонных переговоров, введенная в связи с усилившейся агентурной работой против Сербии, тоже дала кое-какой интересный материал, в расшифровке которого мне сильно помог разведывательный пункт, располагавшийся в Сараево. Однако объем работы все увеличивался, и я, несмотря на то что начал прихватывать ночи, в силу необходимости выполнять свои повседневные обязанности один уже не справлялся.
Совсем тяжело стало, когда после Агадирского кризиса[58]и очень беспокойного лета Италия осенью внезапно аннексировала Триполи. Между тем о предстоящей отправке неаполитанского корпуса в Африку главный разведывательный пункт в Инсбруке сообщал еще 23 апреля 1911 года. Однако военный атташе в Риме полковник Митцль заявил тогда, что это является не чем иным, как праздным измышлением. И объяснялось такое тем, что тогда антагонизм между министром иностранных дел графом Алоизем Лексем фон Эренталем и начальником Генерального штаба генералом от инфантерии Францем Конрадом фон Хетцендорфом зашел так далеко, что Эренталь, как позднее стало известно из одного сообщения военного атташе в Константинополе, дал своим послам указание по возможности скрывать от военных атташе сведения о происходящих политических событиях, чтобы затруднить им доклады начальнику Генштаба!
В скором времени из Инсбрука пришло подтверждение предыдущей информации, а 11 мая мы получили даже известие о том, что дело будет идти о Триполи. В начале сентября такое же сообщение продублировал один из наших агентов, а 11 сентября точно такие же сведения поступили и в «Эвиденцбюро» австрийского военно-морского флота. Однако полковник Митцль, опираясь на сведения из Рима, все еще продолжал считать это уткой.
Тем не менее он уговорил посла дать консульствам указания об осуществлении более строгого наблюдения. В результате уже 22 сентября консульство в Неаполе сообщило о признаках сосредоточения войск. Только тогда генеральный секретарь итальянского министерства иностранных дел признал наличие планов относительно уже начавшейся экспедиции против Триполи, а 23-го числа, после неожиданного предъявления Италией ультиматума Турции, началась война[59].
Однако министр иностранных дел граф Эренталь не придал в связи с происшедшим большого значения очевидному отказу в работе его разведывательной службы, поскольку считал, что итальянская операция против Триполи является всего лишь отвлекающим маневром, и был озабочен только тем, чтобы война не перекинулась на Балканский полуостров.
Со стороны же военного ведомства начиная с 24 сентября в отношении Италии был введен режим «усиленной разведывательной деятельности». Вскоре нам удалось установить, что, доверяя честности австро-венгерской монархии, итальянцы не приняли никаких мер против удара ей в тыл с нашей стороны, что, учитывая их поведение в последнее время, являлось, несомненно, заманчивым делом.
Как бы то ни было, это привело к тому, что на «Эвиденцбюро» посыпался настоящий дождь из перехваченных шифрованных донесений, а поскольку помощи мне ожидать не приходилось, то работу над их дешифрованием, насколько хватало сил, я проводил один. Но вскоре моих возможностей стало явно не хватать.
Между тем стараниями полковника фон Урбанского[60]«Эвиденцбюро» было сильно расширено. Важность нашей службы наконец-то признали, и пожелания об увеличении численного состава препятствий так явно уже не встречали. В частности, заметно выросла руководимая мною группа, которая получила некоторую самостоятельность, выразившуюся, между прочим, в том, что я докладывал о результатах ее деятельности непосредственно заместителю начальника Генерального штаба.
В ноябре 1911 года я добился выделения мне специального офицера для проведения работ по дешифрованию, что заметно меня разгрузило. Это был гауптман запаса Андреас Фигль, который оказался блестящим сотрудником и вплоть до конца мировой войны с незначительными перерывами стоял во главе дешифровальной группы, которую я включил в организационную структуру расширившейся к тому времени руководимой мною группы. В начале 1912 года мне подчинялось уже восемь офицеров, а когда в последовавшие годы министерство обороны признало важность проводимой
«Эвиденцбюро» работы и дополнительно расширило штаты его офицерского состава, то моя группа пополнилась еще четырьмя офицерами[61].
Огненные знаки войны на Балканах
В начале декабря 1911 года из-за обострения разногласий с министром иностранных дел ушел в отставку начальник Генерального штаба генерал от инфантерии Франц Конрад фон Хетцендорф, постоянно выпрашивавший деньги для разведывательной службы, что сильно раздражало графа Эренталя. Его преемник фельдмаршал Блазиус Шемуа относился к органам разведки так же благожелательно и после кончины графа Эренталя в феврале 1912 года добился в мае повышения ассигнований на разведывательные нужды до 165 000 крон. Однако в 1912 году перед разведывательной службой было поставлено так много задач, что уже в сентябре образовался дефицит в сумме 98 000 крон.
Итальянская война в Ливии, закончившаяся 18 октября 1912 года Лозаннским миром, потребовала усиления разведывательной деятельности. Мне посчастливилось добыть новейшие итальянские инструкции по проведению мобилизации, а также приказы по организации перевозок в военное время, которые дали нам возможность составить достаточно полное представление о возможных действиях Италии по развертыванию войск.
Одновременно из России стали поступать сообщения о скорой войне с Австро-Венгрией, о всевозможных подозрительных учениях и объявлениях тревог. Получали мы донесения и о намерении Франции настоять на том, чтобы русские снова заранее выдвинули вперед свои войска, на что Россия, однако, не соглашалась. Приходили также сведения о пробной мобилизации в Варшавском военном округе и создании так называемого «корпуса тревоги». Все это вынуждало нас к развертыванию более сильной агентурной сети в тесном контакте с германской разведкой, которая тоже страдала из-за нехватки средств, что привело к четкому разграничению зон ответственности обеих разведывательных служб.
Что-то явно надвигалось, предположительно на Балканах, где по весне следовало ожидать восстания албанцев. Снова оживились банды в Македонии, а Греция приступила к реорганизации своей армии. Одновременно шли поставки оружия и боеприпасов в Черногорию из России и из Италии. Тогда же в Сербии образовалась новая тайная организация под названием «Черная рука», известная также как «Единение или смерть», ставившая своей целью освобождение всех славян и раздел Австро-Венгрии. По имевшимся сведениям, во главе этой организации стояли заговорщики, организовавшие убийство короля в 1903 году[62], бывший министр Георгий Генчич, капитан Воислав Танкосич, офицер разведывательной службы на реке Дрина, преподаватель военной академии майор Драгутин Дмитриевич и редактор газеты «Пьемонт» Люба С. Йованович. В общем, следовало быть готовыми к еще более резким волнениям, чем памятное выступление «Словенского юга», сопровождавшееся метанием бомб.
Собственно сам «Словенский юг» в октябре 1908 года нашел себе преемницу в лице «Народной обороны»[63], во главе которой стоял генерал Божа Янкович, а секретарем являлся Милан Прибицевич. Объединение этих организаций сильно порадовало наследника престола Александра, и с его подачи новый союз начал рука об руку работать с сербским Генеральным штабом. Его задачей являлась подготовка революции в Австро-Венгрии, организация паники и мятежей в населенных сербами областях, диверсий и т. п. Как стало известно позже, сокольские[64] и антиалкогольные союзы в Боснии и Герцеговине были не чем иным, как отделениями «Народной обороны».
По поступившим к нам сведениям, в 1910 году этот новый союз собирался организовать покушение на императора Франца-Иосифа, используя его поездку в Сараево, и последовавшее посягательство на жизнь тамошнего губернатора генерала от инфантерии фон Варешанина[65], несомненно, было делом его рук. Однако реакция на подобные деяния оказалась слишком слабой. В частности, майора сербского Генерального штаба Миловановича решились выслать лишь после того, когда он в своей агитации перешел все допустимые грани. Не нашла должного противодействия и деятельность англичанина Сетон-Уотсона[66], который проводил оголтелую пропаганду против монархии в пользу Сербии.
За спиной этого агитатора, без сомнения, стояло министерство внутренних дел Сербии, что позднее полностью подтвердилось, когда в городе Ниш были найдены расписки Сетон-Уотсона, а также еще одного британского журналиста и историка Генри Уикхема Стида, тоже занимавшегося подобной деятельностью.
Настроения в Сербии становились все более угрожающими. Прошедшая в 1911 году сессия скупщины[67] продемонстрировала явную общую ориентацию страны на Россию. Причем этот настрой поддержала даже прогрессивная партия[68], которая ранее склонялась к австро-венгерской монархии. В таких условиях надлежало держать ухо востро. Однако наш очень хороший источник информации консул в Нише из-за того, что посылал донесения разведывательному пункту в Темешваре, навлек на себя неудовольствие посла в Белграде, и австрийское министерство иностранных дел немедленно запретило ему делать что-либо подобное. К счастью, консул и начальник штаба крепости в Темешваре были хорошими друзьями, и информация продолжала поступать в виде «частной корреспонденции».
В конце февраля 1912 года наше министерство иностранных дел вообще настояло на ограничении разведывательной деятельности в отношении Сербии и соблюдении чрезвычайной осмотрительности. А ведь именно тогда, точнее 29 февраля, произошло заключение болгарско-сербского договора, явившегося первым шагом к Балканскому союзу[69], направленному как против Турции, так и против Австро-Венгрии.
Это был явный успех России, прояснивший цели ее военных приготовлений. Не случайно весной 1912 года Галиция оказалась буквально наводнена русскими шпионами. Между тем балканские дипломаты сумели так искусно замаскировать свои переговоры, что в начале июня наш военный атташе в Софии подполковник Лакса, получив известие о готовящейся конференции, заявил, что политическое или военное сближение Болгарии и Сербии совершенно исключено. А ведь именно на ней между этими странами был заключен таможенный союз, принято единообразное законодательство и подписан торговый договор. Между прочим, уже 19 июня сербы и болгары вели переговоры о выработке общего оперативного плана войны против Турции.
Начальник нашего Генерального штаба, охваченный предчувствиями, что готовится что-то весьма нехорошее, 23 июля распорядился восстановить работу по усиленной разведке в отношении Сербии и обратился в министерство иностранных дел с просьбой о содействии австро-венгерских дипломатических представителей в России в проведении военной разведки, находившейся тогда далеко не на должном уровне из-за длительного пренебрежительного отношения к этому вопросу. Однако в ответе, полученном только 27 августа 1912 года, министерство иностранных дел заявило, что разведывательная деятельность в России навлечет на себя сильное неудовольствие местных властей, и поэтому оно считает привлечение консульских официальных лиц к осуществлению усиленной разведки в интересах военного ведомства слишком рискованным!
Но начальник Генерального штаба на этом не успокоился и в октябре все же добился проведения специального совещания по этому вопросу. Тем не менее достигнутые там договоренности начали претворяться в жизнь лишь в самом конце года, а реальная поддержка до самого начала мировой войны по сути дела равнялась нулю.
Между тем то из Сербии, то из Черногории стали поступать донесения о проводившихся там военных приготовлениях, а в середине августа 1912 года основное наше внимание было направлено на восстание в Албании. Посылавшиеся туда для отслеживания развития событий агенты и офицеры сообщали о явном снижении морального уровня турецких войск, зараженных политическими веяниями.
О том, как обстояли дела в их офицерском корпусе, описывал позже начальник Генерального штаба Болгарии генерал-майор Фичев, прямо признавая, что болгары имели в каждом штабе турецких корпусов агентов с месячным содержанием от ста до двухсот франков, а планы последних военных маневров под руководством Гольц-паши были ими приобретены за 20 000 франков. На их основании Фичев и пришел к выводу, что главный удар следует наносить не через Адрианополь[70], а через крепость Киркилиссе.
Не успела обстановка в Албании немного успокоиться, как македонские головорезы в Кочани[71] позаботились о том, чтобы Балканы продолжало лихорадить. По этому поводу Болгария пришла в неслыханное возбуждение. При этом начальник болгарского Генерального штаба принялся убеждать нашего военного атташе в Софии подполковника Лаксу в том, что никаких военных мер предпринято не будет, а союз Болгарии с Сербией, о котором начали трубить в газетах, на деле не существует, так как король якобы не одобряет желательный России Балканский союз, как бы сербский посланник Спалайкович[72] этого ни добивался. На основании такого заявления 23 августа Лакса и сообщил, что о военной опасности не может быть и речи. А ведь именно в тот день, как сообщил Мите Стажич, генерал Савов[73] провел совещание, на котором обсуждались изменения оперативного плана против Турции!
Начиная с марта 1912 года «Эвиденцбюро» настаивало на назначении военного атташе в Цетинье[74], где военные мероприятия, в отличие от других балканских государств, скрыть было гораздо легче. В результате в августе, можно сказать в последний час, гауптмана Хубку все же отправили в Черногорию, и уже 18 сентября он телеграфировал, что две бригады и вся артиллерия мобилизованы. Подобные сообщения одно за другим поступали также из главных разведывательных пунктов. Их информация дала основание прийти к уверенности в том, что дело шло о подготовке войны против Турции, но не против Австро-Венгрии.
Примечательным являлось то, как к происходившим событиям относился наследный принц Сербии. Как написал профессор Миле Павлович в своих записках, которые были захвачены во время войны наряду с другими трофеями, в день объявления мобилизации кронпринц Александр сказал ему: «Нам следует предостеречь наших людей относительно настоящего и единственного врага. И враг этот находится не на юге, а на севере. Нелюбовь к туркам есть не что иное, как проявление исторической памяти, а вот ненависть к Австрии подобна вулкану, который еще извергнет свой огненный дождь. Втягиваясь в акцию против Турции, мы становимся слабее по отношению к Австрии, что позволит ей в дальнейшем легко бороться с нами. А нам следует быть готовыми к этой борьбе, которая обязательно нагрянет».
2 октября все прояснилось – подполковник Лакса сообщил о подготовленном сербами, болгарами и греками совместном ультиматуме Турции с требованием предоставления автономии для Македонии, а от гауптмана Хубки пришла депеша о неминуемом наступлении черногорцев на Скутари. Подробные донесения агентов и балканских консульств буквально наводнили «Эвиденцбюро», а уже 9 октября произошло первое боевое столкновение между черногорцами и турками. При этом наш начальник Генерального штаба не сомневался, что подлинным кукловодом всех этих акций является Россия. Поэтому 10 октября он отдал приказ о введении первой стадии усиленной разведки силами главных разведывательных пунктов в Галиции и в Германштадте[75].
Для «Эвиденцбюро» вновь наступила горячая пора. Прежде всего надлежало установить, какое количество войск Сербия оставила для прикрытия своих тылов от Австро-Венгрии, а также прояснить соотношение сил противоборствовавших сторон, которое, по нашим расчетам, к 18 октября, то есть ко дню объявления войны балканским государствам Турцией, выглядело следующим образом: 385 000 болгар и сербов против 335 000 турок, а также 30 000 черногорцев против 30 000 турок и 80 000 греков против 40 000 турок. По орудиям же превосходство союзников над противником составляло 700 единиц. Эти цифры однозначно говорили о превосходстве союзников над Турцией. Поэтому для нас так и осталось загадкой, почему в Вене и Берлине решили, что победа будет за турками, попав впросак относительно выдвинутого Францией и Россией и явно направленного на поддержку небольших христианских государств лживого утверждения о «соблюдении статуса-кво».
В «Эвиденцбюро» внимательно следили за разворачивавшимися событиями, которые начались для Турции столь неблагоприятно. Для этого использовались не только донесения агентуры и консулов, но и сведения, поступавшие от австро-венгерских военных атташе, аккредитованных в Белграде, Софии, Цетинье и Константинополе и находившихся при соответствующих ставках, а также военных атташе оберлейтенанта запаса принца Людвига Виндишгретца в Болгарии и подполковника Танчоса в Греции.
В связи с победоносным продвижением союзников в Париже быстро изобрели новую формулу, определявшую линию поведения великих держав, а именно – равнодушие к происходящему на Балканах, что на деле означало давно вынашивавшуюся под эгидой России договоренность о разделе европейской части Турции. Такое не могло оставить равнодушными непосредственных соседей Австро-Венгрии Италию и Румынию. Поэтому преемник графа Эренталя граф Леопольд фон Берхтольд перечеркнул этот хитроумно продуманный план, использовав лозунг: «Балканы – балканским народам», который в свое время был выдвинут для пропаганды самостоятельности албанского государства. И хотя это звучало как призыв, касающийся Албании, он затрагивал непосредственно Сербию и косвенно всех остальных союзников, поскольку подразумевал изменение основ раздела, так как Сербия вряд ли захотела бы оказаться обделенной.
Начиная с середины ноября 1912 года «Эвиденцбюро» вплотную занялось вопросами оказания поддержки Албании путем предоставления транспортов с оружием и подготовки офицеров-разведчиков. Одновременно необходимо было внимательно следить за Италией, так как с ее стороны не исключались особые действия против Албании. Кроме того, нависла угроза военных осложнений с Сербией и Черногорией.
С начала декабря ежедневно стали поступать сообщения об обратной переброске сербских войсковых частей с театра военных действий в Северную Сербию, а также о формировании отрядов против Австро-Венгрии. Поэтому 5 декабря был отдан приказ о введении второй стадии усиленной разведки в отношении Сербии и Черногории.
Было очевидно, что вопросы мира и войны зависели от позиции России. Тогда-то и стал весьма неприятно сказываться недостаток сил развернутой в ней агентурной сети – ни у нас, ни у Германии не было постоянных агентов в ее военных округах. Между тем вербовка новых агентов и их внедрение в Россию осуществлялись крайне медленно, съедая и без того мизерные денежные средства, находившиеся в нашем распоряжении. К тому же большинство агентов показали себя совершенно непригодными для такого рода деятельности – сказывалось отсутствие соответствующей военной подготовки. Донесения от них поступали крайне медленно, а сведения зачастую противоречили друг другу. И только благодаря кропотливой работе сотрудников «Эвиденцбюро» удавалось разобраться в этой путанице сообщений и преувеличений.
Интересы дела требовали, чтобы на территории расположения каждого из двадцати восьми русских корпусов работал как минимум один долговременный агент. Только тогда появлялась возможность постоянно отслеживать ситуацию хотя бы в европейской части этой огромной империи. Но откуда было их взять при вечном недостатке денежных средств? Ведь только на это потребовалось бы не менее полумиллиона крон ежегодно.
Как бы то ни было, нам все же удалось установить, что Россия не желала возникновения конфликта, который грозил перерасти в сложившейся тогда обстановке в мировую войну, и стремилась оттянуть его, если этого избежать не удастся, хотя бы до весны 1913 года. Поэтому перемирие, заключенное 3 декабря 1912 года между воюющими сторонами, за исключением Греции, а также Лондонская конференция послов, собравшихся 17 декабря для урегулирования балканских вопросов, расценивались начальником австро-венгерского Генерального штаба генералом от инфантерии Францом Конрадом фон Хетцендорфом лишь как маневр для выигрыша времени.
В то же время резкая позиция, занятая Францией по отношению к Австро-Венгрии в албанском вопросе, показала, что Россия не останется в одиночестве при вооруженном выступлении против монархии. Поэтому немецкий генерал-квартирмейстер граф Вальдерзее провел переговоры в Риме с итальянским генералом Поллио, а подполковник Монтанари – в Вене с генералом от инфантерии Францом Конрадом фон Хетцендорфом о совместных действиях в случае, если Франция и Россия бросят вызов Тройственному союзу[76].
Начальник германской разведывательной службы майор Вильгельм Гейе отправился в Рим, чтобы согласовать со своим итальянским коллегой полковником Негри вопросы, связанные с обменом информацией, полученной в ходе разведывательной деятельности против Франции. Он хотел также выступить в роли посредника между нашими и итальянскими службами, чтобы договориться о совместной работе хотя бы по проведению контрразведывательной деятельности. Однако на это из-за ведущейся обеими сторонами интенсивной агентурной деятельности, направленной друг на друга, мы пойти не могли. Затем германская агентура сама установила, что проживавшая в Германии посредница между предателем Кречмаром и итальянским Генштабом была подругой жены полковника Негри и работала против нас.


