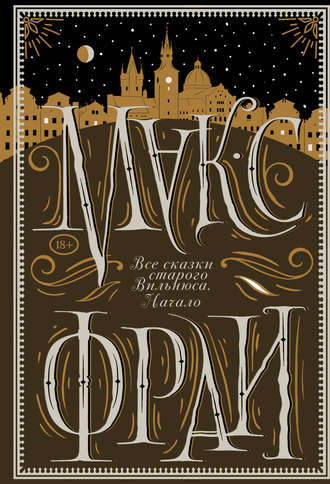
Макс Фрай
Все сказки старого Вильнюса. До луны и обратно
– Обычное, – кивнул ее напарник. – Что может быть обычней сиреневого тумана, который вот прямо сейчас у нас на глазах принимает форму гигантского спрута, чьи щупальца, между прочим, видны не только нам и успевшим крепко уснуть, но и бодрствующим горожанам. По крайней мере, на ближайших улицах. И, кстати, на Ратушной площади. А там всегда кто-нибудь да гуляет, даже в ночь с воскресенья на понедельник. Наверняка.
– Вот бедняги! Значит, будут теперь славить пришествие Ктулху, – расхохоталась Таня. – А сколько убедительно мутных фотографий нащелкают телефонами! Заранее страшно за инстаграм.
– Тебе бы все ржать.
– Ты прав, мне бы – да! Такое уж у меня сейчас настроение. И не только у меня, а во всем этом сновидении, общем для Старого города, в центре которого после долгой разлуки встретились веселые друзья, чтобы вместе владеть этим миром до самого утра, а там хоть трава не расти. Удивительно, кстати, что ты не ощущаешь их радости. Обычно ты даже более чуткий, чем я.
– Да все я ощущаю, – почти сердито сказал Альгирдас. – Отличное настроение, ты права. Будь у меня сегодня выходной, я бы непременно постарался оказаться где-нибудь поблизости от этой их вечеринки, что ж я, дурак – удовольствие упускать? Но пока мы с тобой на дежурстве, нам не следует подпадать под чужое влияние, даже настолько благотворное. Это как минимум непрофессионально. И помешает быстро отреагировать, если ситуация выйдет из-под контроля. А почему, как ты думаешь, я так недоволен, что начальство нас припахало на это дежурство? Вот именно поэтому, да.
– Ой, а ведь ты совершенно прав! Невовремя я расслабилась.
Некоторое время Альгирдас снисходительно взирал на Танины попытки взять себя в руки. В смысле срочно перестать ощущать себя счастливой, и всемогущей, и влюбленной в этот смешной осьминогообразный туман, чьи щупальца ласково обнимают храмовые колокольни, и во все остальное, и во всех остальных, живых и когда-то живших, настоящих и выдуманных, а особенно, конечно, в виновников торжества.
Наконец он сказал:
– Да ладно тебе, брось, не старайся. Веселись, пока можно. Если что-то пойдет не так, этим красавцам непременно приснится, что я вылил тебе на голову ведро ледяной воды. Уж на этот трюк моего мастерства всегда худо-бедно хватало.
– Ух какой ты грозный! – восхитилась Таня. – Настоящий мастер ночного кошмара. Вот что значит старая школа!
– Что да, то да.
* * *
– У меня с собой бутылка шампанского, – говорит Форнеус. – И я не вижу ни одной мало-мальски веской причины не открыть ее прямо сейчас. Эй, девчонки, вы что-то совсем разошлись. А ну быстро превращайтесь во что-нибудь плотное. С руками, щупальцами, клешнями или чем вы там собираетесь держать бокалы. И хоть с каким-нибудь условно ротовым отверстием, чтобы пить.
– Да почему же «условно»? – возмущается Бьянка. – Эй, красавчик, посмотри на меня! Вот эти нежные губы, созданные для поцелуев, ты сейчас назвал «условно ротовым отверстием»? Анафема тебе, стыд и позор!
– Прости, дорогая. Но у меня есть смягчающее обстоятельство: всего пять секунд назад ты выглядела, как гигантская сосулька, слегка подтаявшая – надеюсь от невыносимой любви ко всем присутствующим, а не просто от летней жары.
– Ну, – смущенно потупившись, признается Бьянка, – не без того.
И принимает из его рук бокал.
– Сибилла, детка, – строго говорит Форнеус, – ты, конечно, самая прекрасная в мире огненная спираль. Уж сколько я их на своем веку перевидал, а с тобой ни одна не сравнится. Но меня мучает опасение, что в такой форме тебе будет довольно затруднительно сделать хотя бы глоток.
– Кто спираль? Я спираль?! – с деланым возмущением переспрашивает Сибилла. – Ты на меня не наговаривай, я девица порядочная, не какой-нибудь легкомысленный завиток.
И поправляет рыжий завиток у виска таким знакомым жестом, что у Юстаса замирает сердце.
– Объясни мне, Си-Би, как я жил без тебя все эти годы? Весь этот бесконечный год? – говорит он.
– Как? Наотмашь, стремглав, впопыхах, кисло-сладко, впритык, враскоряку, слегка, безответственно, молча, шатаясь, дальше придумывай сам!
Сибилла смеется, но губы ее дрожат от нежности, а глаза подозрительно блестят.
– Все мы как-то друг без друга жили, – вздыхает Аглая. – И не то чтобы лично я не старалась это изменить. Но ничего не вышло. Нам не врали, когда предупреждали: после выпуска получится видеться только на специально назначенных встречах, только в этом городе, только летом, только в самую короткую ночь… вернее, за сутки до самой короткой ночи, но я бы не сказала, что это существенное послабление. Так зачем-то надо, ничего не поделаешь. Суров закон, но… В общем, он дура. Набитая, как по мне.
– Дура дурой, но больше одного специально обученного созидателя сновидений ни одна территория радиусом меньше тысячи километров долго не выдержит, – напоминает ей Джидду. – Рассыплется, сотрется из собственной памяти, потеряет себя, и жизнь там станет невыносимой даже для нас самих. Только этот город с нами более-менее справляется, да и то изредка. Раз в человеческий год.
– Ну, справедливости ради, пока мы тут учились, он каждый день превосходно справлялся, – говорит Бьянка. – Как-то не рассыпался, не стирался и не забывал. И наша жизнь становилась невыносимой только накануне экзаменов, да и то не на самом деле, это же просто такая студенческая игра: все делают вид, будто ничего не знают, ужасно волнуются, пишут шпаргалки и не спят ночами, хотя заранее ясно, что все будет отлично, из нашей Академии еще никто никого никогда не отчислял.
– Однако меня же действительно чуть не выперли, когда я три раза подряд завалил имитацию письменного документа, – вспоминает Юстас. – По крайней мере, вполне убедительно грозили отчислением. Если бы Си-Би меня не натаскала, ни за что бы не сдал. Честно говоря, до сих пор толком не научился. Мой последний шедевр – паспорт республики Коми оранжевого цвета, формата примерно А3. Счастье, что по мгновенному исчезновению у меня стабильно были «десятки»; надеюсь, тот горемычный пограничник просто решил, что ему пора в отпуск, с кем не бывает, переработал, устал.
– Но на кой тебе сдалось переться с паспортом через какую-то там границу? – изумленно спрашивает Аглая.
– Ну как тебе сказать. Так-то, по идее, действительно никакого смысла. Просто я люблю романтические приключения в духе «совсем как настоящий человек».
– «Настоящий человек» в твоем исполнении – это должно быть незабываемое зрелище, – одобрительно говорит Форнеус. – Я тебя обожаю; впрочем, ты в курсе.
И вручает ему бокал.
* * *
– Скучаете? – приветливо спросил Стефан. – Вас можно понять, полноценным дебошем происходящее пока не назовешь.
Не дожидаясь приглашения, распахнул дверь патрульного автомобиля и уселся на заднее сидение.
Ну надо же, совесть у начальства оказывается все-таки есть, – подумал Альгирдас. – Не бросил нас наедине с огненной лавой, которая теперь считается мостовой, под этим треугольным газированным северным небом, кислым, как желтый лимон, на этом мятом колючем льняном ветру, с этим хрустальным смехом, который переполняет тело, с печалью обо всем несбывшемся у всего человечества сразу, со сладким мучительным обещанием неизвестно чего – когда-нибудь, не сейчас.
А вслух проворчал:
– Если это еще не полноценный дебош, страшно подумать, чего ты от них ожидаешь.
– Они такие милые, – улыбнулась Таня. – Трогательные и забавные. Беззаботные, как дети на ярмарке, где даже небо – огромный, хоть и недосягаемый леденец. Отчаянно нежные и очень счастливые. И соскучились друг без друга так, словно не виделись целую сотню лет. Тоже мне страшные сны.
– Да почему же именно страшные? – удивился Стефан. – Странные – да, согласен. Их работа – удивлять. Зачем бы нашей Академии специально обучать кошмары? Какой от них прок? Со страхами человеческое подсознание обычно само справляется на отлично, запугивает себя так, что добрую половину так называемых спонтанных самостоятельных сновидений лично я предпочел бы никогда не досматривать до конца. Зато удивить себя хотя бы во сне мало кому по плечу. В этом деле людям нужны помощники. То есть выпускники нашей Художественной Академии. Их именно этому и учили: выбивать из колеи, смущать, поражать воображение, кружить головы и давать надежду на нечто неизъяснимое, но бесконечно важное, хотя, конечно, вряд ли возможное. С другой стороны, мне ли не знать, иногда невозможное вдруг оказывается единственной реальностью, данной нам в ощущениях. Хорошие специалисты еще и не до такого цугундера доведут.
– Так-то оно так, – согласился Альгирдас. – А все-таки их выпускные балы – сущее наказание. Счастье еще, что случаются только раз в девять лет. Но ежегодные встречи выпускников – это, по-моему, перебор. Раньше такого не было. Кто им вообще разрешил?
– Да я и разрешил, кто же еще. По настоятельной просьбе педагогического коллектива и других заинтересованных лиц. Чрезвычайно, надо сказать, заинтересованных. Чуть предпоследнюю душу из меня не вытрясли, требуя позволить этому выпуску ежегодные встречи. Впрочем, не то чтобы я особо сопротивлялся. Сам понимаю, иначе нельзя. Ребятам и правда необходимо хотя бы изредка встречаться друг с другом. И где, если не у нас.
– А почему именно им? – оживилась Таня. – Что с ними не так?
– Да, можно сказать, вообще все не так. Самый необычный набор за всю историю нашей Художественной Академии, где с момента основания учились эфирные духи, истосковавшиеся по возможности иметь хоть какую-то форму; вымыслы, мечтающие воплотиться; закончившиеся ураганы, не желающие размениваться на сквозняки; неудачные пророчества, фрустрированные невозможностью сбыться; отражения ангелов, застрявшие в зеркалах, но сумевшие выбраться на волю; раскаявшиеся суккубы, внезапно проникшиеся идеей общественной пользы, и прочие существа, для которых морочить людей в сновидениях – вполне естественное дело. Надо только отработать несколько тысяч новых приемов, ознакомиться с техникой безопасности, накопить побольше разнообразного опыта под присмотром преподавателей и набраться свежих идей.
– А эти? – нетерпеливо спросила Таня.
– Даже не знаю, как сформулировать, чтобы не сбить вас с толку. Скажем так, все они слишком рано осиротевшие вымышленные друзья.
– Чьи?!
– Чьи – это на самом деле уже совершенно неважно. Говорю же, ребята осиротели. В смысле выдумавшие их мечтатели умерли – кто в детстве, кто в ранней юности. Дело, конечно, не в этом, многие люди умирают, не достигнув зрелого возраста. И некоторые из них успевают сочинить себе целую кучу друзей, это довольно распространенное хобби. Но мало кто вкладывает в свои фантазии столько силы и страсти, что они становятся почти материальны. И уж точно одухотворены, в этом смысле с ними, честно говоря, трудно сравниться. Эти существа рождены любовью, граничащей с бесконечным отчаянием. Можно сказать, созданы для любви – в данном случае это, как вы понимаете, совсем не метафора. После смерти своих создателей ребята не просто остались в одиночестве, но и лишились единственного смысла своего существования, который состоит в том, чтобы быть самым близким другом, бесконечно любить, отчаянно дорожить.
– Боже, – ахнула Таня, прижав ладони к щекам.
Ее напарник отвернулся к окну в надежде, что хотя бы его затылок выглядит более-менее невозмутимо. С лицом-то, ясно, совсем беда.
– Да ладно вам, – сказал Стефан. – Сами видите, все закончилось хорошо. Но начиналось, конечно, – хуже не придумаешь. Бедняги совсем свихнулись от горя, одиночества и полной невозможности умереть. И вдруг выяснилось, что это не только их проблема, а наша общая. Их настроение уже тогда, задолго до обучения обладало достаточной силой, чтобы влиять на город. Не то чтобы все виленские обыватели сутками напролет оплакивали бессмысленность своего существования, но на пару тысяч лютых депрессий эти красавцы нам статистику ухудшили. И тогда мне пришлось выходить на охоту. Теперь-то смешно вспоминать: приготовился к встрече с новым неведомым злом, а когда увидел виновников наших бед, чуть не прослезился. Какое уж там зло, просто самые одинокие дети во Вселенной. Но пока я раздумывал, что с ними теперь делать, куда девать, как облегчить их боль, разрушительную для всего остального мира, они успели найти выход самостоятельно. В смысле обрести друг друга. Строго говоря, это было вполне неизбежно: камера предварительного заключения для овеществленных наваждений у нас всего одна. И уже к утру в этой камере сидели не изнывающие от тоски сироты, а компания влюбленных друг в дружку лю… Нет, конечно же, не людей, а явлений природы, не поддающихся точной классификации. Оставалось придумать, как бы приставить их к делу, которое, если повезет, станет для них новым смыслом. Таким, чтобы мог заполнить и очень короткую, и бесконечную жизнь – никто пока точно не знает, насколько долог век подобных существ. К счастью, руководство Академии Художественных Сновидений загорелось идеей набрать такой… специфический курс. По их словам, отлично получилось, один из лучших выпусков за всю историю; к последнему курсу ребята даже дебоширить научились, а этого от них никто особо не ждал. Но, в отличие от других выпускников, которые, получив дипломы, разлетаются по свету, даже не всплакнув напоследок, эти ребята очень привязаны друг к другу и, конечно, тоскуют в разлуке. Это их уязвимое место. Все-таки они изначально созданы для любви. Пришлось это учесть и пойти им навстречу: разрешить ежегодные вечеринки. Впрочем, сейчас я понимаю, что это скорее выгодная сделка, чем благотворительность. Городу их любовь и радость только на пользу. Достаточно посмотреть, как все у нас изменилось за последние десять лет.
– Именно десять? – переспросил Альгирдас.
– Ну да. С начала их учебы.
– Да, пожалуй, все сходится.
– Еще как сходится, – подтвердила Таня.
И они умиротворенно замолчали, наблюдая, как печные трубы тянутся ввысь, принимая форму деревьев, и вот уже над городом шумит листвой, дрожит, трепещет, переливается всеми цветами радуги косой, кривой, словно бы наспех неумелой детской рукой нарисованный, но, вне всяких сомнений, не какой-нибудь, а именно райский сад.
– Однако рисунку их, похоже, так и не научили, – наконец усмехнулся Альгирдас. – А ведь, по идее, профильный предмет.
– Это в обычной Художественной Академии он профильный, – напомнил ему начальник. – А у наших просто короткий спецкурс; кажется, даже не обязательный к посещению. Возможно, напрасно, ты прав.
* * *
– Ты лей, я скажу, когда хватит, – хохочет Аглая.
Форнеус уже добрые пять минут льет шампанское в подставленный ею бокал, щедро, толстой струей, но несмотря на его старания, бокал по-прежнему пуст, а бутылка полна примерно на четверть. Однако Форнеус, конечно, сохраняет полную невозмутимость, такой ерундой его не проймешь.
Аглае всегда очень нравился голубоглазый щеголь Форнеус, поэтому она любила его меньше, чем остальных сокурсников, обычное дело, чрезмерное восхищение всегда мешает любви. Но нынче ночью он явился на встречу нелепым лысым коротышкой в очках, форменным олухом царя небесного, и Аглаю наконец отпустило. Любить такого Форнеуса оказалось легко и приятно, и теперь Аглая дразнит и задирает его, стараясь наверстать упущенное, а он совершенно не возражает, наоборот, радуется, что все наконец встало на место, говорит себе: ясно теперь, для кого я так по-дурацки вырядился на вечеринку, зачем мне этот костюм.
– …такой крутой чувак оказался, – рассказывает Джидду. – Когда я впервые ему приснился, сразу меня вычислил, хотя я в тот момент был скорее местом действия, чем персонажем, чем-то вроде заброшенного города в джунглях, почему-то выглядевших как степь. Но он тут же сказал: «Ага, наконец-то в моих снах объявился кто-то посторонний». Я так растерялся, что обрадовался уже потом, задним числом, сообразив, что у меня завелся новый приятель. Это же большая редкость среди сновидцев – люди, способные с нами дружить или хотя бы просто поддерживать разговор. А я, сами знаете, и до этого жаден безмерно. В смысле до задушевных разговоров и новых знакомств.
– И до новых романов, – подмигивает ему Сибилла.
– Да, конечно, – легко соглашается тот. – Роман – естественное продолжение приятного знакомства. И довольно веский повод поговорить!
– …Этому фанту показать нам свое подлинное лицо, – говорит Бьянка.
Фантом оказывается паспорт Юстаса, полосатый, как тельняшка, узкий и вытянутый, зато толстый, как два тома «Войны и мира». Хорошо, что не стал показывать его пограничникам, а для игры в фанты в самый раз.
Присутствующие растерянно переглядываются. Довольно неудачная шутка. Бьянку иногда заносит, к этому вроде бы все привыкли, но «подлинное лицо» – это все-таки перебор.
Но Юстас разряжает обстановку.
– Подлинное! Ну ты даешь! – смеется он. – Если бы оно у меня когда-нибудь было, я бы первым делом постарался его забыть.
– Конечно, ты постарался, – соглашается Бьянка. – И все у тебя получилось. Извини, что спросила. Просто иногда натурально умираю от любопытства: какой ты на самом деле? Ну, в смысле каким ты когда-то был? И я, и все остальные.
– Вряд ли это действительно так уж интересно, – примирительно говорит Джидду. – Лично я, докопавшись до самых потаенных глубин своей памяти, ничего увлекательного там не обнаружил. Только боль. Очень много боли. А боль кажется забавным ощущением только первые две секунды. Дальше уже не то.
– С детьми проще всего, – говорит Сибилла.
И все дружно кивают: еще бы! Одно удовольствие иметь дело с детьми.
– Так вот, – продолжает Сибилла, – я придумала, как поступать со взрослыми. Очень простой лайфхак, но я до сих пор не слышала, чтобы кто-нибудь это делал, поэтому рассказываю, учитесь, пока жива. Если взрослому снится, что он снова ребенок, он и ведет себя потом соответственно. Вообще без малейшей фальши, как будто иначе нельзя. Практически из любого взрослого можно сделать идеального компаньона; до сих пор мне встретилось всего два исключения, но оно и понятно: первый с рождения болен, а второй, как выяснилось, вообще не очень-то человек. Но очень умело замаскированный, я до последнего момента не заподозрила подвоха.
– Боже, но кто же тогда? – смеется Форнеус.
– До сих пор понятия не имею. Мы очень быстро расстались. Сразу после того, как оно поняло, что не ест таких, как я. Это было очень воодушевляющее открытие! До сих пор рада, что пронесло.
– Пока вы, зануды, кудахчете о работе, у меня в кастрюле закипает крепчайший весенний дождь семилетней выдержки, – говорит Джидду. – Ну что вы так смотрите, разве забыли, что мы пили в честь окончания третьего курса? Так вот, этот точно такой же, только шотландский. Тамошние горцы знают толк в пьяных дождях.
Ответом ему становится общий восхищенный вздох. И звон поспешно подставленных кружек.
* * *
– О. Вот теперь они наконец-то ведут себя, как нормальные люди, а не какая-нибудь прогрессивная мистическая молодежь, – ухмыльнулся Альгирдас. – Нажрались и песни орут. Хорошо хоть «Оду к радости»[9], а не «Ой, мороз-мороз».
– Страшно даже подумать, к чему бы это могло привести в июне, – подхватила Таня.
– Да ладно вам, – сказал Стефан. – Не настолько мы олухи, чтобы совсем забить на меры безопасности. «Оду к радости» с ними перед выпускным специально разучивали, предварительно подпоив за казенный счет. Столько раз заставили повторить, что натурально выработали условный рефлекс. Теперь эти красавцы чуть только примут на грудь, сразу заводят: «Все, что в мире обитает, вечной дружбе присягай![10]» По-моему, неплохое техническое задание для окружающей реальности. Не то чтобы я верил в настолько легкий успех, но чем черт не шутит, вдруг нас всех однажды проймет?
Улица Арсенало
(Arsenalo g.)
И муравей
– Столько всего было. Господи боже, столько всего. А что впереди? Зима, дружище. Только чертова зима.
Двое мужчин сидят на лавке у реки. Лицом к воде, спиной к Арсенальной улице, башне Гедиминаса и повисшей над ней по-летнему сизой туче.
Один плотный с рыжеватыми усами, уже тронутыми инеем седины, неброская практичная демисезонная куртка Timberland, неброские практичные ботинки той же марки, хоть сейчас в каталог – при условии, что перестанет хмуриться так, словно только что проглотил грядущий ноябрь. Второй, тощий, загорелый и жилистый, как лесоруб, кутается в тонкий, не по погоде, просторный серый плащ. Разглядывая его потертую шляпу, Шерлок Холмс мог бы надиктовать Ватсону захватывающий роман на шестьсот страниц, мы же лишь скромно осмелимся предположить, что владелец исследуемого головного убора знавал хорошие времена, но было это, прямо скажем, не на прошлой неделе. И даже не год назад.
– Ну, зима, – говорит усатый. – И что с того? Хорошее время. Снег, морозные узоры на стекле, Рождественские огни. Красиво. Не драматизируй на пустом месте.
– В родительском доме, который за каким-то чертом на меня свалился, до сих пор печное отопление. Ты в курсе, почем нынче дрова? У меня до сих пор волосы дыбом от этой информации.
– Ну так установи газовую колонку.
– Совсем ты с ума сошел. Знаешь, сколько это стоит?
– Да нормально стоит, не выдумывай.
– Не хотелось бы ранить твое нежное сердце, Адам. Но в мире полным-полно людей, для которых «нормально стоит» – это, к примеру, пятьдесят литов. Которые, впрочем, тоже еще надо где-то добыть. И я – один из них.
– Прости. Не подумал.
Какое-то время они сидят молча.
– А чего ты ее не продашь? – наконец спрашивает усатый. – В смысле квартиру. Тебе одному такая здоровенная все равно не нужна. Купил бы, к примеру, студию. У нас в Новом городе сейчас заброшенные заводы под жилье активно перестраивают – ну, лофты, как в Америке. Отличные получаются квартиры, маленькие и недорогие, и от центра не то чтобы далеко. А на разницу жил бы себе долго и счастливо.
– Я тоже так думал. А на самом деле эту чертову хату сейчас даже за половину рыночной цены не продашь. Кризис. Говорят, надо подождать несколько лет. Несколько лет, ты только вслушайся. Звучит, как злая шутка.
– А сдать?
– Квартиру с печным отоплением и без горячей воды? Где последние сорок лет ни хрена не ремонтировали, только потолки изредка белили? Не смеши. В такой и бесплатно мало кто жить согласится. Я бы, к примеру, ни за что не согласился, если бы у меня был хоть какой-то выбор. И, пожалуйста, не говори, что ремонт – проблема решаемая. Для меня – нерешаемая.
– Ладно, не буду говорить. Хотя на самом деле… Ай, ладно.
Снова молчание. Тощий использует паузу, чтобы достать кисет и на коленке слепить самокрутку. Усатый набивает пенковую трубку, изрядно пожелтевшую от времени и хозяйских рук.
– Йошка, – говорит наконец он. – Мать твою, Йошка. Как же так, а. Ты же был лучший на курсе. А может, вообще самый лучший – из всех выпусков, за все годы. Некоторые профессора так говорили, я слышал. Ты же, в отличие от всех нас, мог выбирать любую жизнь. Вообще любую, какую захотел бы.
– А я и выбрал какую хотел.
– Правда, что ли?
– Правда.
Новая пауза так щедро заполнена вороньим гвалтом, словно птицам поручили продолжить беседу, пока люди курят и молчат.
– Я много лет жил, как хотел, – наконец говорит тощий Йошка. – Грех жаловаться. Объездил полмира. Для тебя это, знаю, пустяки, дурная суета, а для меня – самое важное. Быть везде, видеть и слышать все, играть – для всех, кого бог пошлет. При всяком удобном случае. Я играл в захолустных оркестрах и шикарных кабаках. На деревенских свадьбах и на палубах круизных лайнеров. В ночных клубах и на туристических улицах, в студийных подвалах и на городских крышах – по ночам, пока все спят. Чего только не было, Адам. Чего только со мной не было. Порой спал где и с кем попало, а порой на долгие месяцы запирался от всех в первой попавшейся съемной конуре. Деньги тратил без счета, не жалея, свои и чужие. Но и окурки на улицах собирал не раз. Видишь, у меня с собой банка из-под китайского чая? Это чтобы их потрошить. Докуривать за чужими всегда брезговал, а в самокрутки – ничего, сойдет… Зато и настоящих кубинских сигар я выкурил больше, чем ты съел пирожков с капустой. Хотя, уверен, их в твоей жизни было предостаточно. Твоя мама их знатно пекла. И Ляльку наверняка научила. Скажешь – нет?
– Научила, конечно. А ты не думал, чем это может кончиться? Вся эта твоя развеселая жизнь?
– Конечно, не думал. Зачем думать, когда и так знаешь? Но другой жизни мне не было надо, вот в чем штука, дружище. И если ты считаешь, будто я сам выбирал, каким уродиться, ты ошибаешься. Во всяком случае ничего подобного не припомню.
– Жаль, что так все вышло, – вздыхает усатый. – Очень жаль, Йошка. Не тебя лично. Вообще – жаль.
– Ты погоди, – говорит тощий. – Вот буквально минуту погоди, а потом жалей, если сможешь.
Жестом фокусника достает из-под плаща футляр, из футляра – кларнет.
– Ого. Когда это ты духовые освоил?
– Ай, чего я только не освоил. Рояль за собой по свету особо не потаскаешь. И это, знаешь, даже к лучшему. После шести-семи инструментов начинаешь понимать, что можешь вообще все. Это как проснуться и обнаружить, что говоришь на всех языках, включая птичьи и звериные. Вернее, что отныне все языки – один язык. Для тебя. И для тех, кто окажется рядом. А теперь послушай, что я тебе скажу, Адам. Просто послушай.
…Он подносит кларнет к губам. Начатая было Мессиановская «Бездна птиц» внезапно сменяется «Голубой рапсодией»; в какой момент заканчивается Гершвин и начинается импровизация, определить не может даже Адам, опытнейший концертмейстер, выдающийся авторитет.
Выдающийся авторитет сидит на лавке, закрыв лицо руками, потому что сам не знает, смеется он или плачет сейчас, когда твердая скорлупа неба вдруг треснула над его головой, и звук стал светом, свет – ангельским смехом, а смех – благодатным огнем, который, оказывается, был всегда, внутри и снаружи, везде, всем.
Тощий Йошка играет долго. Четверть часа, почти вечность.
Потом они молчат. И это тоже вечность, но другая. Не такая пронзительная. Но, как и музыка, совершенно необходимая. Хотя бы для того, чтобы наскоро заделать трещину в небе. Косметический ремонт, утешительная иллюзия. А все равно.
– Я больше не знаю, кто из нас дурак, – наконец говорит Адам.
– Да нечего тут знать, – безмятежно отвечает Йошка. – Оба дураки. Но это не беда, людям так положено.
– И еще я не знаю, какого черта я – не ты, – горько добавляет Адам.
– Не факт, что тебе понравилось бы.
– Сам знаю, что не факт.
– Тебе совсем не надо быть мной. Ты и так самый лучший. Ты умеешь слушать, как никто. И всегда умел. Только поэтому я тебя и разыскал. Я сейчас очень хорош, дружище. Не знаю, почему именно сейчас и сколько еще мне отпущено, но сегодня это – так. Поэтому мне позарез нужен слушатель вроде тебя. Чтобы смысл, заключенный во мне, не растратился совсем уж впустую, пока я играю на рассвете для голубей и ворон. И вот сбылось. Я играл, ты слушал, все у нас с тобой получилось, дружище. Теперь мне вообще ни черта не страшно. Пусть приходит зима. Плевать.
– Я пригоню тебе грузовик дров, – говорит Адам. – Знаю, где дешево взять, сосед кума ими как раз торгует, уступит по знакомству. У тебя хоть есть, куда складывать?
– Во дворе полно дурацких дровяных сараев, – безмятежно отвечает Йошка. – Какой-то из них наверняка мой. Надо будет спросить соседей.







