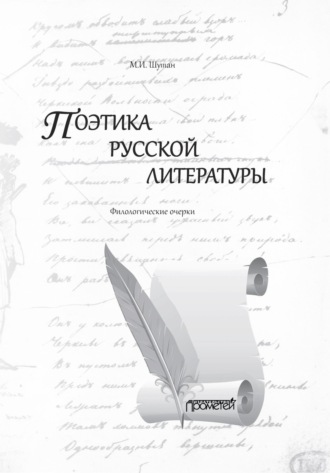
М. И. Шутан
Поэтика русской литературы. Филологические очерки
Представим три линии соотнесения стихотворений: 1) пространственные картины зимы и весны; 2) изменения во внутреннем мире главного героя; 3) причина изменений.
Зимой герой стихотворения живёт в замкнутом пространстве: «В избе сам-друг с обманщицей // Зима нас заперла» – «Жил я в бедной и тёмной избушке моей // Много дней, меж камней, без огней». Причём в некрасовском стихотворении «зима косматая», ревущая «и день и ночь»: «Убей, убей изменницу! // Злодея изведи!», – провоцирует главного героя на месть, так как пробуждает в нём самые тёмные чувства: «Под песню-вьюгу зимнюю // Окрепла дума лютая – Припас я вострый нож…». Герой же Блока «жил в лесу как во сне, // Пел молитвы сосне, // Надо мной распростёршей красу». И там и здесь сон: если в первом стихотворении речь идёт о некоем наваждении, едва не спровоцировавшем трагедию, то во втором – о мистическом состоянии, близком к экстатическому.
Весной расширяется жизненное пространство не только некрасовского героя, который видит вишнёвые сады и сосновые леса, и лирического героя Блока, выходящего из своей тёмной избушки и крушащего вековую сосну, ведь она скрывает небесную синеву, с чем сейчас никак нельзя смириться.
Читая некрасовские строки о весне, нельзя не услышать новые звуки: это песня, которую лепечут «и липа бледнолистая, и белая берёзонька с зелёною косой», это весенний шум малой тростинки и высокого клёна, вишнёвых садов и сосновых лесов. И самое главное – песня, которая слышится лирическому персонажу: «Люби, покуда любится, // Терпи, покуда терпится, // Прощай, пока прощается, // И – бог тебе судья!» Песня, освобождающая человека от душевного хаоса, от тёмных чувств, страстей, песня, приближающая его внутренний мир к системе христианских ценностей. Нож, валящийся из рук, – символ этих сущностных изменений. Природный мир преображается – и преображается человек.
Обратим внимание на новые звуковые образы в блоковском стихотворении [1:389], при помощи которых показываются изменения в психологическом состоянии лирического героя: «Слышишь звонкий топор?», «Под моим топором, распевая хвалы, // Раскачнулись в лазури стволы!», «Слышишь песню мою? Я крушу и пою // Про весеннюю Сольвейг мою!» Всё стихотворение представляет собой обращение к Сольвейг, героине драмы Г. Ибсена «Пер Гюнт» (вспомним эпиграф к произведению: «Сольвейг прибегает на лыжах ко мне»). И в финале утверждается то, что уже не может вызвать недоумение у читателя: «Голос твой – он звончей песен старой сосны! // Со́львейг! Песня зелёной весны!»
В этих двух стихотворениях тема весны поэтически раскрывается на основе существующих в искусстве образов – фольклорных (у Некрасова) или литературных (у Блока).
Отметим принципиальное различие: в стихотворении Некрасова, в отличие от стихотворения Блока, речь о нравственном преображении человека.
Сопоставим стихотворения и с точки зрения их ритмико-интонационной организации. Здесь прежде всего отмечается различие: белый стих с преобладающим четырёхстопным ямбом (с частым пиррихием в последней стопе и женской клаузулой), вызывающий ощущение свободы, как бы передающий раскрепостившуюся жизненную энергию, а также воодушевление самого лирического персонажа, и рифмующиеся стихи с мужскими клаузулами, написанные анапестом (явно преобладает чередование четырёхстопного анапеста с трёхстопным), энергичные стихи, чуть ли не имитирующие движения лирического героя, который рубит сосну. Да, ритмы разные, но и тот и другой передаёт атмосферу пробуждения природы и человека к жизни!
Конечно же, для Некрасова, как и для Фета, весна – это пробуждение жизненной энергии, это само воплощение красоты и гармонии. Но в стихах Некрасова, как уже было ранее отмечено, обнаруживается тот акцент, который полностью отсутствует в лирических миниатюрах другого поэта, – акцент этический: весна освобождает человека от тёмных чувства, от злобы, приближая к свету, добру, к христианскому мироощущению. Нельзя пройти мимо и социальности, без которой нет некрасовской поэзии: в первом стихотворении человек устаёт от установившегося в стране порядка вещей и жаждет спасения в мире природы, во втором – крупным планом подаётся представитель низших классов, которого никак нельзя отождествлять с самим автором (термин «лирический персонаж» при его характеристике в высшей степени уместен). Поэзия же Фета предельно далека от социально-нравственных категорий, ибо в ней главное – предельная эстетизация природы и человека. Это два мира, находящиеся рядом и существующие во многом по общим законам.
Иначе говоря, в стихотворениях о весне проявляются сущностные признаки творческих стилей Некрасова и Фета.
ЛИТЕРАТУРА
1. Блок А. А. Собрание сочинений в шести томах. Том 1. – Л., 1980.
2. Введение в философию: Учебник для вузов: в 2 ч. Ч. 2. – М., 1989.
3. Некрасов Н. А. Полное собрание сочинений и писем в пятнадцати томах. Том 2. – Л., 1981.
4. Пушкин А. С. Собрание сочинений в 3 томах. Том 2. – М., 1986.
5. Фет А. А. Стихотворения (Библиотека всемирной литературы). – М., 2012.
«Тайны ремесла» А. А. Ахматовой как лирический цикл
Лирический цикл А. А. Ахматовой «Тайны ремесла» – о поэтическом творчестве, в сознании многих читателей ассоциирующемся с романтическим восприятием жизни, воспринимающемся как особая сфера деятельности человека, которая предельна далека от унылой повседневности, от рационализма.
Последуем вслед за автором, не нарушая последовательность стихотворений, которые вошли в лирический цикл.
Стихотворение «Творчество» (1936 г.) [1: 189], открывает лирический цикл. В этом произведении фиксируются этапы психологического состояния поэта, воспринимающего окружающий мир: 1) истома, неумолкающий бой часов, раскат стихающего грома, и жалобы и стоны «неузнанных и пленных голосов», то есть восприятие звуков самой реальности, отличающихся хаотичностью; 2) новый этап в восприятии мира, характеризующийся сужением «какого-то тайного круга» – и победой одного звука, окружаемого такой тишиной, «что слышно, как в лесу растёт трава, // Как по земле идёт с котомкой лихо…»; 3) появление слов и «лёгких рифм сигнальных звоночков» и начало понимания мира – всего того, что предшествует созданию стихов: «И просто продиктованные строчки // Ложатся в белоснежную тетрадь».
Неизбежен вывод: у истоков создания лирического стихотворения – сама реальность, её восприятие, вслушивание в неё. Причём в произведении А. А. Ахматовой фиксируется не единичная ситуация, а ситуация, периодически воспроизводящаяся. Об этом свидетельствует фраза «Бывает так», после которой стоит двоеточие, сигнализирующее о том, что далее будет пояснение этой фразы, то есть наполнение её конкретным смыслом.
Нельзя не обратить внимание и на употребление автором противительного союза «но» после многоточия, подчёркивающего особую значимость следующего этапа психологического состояния, уже максимально приближённого к самому поэтическому творчеству.
Слово «продиктованные» выражает следующую мысль: есть некая высшая сила, через поэта передающая некие откровения. В связи с этим следует назвать уместным обращение к стихотворению «Муза» (1924 г.) [1: 174–175], в котором встречаются, в частности, такие строки: «Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала // Страницы Ада?» Отвечает «Я». Отметим, что заключительная часть этой лирической миниатюры представляет собой обращение лирической героини к Музе и её краткий ответ.
Неизбежной представляется ассоциация с пушкинской «Осенью» (1833 г.) [5: 522]: строфы X–XII в этом произведении посвящены творческому процессу. Выводы следующие: 1) в произведении А. С. Пушкина поэзия пробуждается во внутреннем мире лирического героя в тот момент, когда он полностью оторван от реальности, будучи усыплён воображеньем («И забываю мир»), именно тогда «душа стесняется лирическим волненьем»; в произведении же А. А. Ахматовой эта граница не фиксируется – и создаётся ощущение, что поэзия как бы вырастает из звуков, а далее одного победившего звука – знаков самой реальности; 2) у двух авторов «свободному течению стихов» предшествует появление мыслей, слов, рифм; 3) в отличие от Ахматовой Пушкин не подчёркивает мысль об абсолютной зависимости поэта от высшей силы, как бы диктующей ему строки.
Второе стихотворение цикла «Мне ни к чему одические рати…» (1940 г.) [5: 189] выводит читателей за рамки традиционного подхода к творчеству. Не удивляет, что уже в первой строфе встречаются такие слова и сочетания слов, как «некстати», «не так, как у людей». В чём это «некстати» выражается? На только что сформулированный вопрос отвечает вся дальнейшая образная структура стихотворения: стихи растут, «не ведая стыда», из того, что поэтесса называет сором. А сором могут быть названы и «одуванчик у забора», и лопухи, и лебеда, и «сердитый окрик», и «дёгтя запах свежий», и «таинственная плесень на стене». В обычном, привычном, прозаическом творческая личность видит поэтическое.
Остановимся на «кульминационном» эпитете «таинственная», как бы отмечающем нечто непостижимое, необъяснимое в прозаической детали, на первый взгляд, лишённой поэтического очарования – ведь речь идёт о плесени! Но после многоточия и назван результат восприятия творческой личностью окружающего мира. Это не что иное, как звучащий стих, задорный и нежный, стих, радующий и самого автора, и читателей.
В подходе к прозаическому А. А. Ахматова резко противостоит романтической системе ценностей, в рамках которой нередко сама «проза мыслится «за чертой поэтического мира, а этот мир напоминает о её существовании лишь художественным актом её отсечения, – это соотношение, в сущности, лишь частный случай общего для романтиков стремления строить поэтическую «систему» в лирике по закону контраста с реальностью или, точнее, по принципу компенсации» [2: 398].
Нельзя проигнорировать и то, что поэтесса выводит свою лирику за рамки устоявшихся лирических жанров, ибо её неинтересны ни «одические рати», «ни прелесть элегических затей» – всё то, что сковывает творческую личность, окружив её различными нормами, ограничениями. Главное – сама реальность, импульсы которой и рождают творческую энергию, не подчиняющуюся рационалистическим законам.
Третье стихотворение цикла – «Муза» (1960 г.) [1: 190]. Всего шесть строк: «Как и жить мне с этой обузой, // А ещё называют Музой, // Говорят: «Ты с ней на лугу…» // Говорят: «Божественный лепет…»// Жёстче, чем лихорадка, отреплет, // И опять весь год ни гу-гу».
Приметы разговорного стиля так и бросаются в глаза (синтаксическая конструкция, которой начинается произведение; такие слова, как лихорадка, отреплет, ни гу-гу). Простой, незатейливый монолог (кстати, в него входят реплики других людей), конечно же, с ироническим смыслом. Читая его, мы видим перед собой не богиню с внимательным и строгим взглядом, пусть и милую, а женщину со своенравным характером, не церемонящуюся с поэтессой. Какой уж тут божественный лепет?! Какая тут идиллия в античном стиле?!
Сама поэзия оказывается предельно приближенной к привычной реальности, если сам творческий процесс десекуляризируется, теряя возвышенную ауру. Но возвышенное, таинственное на самом деле не исчезает, ибо оно обнаруживается в привычном, обыденном, в том, что мы называем прозаическим (вспомним, стихотворение «Мне ни к чему одические рати…», вошедшее в цикл «Тайны ремесла»). Иначе говоря, рассматривая шутливое стихотворение Ахматовой в контексте лирического цикла, мы понимаем следующее: поэтесса снимает всякого рода стилистические напластования, штампы, затвердевшие в сознании авторов и читателей в течение веков, уничтожает романтические котурны, но не лишает само творчество возвышенного содержания, высшего смысла, обращая наш взор вглубь, в самую сердцевину жизни и даже бытия.
Тема связи поэзии с окружающим миром получает своё развитие в стихотворении «Поэт» (1959 г.) [1: 190]. Что же означает само поэтическое творчество, названное «беспечным житьём»? Какие действия его определяют?
Далее курсивом мы выделяем глаголы и деепричастия, которые и называют эти действия: «Подслушать у музыки что-то // И выдать шутя за своё. // И чьё-то весёлое скерцо // В какие-то строки вложив, // Поклясться, что бедное сердце // Так стонет средь блещущих нив. // А после подслушать у леса, / У сосен, молчальниц на вид, // Пока дымовая завеса // Тумана повсюду стоит. // Налево беру и направо, // И даже, без чувства вины, // Немного у жизни лукавой, // И всё – у ночной тишины». Лукавство, хитрость, «потребительское» отношение к окружающему миру, патетика, игровое начало – всё возможно, ибо служит благородной цели. Но даже те поступки, которые в обычных условиях вряд ли оценивают положительно, в совершенно иной системе жизненных координат приобретают новый смысл и не подлежат осуждению.
Далее неизбежен вопрос: как соотносятся друг с другом стихотворения «Мне ни к чему одические рати…» и «Поэт»? Если в первом из них акцентируется внимание на самих объектах реальности, восприятие которых рождает поэзию, то во втором – акцентируется внимание на психологических реакциях и действиях творческой личности, ощущающей себя предельно свободной в «манипуляциях» этими объектами.
В пятом стихотворении цикла «Читатель» (1959 г.) [1: 190–191], создаётся образ «поэта неведомого друга». Опираясь на текст стихотворения, создадим характеристику этого человека. Прежде всего «каждый читатель как тайна». И не удивляет, что А. А. Ахматова сравнивает его с закопанным в землю кладом. Но самое главное – его способность на диалог с автором, на подлинное общение с ним, пусть и заочное: «Там те незнакомые очи // До света со мной говорят, // За что-то меня упрекают // И в чём-то согласны со мной… // Так исповедь льётся немая, // Беседы блаженнейший зной». Сама лексика, используемая поэтессой («исповедь», «беседа», эпитет «блаженнейший»), – способ возвышения самого процесса восприятия художественного произведения.
Но в начале стихотворения формулируется и требование к автору: «Чтоб быть современнику ясным, // Весь настежь распахнут поэт». Метафорический образ, встречающийся в последней строке, чрезвычайно важен, ибо он о душевной открытости подлинного поэта, его доверчивом отношении к окружающему миру. Иначе между творческой личностью и читателем возникнет непреодолимая преграда.
Особое место в лирическом цикле занимает «Последнее стихотворение» (1959 г.) [1: 191–192], ибо в нём представлен результат творческого процесса в различных его вариантах. Опираясь на образную структуру произведения, охарактеризуем варианты стихотворения: 1) трепещущее, кружащееся, с дыханием жизни врывающееся в дом и напоминающее «кем-то встревоженный гром»; 2) родившееся в полночной тишине, крадущееся к автору, смотрящее из зеркала и что-то бормочущее сурово; 3) не видящее автора, струящееся по белой бумаге и напоминающее «чистый источник в овраге»; 4) тайно бродящее вокруг, не напоминающее не звук и не цвет, меняющееся, вьющееся и не дающееся в руки; 5) по капельке выпившее кровь (ассоциация со злой девчонкой-любовью в годы юности вполне уместна) и снова сделавшееся безмолвием.
У каждого стихотворения обнаруживается свой характер, темперамент, диктующие особенности поведения. Кажется, что для поэтессы каждое последнее стихотворение – это живое существо, к которому нельзя быть равнодушной. А последняя потеря воспринимается поэтессой как подлинная трагедия: «И я не знавала жесточе беды. // Ушло, и его протянулись следы // К какому-то крайнему краю, // А я без него… умираю». Курсивом мы выделили слова, подчёркивающие эмоциональную тональность заключительной строфы.
Седьмое место в цикле занимает шуточное четверостишье, озаглавленное очень просто – «Эпиграмма» (1958 г.) [1: 192]. Обратим внимание на знаки препинания: если сначала в произведение входит вопрос («Могла ли Биче словно Дант творить, // Или Лаура жар любви восславить?»), то после этого стоит многоточие («Я научила женщин говорить…») – и далее мощный словесный удар, совершенно неожиданный, непредсказуемый, резкий, иронический, если не саркастический, завершающийся восклицательным знаком: «Но, боже, как их замолчать заставить!» Сила эпиграммы – в её финале. И произведение А. А. Ахматовой, посвящённое так называемой женской поэзии, подтверждает справедливость этой точки зрения.
В лирической миниатюре «Про стихи» (1940 г.) [1: 192], к результатам творческого процесса поэтесса относит и физическое состояние человека («выжимки бессонниц»), и детали предметного мира («свеч кривых нагар», «тёплый подоконник под черниговской луной»), подчас связанные с христианской культурой («сотен белых звонниц первый утренний удар»), и саму природу (пчёлы, пыль, мрак, зной).
Налицо синтаксическая модель, постоянно воспроизводимая автором: указательное местоимение «это» в функции подлежащего, после которого ставится тире, и имя существительное в функции именной части составного именного сказуемого.
Для сопоставления возьмём стихотворение Б. Л. Пастернака «Определение поэзии» (1914 г.) [4: 97]:
Это – круто налившийся свист,
Это – щёлканье сдавленных льдинок.
Это – ночь, леденящая лист,
Это – двух соловьёв поединок.
Это – сладкий заглохший горох,
Это – слёзы вселенной в лопатках,
Это – с пультов и флейт – Фигаро
Низвергается градом на грядку.
Указательное местоимение, употребляющееся семь раз в позиции подлежащего и становящееся анафорой, тире, резко отделяющее элементы грамматической основы предложения (в последнем случае позицию сказуемого занимает целое предложение!), трёхстопный анапест, вызывающий ощущение разбега с метким попаданием в нужную точку (дополнительное ударение в первом слоге всё же слабее ударения, ставящегося в соответствии с метрической схемой), чередование мужской и женской рифм, усиливающее резкий ритмико-интонационный рисунок (проводим маленький эксперимент: меняем последовательность строк с мужскими и женскими рифмами – и стихотворение приобретает более мягкое звучание), не могут не влиять ни ритмико-интонационный рисунок лирической миниатюры.
Почему поэту необходимо резкое звучание стихотворения? Сами образы, которые перечисляются автором, также напоминают о чём-то резком (свист, щёлканье, поединок, лопатки, низвергающийся, а не падающий град). Причём они связаны и с миром людей, сопрягающимся с миром природы: музыка Россини «низвергается градом на грядку», а звезду можно «донести до садка на трепещущих мокрых ладонях». Резкое звучание стихотворения – это напоминание о самой жизни, наполненной движением, толчками, непредсказуемыми, экстравагантными реакциями, – жизни подлинной.
Не противоречит ли названию стихотворения содержание последней строфы?
Лирический герой настолько погружён в окружающий мир, настолько им увлечён, что не может не забыть о той цели, какую перед собой ставил (дать определение поэзии), и описывает необычную картину природы, выражая к ней своё отношение:
Площе досок в воде – духота.
Небосвод завалился ольхою.
Этим звёздам к лицу б хохотать.
Ан вселенная – место глухое.
Эта парадоксальная концовка лирической миниатюры Пастернака весьма симптоматична, ибо поэзия должна вызывать ощущение реальности. В этом смысле она всегда реалистична, как и музыка.
Иначе говоря, в произведении возникает образ поэзии, полностью уподобившейся реальности, ведь Б. Л. Пастернак утверждал, что поэзия – это губка, вбирающая в себя и звуки, и запахи, и визуальные картины мира.
Уподобление поэзии явлениям окружающего мира объединяет стихотворения А. А. Ахматовой и Б. Л. Пастернака, что находит своё выражение и в синтаксических структурах, практически идентичных. Тем не менее есть различие в характере образности: если в стихотворении 1914-го года встречаются образы, отличающиеся резкостью, то в стихотворении «Про стихи» ничего подобного мы не встречаем. Мало того, сама последовательность образов выстраивает определённый сюжет, отличающийся эскизностью: о бессоннице свидетельствует нагар свеч, а после бессонницы лирическая героиня слышит первый утренний удар звонниц и вспоминает «тёплый подоконник под черниговской луной», летящих пчёл, мрак и зной. Это лишь возможная версия!
И второе различие. В отличие от стиха Б. Л. Пастернака, характеризующегося некоторой тяжеловесностью (трёхстопный анапест с чередованием мужских и женских рифм) и резкостью, стих А. А. Ахматовой (четырёхстопный хорей с чередованием женских и мужских рифм), несмотря на постоянно воспроизводящиеся паузы между подлежащими и сказуемыми, отличается лёгкостью, динамизмом, передающими душевное состояние лирической героини, воодушевлённой творческими порывами и смело смотрящей вперёд.
И отдельно о слове «выжимки». Получается, что поэзия не представляет собой лишь механическое воспроизведение тех или иных объектов – она может активно, воистину творчески с ними «работать»!
Девятое стихотворение цикла «Я над ними склонюсь, как над чашей…» (1957 г.) [1: 241] посвящено О. Э. Мандельштаму. В произведении показано общее жизненное пространство поэтов, относящихся к одному поколению, звучит тема общности их судеб: «Окровавленной юности нашей // Это чёрная нежная весть»; «Тем же воздухом, так же над бездной // Я дышала когда-то в ночи»; «Это наши проносятся тени // Над Невой, над Невой, над Невой». Курсивом мы выделили слова, подчёркивающие эту общность. Сам характер образности (окровавленная юность; пустая и железная ночь, «где напрасно зови и кричи») свидетельствует о драматизме и трагизме судеб, а отдельные строки – напоминание о смерти великого поэта («Это пропуск в бессмертие твой»; «Это голос таинственной лиры, // На загробном гостящей лугу»).
Завершает цикл стихотворение «Многое ещё, наверно, хочет…» (1942 г.) [1: 192], обращённое в будущее, ибо в нём речь идёт о том многом, что «хочет // Быть воспетым голосом моим». Оно названо бессловесным, грохочущим, точащим во тьме подземный камень, пробивающимся сквозь дым. Налицо предельная абстрактность, неопределённость, даже таинственность этих образных характеристик.
Но в стихотворении говорится и о потребности творческой личности выяснить свои отношения с теми началами бытия, которые для неё приобретают особую значимость. Знаками, символами этих начал являются пламень, ветер, вода – опять предельно обобщённые образы, включающие стихотворение в контекст философской лирики.
Путь к достижению цели обозначен после многоточия: «Оттого-то мне мои дремоты // Вдруг такие распахнут ворота // И ведут за утренней звездой». «Дремоты» свидетельствуют о торжестве подсознательного, интуитивного начала, которое ведёт творческую личность за утренней звездой, символизирующей некую высшую цель, а она не отдаляет человека от земного мира, а приближает к нему.
А теперь определим тематику лирического цикла и соответствующим образом сгруппируем стихотворения.
Прежде всего нельзя не говорить о земном мире как источнике поэтического творчества, в связи с чем назовём стихотворения «Творчество» (1), «Мне ни к чему одические рати…» (2), «Поэт» (4), «Про стихи» (8), «Многое ещё, наверно, хочет…» (10). Стихотворения этой группы охватывают различные части цикла, как бы пронизывая его.
Особое место в цикле занимает стихотворение «Муза», в котором мифологический образ, встречающийся в лирических произведениях Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова, А. С. Пушкина, Е. А. Баратынского, Н. А. Некрасова, А. А. Фета, А. А. Блока, М. И. Цветаевой, подаётся в ироническом ключе, чем подчёркивается «земное» происхождение поэзии. Причём сама Муза ещё названа и обузой.
Следует сказать о результате творческого процесса, у которого обнаруживается свой характер. Имеется в виду «Последнее стихотворение» (6).
Особую группу составляют стихотворения, в которых творчество других поэтов подаётся в двух ракурсах – ироническом, как в «Эпиграмме» (7), и драматическом, даже трагическом, как в произведении «Я над ними склонюсь, как над чашей…» (9).
И в самом центре цикла располагается стихотворение «Читатель» (5), которое посвящено человеку, вступающему с поэтом в незримый диалог.
Почему же А. А. Ахматова озаглавила свой лирический цикл «Тайны ремесла»? На первый взгляд, такое название может показаться странным.
Прежде всего задумаемся о значении слово «ремесло». Когда мы произносим это слово, то имеем в виду специальные навыки работы по изготовлению чего-либо. Сам комплекс навыков, связанных с определённым родом деятельности, с профессией, известен, он не может быть неосознанным, иначе процесс обучения в принципе невозможен.
Как известно, творчество А. А. Ахматовой относится к такому течению в рамках поэзии Серебряного века, как акмеизм. О. Э. Мандельштам в своей программной статье «Утро акмеизма» писал: «Акмеизм – для тех, кто обуянный духом строительства, не отказывается малодушно от своей тяжести, а. радостно принимает ее, чтобы разбудить и использовать архитектурно спящие в ней силы. Зодчий говорит: я строю – значит, я прав. <…> Какой безумец согласится строить, если он не верит в реальность материала, сопротивление которого он должен победить. Булыжник под руками зодчего превращается в субстанцию, и тот не рожден строительствовать, для кого звук долота, разбивающего камень, не есть метафизическое доказательство» [3: 178]. В роли камня в поэтическом творчестве выступает слово, работа с которым, по мнению акмеистов, лишена мистического содержания и вызывает ассоциацию с деятельностью архитектора.
Но что пишет о ремесле А. А. Ахматова? Земная реальность как источник поэтического творчества, а поэзия как «выжимка» самой реальности. Для характеристики ремесла это слишком абстрактная формулировка, ибо она требует конкретного, «технологичного», выражаясь современным языком, наполнения. На самом деле ремесло остаётся для читателя цикла чем-то таинственным, может быть, смутно прозреваемым. Причём мотив тайны проходит через многие стихотворения, о чём свидетельствуют следующие цитаты: «сужается какой-то тайный круг», «таинственная плесень на стене», «а каждый читатель как тайна», «не знаю, откуда крадётся ко мне», «а вот ещё: тайное бродит вокруг», «это голос таинственной лиры».
Тайны ремесла (оксюморон!) в полной мере не раскрываются, но дверь в мир поэтического творчества приоткрывается…
ЛИТЕРАТУРА
1. Ахматова А. А. Узнают голос мой… Стихотворения. Поэмы. Проза. Образ поэта. – М., 1989.
2. Грехнёв В. А. Мир пушкинской лирики. – Н. Новгород, 1994.
3. Мандельштам О. Э. Утро акмеизма // Мандельштам О. Э. Собрание сочинений в 4 томах. Т. 1 – М., 1999. – С. 177–181.
4. Пастернак Б. Л. Собрание сочинений в двух томах. Том 1. – СПб., 2010.
5. Пушкин А. С. Собрание сочинений в трёх томах. Том 1. – М., 1985.







