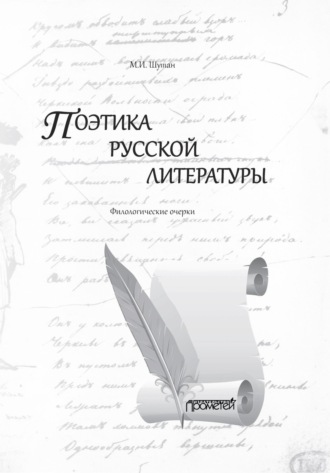
М. И. Шутан
Поэтика русской литературы. Филологические очерки
Лирическая поэзия: типологические связи на образно-тематической и жанровой основе
«Разуверение» Е. А. Баратынского и «Романс» Д. В. Давыдова. Опыт сопоставительного анализа
При типологическом подходе в центре внимания оказываются те литературные произведения, общие черты которых не обусловлены воздействием одного из них на другое.
При поверхностном сопоставлении стихотворений Е. А. Баратынского [7: 71] и Д. В. Давыдова [6: 104] «Разуверение» и «Романс» может показаться, что они очень похожи.
Так и бросается в глаза то, что первые двенадцать строк того и другого стихотворения содержат в себе отрицание, упорно фиксирующее позицию лирического героя, не желающего возвращения в прошлое. Ощущение усталости от любви передают глаголы в повелительном наклонении, употребляемые с частицей НЕ: не искушай, не множь, не заводи, не тревожь – не пробуждай, не возвращай, не повторяй, не воскрешай, не раздражай.
Нельзя не отметить и следующее: глаголы с отрицательной частицей активно употребляются в начале поэтических несомненно, способствует их интонационному и смысловому усилению.
Завершаются стихотворения синтаксическими конструкциями совсем другого типа: глагол-сказуемое, стоящий в форме повелительного наклонения, утверждает определённое психологическое действие, а не отрицает его: «Забудь бывалые мечты» – «Сорви покров долой!..»
Утверждение, сменяющее цепочку отрицаний, содержит в себе энергию вывода, итога, и в этой речевой ситуации особую значимость приобретают те фразы, которые оказываются рядом: «Я сплю, мне сладко усыпленье», «В душе моей одно волненье, // А не любовь пробудишь ты» – «Мне легче горя своеволье, // Чем ложное холоднокровье, // Чем мой обманчивый покой». Они со всей неизбежностью фиксируют то психологическое состояние, которое кажется лирическому герою единственно возможным.
Как известно, лирические тексты, построенные в жёстком соответствии с общей логической формулой, могут передавать разное жизненное содержание. Актуален ли этот тезис для нашей ситуации?
Если мы обратимся к первому элементу оппозиции «отрицание – утверждение», то неизбежно сделаем вывод о сходном психологическом содержании, обнаруживаемом в первой части каждого стихотворения: лирический герой не хочет возвращения в мучительное прошлое. Знаками несчастной любви могут быть названы такие слова и словосочетания, как больной (у Баратынского), раны живые, мука жизни (у Давыдова).
Но что утверждается в финале стихотворений?
В произведении Баратынского утверждается состояние дремоты, сна, «усыпленья». Именно в отрыве от жестокой реальности – спасение, блаженство («мне сладко усыпленье»).
Так и напрашивается ассоциация со стихотворением М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу…» [8: 85–86], написанным намного позднее, в 1841 году: уставший от жизни лирический герой жаждет сна. Причём этот сон может восприниматься как земное воплощение рая: «Я б желал навеки так заснуть, // Чтоб в груди дремали жизни силы, // Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь, // Чтоб, всю ночь, весь день мой слух лелея, // Про любовь мне сладкий голос пел…» Образ вечно зеленеющего дуба завершает эту картину. Наречия навеки и вечно характеризуют состояния человека и природы, в которых обнаруживается общее. Возвращения в привычную реальность не будет.
Однородные придаточные степени действия с дополнительным значением цели (их четыре) и передают атмосферу рая. Причём не только на лексико-семантическом уровне. Имеется в виду ритмико-интонационный рисунок последних двух катренов, как бы фиксирующий вздохи человека там, где в начале соседних поэтических строк употребляется союз чтобы, который занимает позицию анафоры и употребляется в усечённом виде, а последнее не может не влиять на его произношение: оно становится более отчётливым и даже резким.
Иначе говоря, последние два катрена – о жизни, у которой есть ритм, есть дыхание, а поэтому мы не можем утверждать, что в конце лермонтовского стихотворения восторжествовала мечта, в которой нет места для жизни. Просто речь идёт о жизни другого порядка, но никак не об энтропии.
Баратынский, пишущий о сне, очень краток, и на основе текста его стихотворения характеризовать содержание сна очень сложно, так как легко войти в сферу фантазий, предельно далёких от художественного мира элегии. Но принципиально важно то, что и Баратынский, и Лермонтов противопоставляют сон земному, посюстороннему миру, обрекающему человека с возвышенными порывами на душевные страдания. Нельзя не отметить и следующее: если в стихотворении «Выхожу один я на дорогу…» желаемый сон подаётся в экзистенциальном ракурсе и не может не восприниматься читателем как совершенно особое состояние, на котором отпечаток вечности (универсальность, будучи приметой художественного мышления Лермонтова, напоминает о себе и здесь), то в «Разуверении» обнаруживаются абстрактные знаки психологического состояния, уже ставшего реальностью (герой уже спит, что не следует воспринимать буквально, и отнюдь не жаждет пробуждения), знаки, не включающие читательское сознание в сферу возвышенного, подлинно поэтического (в философском смысле этого слова).
Масштаб разный, просто несопоставимый, что не удивляет, ведь лирический герой Баратынского не верит в любовь, а лирический герой Лермонтова хочет слышать сладкий голос, поющий о любви!
Итак, стихотворение Баратынского о разочаровании. Именно эта эмоция может быть названа темой романтической элегии.
Остановимся подробнее на имени существительном разуверение, которое стало названием произведения.
С. Г. Бочаров, рассматривая любовные элегии Е. А. Баратынского 1820–1823 гг., пишет: «Он разошёлся со счастьем, любовью, своей героиней – во времени. Нет измены, неразделённой любви, разлуки – нет вообще никаких сюжетных мотивировок, есть только ход времени, в котором «с возвратом нежности твоей» совпадает моё охлаждение. Эта ситуация несовпадения, разминовения, разобщения чувств во времени – основная в элегиях Баратынского. Это движение раз- во времени – основное сюжетное и смысловое движение. И оно приносит раз-уверение как основное лирическо-философское состояние» [2: 83].
Необходимо обратить внимание и на суффикс отвлечённых существительных – ений, образованных от глагола. Л. Я. Гинзбург отмечает следующее: в стихотворении Е. А. Баратынского 1822-го года «Поцелуй» сквозной рифмовкой связаны пять слов (воображенье, впечатленье, наслажденье, пробужденье, изнеможенье), которые обозначают некую душевную способность, состояние или процесс. «Каждое из них вполне приемлемо для замкнутого элегического словаря, но звучат они здесь иначе. Динамика пятикратной рифмы, синтаксическая и морфологическая однородность выделяют их, изолируют. Свободные от метафорических связей, от эпитетов, эти слова приобретают особую смысловую обнажённость. Привычное становится заметным, условное – реальным. Усиленное замыкающей рифмой слово изнеможенье – уже не элегический «сигнал», но точное обозначение душевного и даже физического состояния» [4: 75–76]. Отметим, что речь идёт о варианте знакомого нам суффикса отглагольных существительных.
Такие существительные входят и в художественное пространство характеризуемой нами элегии 1821-го года, на что также обращает внимание Л. Я. Гинзбург: «Я сплю, мне сладко усыпленье; // Забудь бывалые мечты: // В душе моей одно волненье, // А не любовь пробудишь ты». К этой группе относится и существительное, давшее название элегии.
Теперь вспомним о финале стихотворения Давыдова, столь необычном, непредсказуемом, невольно вызывающем ассоциацию с поэтикой эпиграммы, в которой концовка и содержит в себе смысл произведения, неожиданно раскрывшийся читателю: вдруг оказывается, что лирическому герою чуждо «ложное холоднокровье» и не нужен «обманчивый покой», ибо, по его мнению, «легче горя своеволье».
Создаётся ощущение, что лирический герой делает для себя психологическое открытие, которое может быть названо спасительным. Причём оно не претендует на универсальность, а имеет отношение только к нему самому («Мне легче горя своеволье»). Но в то же время не даёт покоя разделительный союз иль, имеющий альтернативное значение. Возникают вопросы: а уверен ли в справедливости итоговых суждений лирический герой? может быть, они отражают лишь душевное состояние, отличающееся неустойчивостью, спонтанностью? Может быть, его завораживает сама парадоксальная логика, заключающаяся в итоговой фразе, логика, красиво, даже эстетично маскирующая нечто противоположное высказанному? Тогда концовка стихотворения всего лишь словесная игра.
Важно то, что появляется цепочка вопросов, как бы противостоящая той ясности, определённости, которая кажется художественной реальностью на первом этапе осмысления финальной части стихотворения. За всем этим стоит психологическая сложность, объёмность лирической ситуации.
Как мы видим, финальные катрены стихотворений Баратынского и Давыдова существенно отличаются друг от друга.
Неизбежен разговор и о лирическом сюжете.
Гегель писал: «Вообще говоря, ситуация, в которой изображает себя поэт, не обязательно должна ограничиваться только внутренним миром как таковым – она может явиться и как конкретная, а тем самым и внешняя целостность, когда поэт показывает себя как в субъективном, так и в реальном своём бытии» [3: 501]. Обобщения Гегеля – теоретическая основа определения лирического сюжета, которое даёт В. А. Грехнёв: «Но именно там <…> где внешняя ситуация, несущая в себе неповторимый и особенный ракурс на событие или драматически насыщенное жизненное положение, сливается с внутренней ситуацией и слияние это пронизывает животворный ток лирического переживания, именно там и возникает, нам думается, явление лирического сюжета» [5: 165].
Отметим, что ситуация, определяющая лирический сюжет стихотворений Баратынского и Давыдова, может быть названа синкретической, ибо она одновременно и внешняя, и внутренняя.
В каждом из них, конечно же, на первом плане психологическое состояние лирического героя, что уже позволяет говорить о внутренней ситуации.
А что свидетельствует о ситуации внешней?
В произведениях присутствует некий субъект (объект), который воспринимается лирическим героем как сила, способная пробудить в нём прошлое, ассоциирующееся с душевными муками, страданиями. А его задача – оградить себя от прошлого. Форма обращения к кому-либо (чему-либо) автоматически переключает внутреннюю ситуацию во внешнюю.
Нежелательность искушения в стихотворении Баратынского обосновывается и нынешним состоянием лирического героя, и его возможным будущим (своеобразный мысленный эксперимент, отвечающий на вопрос: что будет, если..?).
Но само обоснование точки зрения – это реплика в диалоге, развёрнутая до объёма монологического высказывания. Причём в рамках каждого восьмистишия присутствует и непосредственное обращение к Я другого человека (глаголы в форме повелительного наклонения, предостерегающие от совершения нежелаемого действия), и характеристика собственного Я (чужды, не верю, не верую, не могу предаться раз изменившим сновиденьям, дремота, сплю, сладко усыпленье). Но обнаруживается и серьёзное отличие второго восьмистишия от первого: в его заключительную часть всё же входит глагол в форме повелительного наклонения забудь, не имеющий при себе отрицательной частицы, чего мы не видим в первом четверостишье, – и моделируется печальное будущее, которое станет реальностью в том случае, если возлюбленная не последует его советам («В душе моей одно волненье, // А не любовь пробудишь ты»). Следовательно, налицо художественная логика развития, движения вперёд.
Стихотворение Давыдова тоже представляет собой обращение. Только сразу же возникает вопрос: к кому или чему? Можно предположить, что перед нами обращение … к романсу, который способен пробудить в человеке безумства, исступления, мимолётные сновидения, муку жизни, напасти, тревоги страсти, живые раны, ибо все поэтические и музыкальные мотивы, которые он концентрирует в себе, органично согласуются с жизнью лирического героя, с его переживаниями. В этом случае обращение приобретает исключительно риторический характер и воспринимается как приём олицетворения, что нисколько не ослабляет силу его эмоционального воздействия на читателя.
Отметим, что стихотворение Давыдова имеет романсовую поэтику: слова-сигналы, характерные для этого жанра, и мелодику (четырёхстопный ямб, «размягчающийся» пиррихиями, чередование мужской и женской клаузул, кольцевая рифмовка, усиливающая интонационное напряжение, лексические повторы, анафоры способствуют её созданию) – и может восприниматься как романс о романсе с элегическим содержанием.
Психологический перелом, переданный в последней строфе, – знак движения лирического сюжета.
Итак, первое стихотворение о разочаровании, которое лирический герой даже не пытается преодолеть. Во втором произведении лирический герой из двух зол выбирает для себя более приемлемое, но ни о какой полноте его мироощущения говорить не приходится.
Пессимистическое восприятие и осознание бытия поэтами не преодолевается. Может быть, другие стихотворения поэтов о любви, лирический герой которых оказывается в драматической ситуации, дают альтернативу?
Вспоминается знаменитое «Признание» Е. А. Баратынского. В центре этой элегии, как и других элегий поэта начала двадцатых годов, «необычный психологический комплекс – уныние (этим словом названо одно из его ранних стихотворений), потеря способности желать, омертвение души» [1: 83].
Как отмечает И. Л. Альми, «ультраэмоциональный облик традиционный элегии оставался позади. На смену ему у Баратынского приходила точность словоупотребления, сопряжённая с лаконизмом и неожиданными семантическими зигзагами – смысловыми словами» [1: 84]. И далее литературовед приводит примеры таких сломов: пробуждение волненья, а не любви («Разуверение»), унылое смущенье, оставшееся от счастья («Разлука»), соединённые под брачными венцами не сердца, а жребии («Признание»). Налицо разложение привычных суммарных представлений» [1: 85].
В 1834 или 1835 г. (точная датировка отсутствует) Д. В. Давыдов написал стихотворение с уже знакомым нам названием – «Романс», представляющий собой обращение к жестокому другу: «Жестокий друг, за что мученья? // Зачем приманка милых слов? // Зачем в глазах твоих любовь, // А в сердце гнев и нетерпенье? // Но будь покойна только ты, // А я, на горе обречённый, / Я оставляю все мечты // Моей души разворожённой…» [6: 111].
Как мы видим, второй романс очень напоминает первый, а финал его можно назвать весьма традиционным (в отличие от финала другого «Романса»): «И этот край очарованья, // Где столько был судьбой гоним, // Где я любил, не быв любим, // Где я страдал, без состраданья, // Где так жестоко испытал // Неверность клятв и обещаний // И где никто не понимал // Моей души глухих рыданий!»
Может быть, в лирике раннего Д. В. Давыдова можно найти спасительную альтернативу?
Вспомним стихотворение 1817-го года «Неверной» («Неужто думаете вы…»), которое очень точно охарактеризовал С. Б. Рассадин: «… достойно ли, в самом деле, так ликовать по поводу утраты любви – или хотя бы делать вид, будто ликуешь? Достойна ли эта мстительность: уколоть, уязвить? Да, неизысканны каламбуры, особенно тот, что касается отсылки подаренной пряди; уж вовсе неблагородно знакомить счастливого соперника с письмами бывшей подруги сердца; а заверения автора, что он зато ныне с аппетитом ест и пьёт, попахивают… не цинизмом ли? Нет, для этого они слишком простодушны, но, во всяком случае, столь гастрономические утешения в горе чести никому не сделают. А вот поди ж! Стихи обаятельны. Нарушение приличий, провозглашение того, что, кажется, лучше было бы придержать при себе, дало отличный художественный результат» [9: 166–167].
Лирический герой называет себя атеистом в любви. Но не маскирует ли этот вызывающий образ сильное чувство, обманутое женщиной? Вряд ли эффектная, вызывающая поза, словесная игра – выход из создавшегося положения!
Ответ на тревожащий нас вопрос дал А. С. Пушкин в своей элегии 1824-го года «К морю», о которой в своё время так глубоко написал В. А. Грехнёв: «Тема моря, казалось бы, совершенно неожиданно всплывает в финале. И в самом деле: ведь уже произнесён окончательный приговор о «судьбе людей», и ощущение едва ли не фатального жизненного тупика нависает над пушкинской мыслью, а между тем каким упоительным дыханием свободы веет от замыкающих стихотворение строк пушкинского прощания с морем. В последний раз оживают образы вольной стихии, уже готовые перевоплотиться в неизгладимые образы памяти <…> Нет, разумеется, было бы непростительной наивностью заключить, что последние строки стирают трагический итог пушкинского разочарования. Они не столько нейтрализуют его, сколько уравновешивают картину бытия, и на стыке их с этим итогом рождается образ особой пушкинской полноты жизнеощущения, которое с равной степенью глубины и силы восприятия объемлет «и блеск, и тень» жизни» [5: 126–127].
Человек, находящийся в ситуации разочарования, пытается сохранить в своей душе то лучшее, чем одарила его жизнь. При этом чрезвычайно важно не оторваться от внешнего мира, поиск в котором явлений, близких к идеалу, спасителен для личности, не желающей замкнуться в узком пространстве собственного Я, каким бы значимым оно ни казалось.
ЛИТЕРАТУРА
1. Альми И. Л. Евгений Баратынский: Характер личностной и творческой эволюции // Альми И. Л. Внутренний строй литературного произведения. – СПб., 2009. – С. 77–107.
2. Бочаров С. Г. «Обречён борьбе верховной…» // Бочаров С. Г. О художественных мирах. – М., 1985. – С. 69–123.
3. Гегель Г. В. Ф. Эстетика. В 4 т. Т. 3. – М., 1971.
4. Гинзбург Л. Я. О лирике. – М., 1997.
5. Грехнёв В. А. Мир пушкинской лирики. – Н. Новгород, 1994.
6. Давыдов Д. В. Стихотворения. Библиотека поэта: Большая серия. – Л., 1984.
7. Евгений Абрамович Боратынский. Фёдор Иванович Тютчев. Поэзия. Проза. Публицистика. – М., 2008.
8. Лермонтов М. Ю. Собрание сочинений в четырёх томах. Том 1. – М., 1983.
9. Рассадин С. Б. Спутники. – М, 1983.
«Весенняя» лирика А. А. Фета и Н. А. Некрасова
Прежде всего следует обратиться к лирическому отступлению о весне, органично вошедшему в седьмую главу пушкинского романа «Евгений Онегин» (строфы 1–4) [4: 293–295].
Читаешь первую строфу – и кажется, что автор любуется картиной пробуждения природы, картиной, полной динамики, подлинной жизни, тем не менее главное чувство, определяющее тональность этого лирического отступления, – грусть, ибо «пора любви, вызывающая «томное волненье» в душе, напоминает автору о неумолимом движении времени: душа с течением лет увяла; кроме того, «новый шум лесов» напоминает о горьких утратах. Но близок ли фетовский взгляд на весну к пушкинскому? Как относится Фет к весне?
Отвечая на этот вопрос, прежде всего необходимо обратиться к стихотворению «Ещё весны душистой нега…» (1854 г.), в котором показано лишь преддверие времени года, воспринимающегося поэтом как символ пробуждения природы к жизни, как символ возрождения человеческой души [5: 169].
О начале весны стихотворение 1854-го года «Первый ландыш» [5: 172], в котором налицо созерцание изменений в мире природы: первый ландыш, просящий солнечных лучей, – для поэта символ «девственной неги», «душистой чистоты»; первый весенний луч, названный ярким, пленительным, таинственным («Какие в нём нисходят сны!») не что иное, как «подарок воспламеняющей весны». А далее неожиданное сравнение ландыша со вздыхающей девой, чей «робкий вздох благоухает избытком жизни молодой». Такой неожиданный ассоциативный ход от детали предметного мира к детали внешности, имеющий лёгкий эротический оттенок, подчёркивает связь двух миров, находящихся рядом (их можно назвать смежными) и подчиняющихся общим законам.
С фетовским стихотворением 1866-го года «Пришла, – и тает всё вокруг…» [5: 179], проведём следующий эксперимент: отсечём последнее четверостишье и ответим на вопрос: произошли ли существенные изменения в содержании лирического произведения?
Первые четыре катрена посвящены тем изменениям, которые происходят в мире природы и в самой человеческой душе, когда приходит весна. Вычленяем целый комплекс образов: разучившееся сжиматься сердце, названное «пленником зимних вьюг»; вздохи неба «из растворённых врат эдема»; «сквозной деревьев хоровод», пышущий зеленоватым дымом; поющий ручей, сверкающий на солнце; небесная песня, говорящая неизбежное: «Всё, что ковало, – миновало». Представляется очевидным лексико-семантическое сходство глаголов «сжиматься» и «ковать». Несомненно, эти глаголы символизируют зиму, лишающую природный мир и человека жизненной энергии, свободы. Глаголы же, используемые при характеристике весны, символизируют нечто противоположное: «заговорило», «зацвело», «пышет», «поёт». Это подлинное торжество жизни!
«И вздохи неба принесло // Из растворённых врат эдема». Упоминание о библейском рае (эдеме – первоначальном месте пребывания людей), употребление слова с неполногласием («врата»), возвышающего поэтическую речь и напоминающего о христианской культуре, способствуют мифологизации весны.
Но что вносит в содержание лирической миниатюры последний катрен? Глубокое философское содержание, ибо в нём обнаруживается резкое противопоставление «заботы мелочной», которой человеку можно лишь устыдиться, и вечной красоты, пред которой нельзя «не петь, не славить, не молиться». Нельзя, ибо любое слово об этой красоте (весна её и символизирует!) неспособно передать её возвышенный, воистину небесный характер. Без последнего катрена стихотворение было бы лишено романтического содержания, проявляющегося в антитезе прозаического и подлинно поэтического.
Почему же слово «весна» не употребляется в стихотворении? Это святое для поэта слово – и поэтому употреблять его так же, как и имя Бога, недопустимо. Конечно, в этом видна некая поэтическая условность (мифология весны может рассматриваться как художественный приём), но за ней всё же обнаруживается авторская позиция, авторское отношение к объекту лирической рефлексии.
Стихотворение А. А. Фета «Ещё майская ночь» (1857 г.) [5: 173] написано пятистопным ямбом, делающим интонацию торжественной, чуть ли не ораторской, чему способствуют и восклицательные по своей модальной характеристике предложения (их шесть), а также анафорические конструкции (употребление в начале первых двух строф предложения «Какая ночь!»). Бросается в глаза и то, что удлинение поэтической строки (в ней пять ямбических стоп) делает звучание стиха тяжеловесным.
Соответствуют ли торжественная, даже ораторская интонация и тяжеловесный ритм содержанию стихотворения? Так и напрашивается утвердительный ответ, ибо в лирической миниатюре раскрывается психологическое состояние человека, который не только стал свидетелем возвращения мая в «родной полночной край» («Из царства льдов, из царства вьюг и снега // Как свеж и чист твой вылетает май!»), но и ощутил подлинную гармонию и трепетность мира ночной природы, о чём не может не говорить возвышенно, в замедленном темпе. Описание и оценка значимого явления требуют особой речевой манеры.
Но в стихотворении, состоящем всего лишь из четырёх строф, тринадцать раз встречается пиррихий («Благо́дарю, родной полночный край!», «Как свеж и чист твой вы́летает май!», «Какая ночь! Все звёзды до́ единой…», «И в воздухе́ за песнью со́ловьиной / Разносится́ тревога и любовь», «Берёзы ждут. Их лист полупрозрачный / Застенчиво манит и тешит взор. // Они дрожат. Так деве но́вобрачной // И радосте́н и чужд её убор», «Нет, ни́когда нежней и бе́стелесней…», «Невольной – и последней, может быть»). Причём пиррихий нередко обнаруживается в словах, которые инверсированы, то есть интонационно и по смыслу выделены: «вылетает май», «разносится тревога и любовь», «и радостен и чужд её убор» (сказуемое предшествует подлежащему); «за песнью соловьиной», «лист полупрозрачный» (согласованное определение стоит после определяемого существительного).
Как известно, пиррихий даёт некоторую ритмическую свободу поэтическому произведению, в процессе выразительного чтения которого как бы появляется воздух, ослабляющий напряжение. Но этот воздух необходим и лирическому герою: ведь ему стала доступной вся полнота окружающего его бытия, немыслимая без любви, кротости, нежности, дрожи, тревоги, пробуждающая творческую энергию и всё же напоминающая о смерти («Опять к тебе иду с невольной песней, // Невольной – и последней, может быть»).
И наконец подходим к лирической миниатюре А. А. Фета «Майская ночь» (1870 г.) [5: 181]. Очевиден романтический характер этого лирического произведения о весне, проявляющийся и в антитезе земного и небесного («среда убогая», «суетная земля» где нет счастья, и «весны таинственная сила с звездами на челе»), и в развитии мотива движения. Движение «отсталых туч» по небу решительным образом переосмысляется – и поэт призывает возлюбленную улететь «воздушною дорогой» за дымом (так названы тучи) в небесную, даже космическую сферу (вспомним, как представлена последняя в стихотворении «На стоге сена ночью южной…»), воспринимаемую как романтический символ вечности.
Композиция этого стихотворения может быть рассмотрена в рамках знаменитой гегелевской триады. Кстати, этой логической формуле соответствуют многие лирические композиции.
«В системе Гегеля разум начинает диалектическое движение с некоторого исходного положения, которое философ называл тезисом. Впоследствии тезис подвергается отрицанию, превращаясь в свою противоположность – антитезис <…> Выдвижением антитезиса процесс поиска истины не заканчивается: он идёт дальше, и со временем наступает новое отрицание или отрицание отрицания. Этот третий этап в развитии мысли Гегель называл синтезом. Мысль, по представлениям Гегеля, обогатившись всем ценным, что имелось на предыдущих этапах её развития, как бы возвращается к исходному положению. Но это не простое возвращение, не замкнутый «круг», а скорее «спираль»: итог включает в себя то новое, что было достигнуто на второй стадии (антитезис), что отсутствовало в исходном пункте развития (тезис)» [2: 153–154].
Если первые шесть строк стихотворения, которые посвящены поэтическому описанию ночного неба, можно воспринимать как тезис, то следующие две строки – это антитезис, потому что в них в предельно сжатой, лаконичной форме характеризуется и оценивается унылый земной мир, в пространственных пределах которого искать счастье бессмысленно. Последняя строфа – синтез, ведь она объединяет стержневые образы предыдущих частей, внося в произведение подлинную динамику, которая в эмоциональной форме отражает романтический порыв человека, не готового смириться с убогим земным существованием. Что важно подчеркнуть, именно весна рождает этот спасительный порыв и наполняет жизнь подлинным смыслом.
В этом стихотворении весна соотнесена с такими понятиями, как любовь, счастье, красота (пусть само это слово Фет в нём и не употребляет), вечность. Иначе говоря, это время года подаётся в романтическом ключе.
Следовательно, есть основания говорить о художественно-эстетической цельности фетовских стихотворений о весне.
Если Пушкин воспринимает весну как символ неумолимого движения времени, движения, оказывающего далеко не позитивное воздействие на человеческую душу и в то же время напоминающего об исчезновении, уходе того, что было в человеческой судьбе и чем нельзя не дорожить (увы, ностальгические чувства не вызывают прилив жизненных сил, а скорее обрекают личность на апатию), то Фет склонен к предельной поэтизации, если не мифологизации, весны, которая подаётся в лирических миниатюрах поэта как романтический символ любви, красоты, вечности, ибо это время года спасает человека от унылого, прозаического существования в пространственных пределах земного мира, напоминая о возвышенном, о подлинном.
Весенняя природа показана и в лирических стихотворениях Н. А. Некрасова 1862–1863-го годов, к которым следует отнести два шедевра: «Надрывается сердце от муки…» [3: 152] и «Зелёный шум» [3: 142–143].
Композицию первого лирического произведения определяет антитеза весенней природы и социальной действительности. Прежде всего бросаются в глаза звуковые образы: «царящим звукам барабанов, цепей, топора», которыми лирический герой оглушён, подавлен, резко противопоставляются звуки весны. Для их экспрессивного обозначения автор находит точный образ: «сплошной, чудно-смешанный шум», причём шум ликующий, ни на миг не смолкающий. Гармония жизни, о которой прямо говорится ближе к концу стихотворения, складывается из сочетания, казалось бы, несочетаемого: шёпота трав, говорливо струящейся волны, весёлого ржанья жеребёнка, крика птиц, вьющихся «по холмам, по лесам, над долиной», соловьиного напева, нестройного писка галчат, жужжания ос, треска кобылок. С природными звуками гармонично сочетаются и звуки, имеющие отношение к жизни людей, но звуки, предельно далёкие от социальной действительности: белокурый ребёнок, кричащий: «Парасковья, ау!» (так и вспомнишь о тургеневских «Певцах»); «грохот тройки, скрипенье подводы».
Что же является обязательным условием гармонии жизни? Условие одно: свобода. Именно о ней, а точнее о «просторе свободы», и пишет поэт. Да и звуки отличаются разнообразием потому, что с приходом весны мир ожил, раскрепостился. Это естественная жизнь, лишённая сковывающих, энтропийных начал.
Соотнесём заключительную строфу стихотворения с первой: если первая строфа представляет собой констатацию восторжествовавшего в мире зла («Плохо верится в силу добра»), то в заключительной – встречается обращение к «матери-природе», призвание которой – заглушить «эту музыку злобы», «Чтоб душа ощутила покой // И прозревшее око могло бы // Насладиться твоей красотой». Это лишь просьба, а не психологическая реальность. Главное в стихотворении – усталость лирического героя от социального зла, которую он жаждет во что бы то ни стало преодолеть, а спасение лишь в гармонии жизни, в весенней природе, в «просторе свободы»!
Другое некрасовское стихотворение о весне, «Зелёный шум», сопоставим со стихотворением А. А. Блока «Сольвейг».
Образ «зелёного шума» заимствован поэтом из игровой песни украинских девушек, напечатанной в «Русской беседе» в первом номере за 1856-й год. Причём образная структура стихотворения восходит к прозаическому комментарию, которым сопроводил песню профессор В. А. Максимович: «…в этом зелёном шуме девчат отозвался Днепр, убирающийся в зелень своих лугов и островов, шумящий в весеннем разливе своём и дающий тогда полное приволье рыболовству. В одно весеннее утро я видел здесь, что и воды Днепра, и его песчаная белая коса за Шумиловкою, и самый воздух над ними – всё было зелено… В то утро дул порывистый горишний, т. е. верховой, ветер; набегая на прибрежные ольховые кусты, бывшие тогда в цвету; он поднимал с них целые облака зеленоватой цветочной пыли и развевал её по всему полуденному небосклону» [3: 387–388]. Графически выделены те слова и словосочетания, которые отразились в стихотворении поэта.







