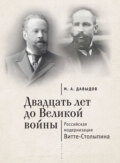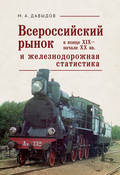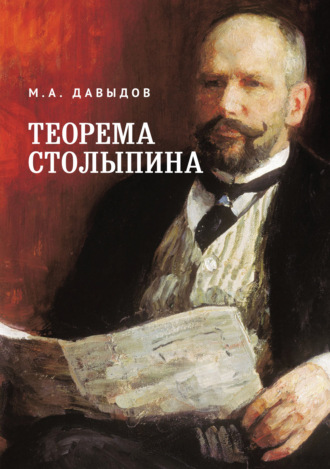
М. А. Давыдов
Теорема Столыпина
Приключения социализма в стране крепостной общины
В социализме… есть магия, которая обещает бесконечность неизвестного счастья, так как помимо самых общих рекомендаций он не предлагает никаких институтов, а лишь альтернативу всем существующим институтам – которые могут быть не только либерализмом и капитализмом, но и самодержавием и крепостничеством, в зависимости от времени и места.
Мартин Малиа
Крайне важно понимать, что в то время социализм воспринимался не так, как в наши дни.
Он еще совершенно не имел сегодняшних коннотаций, воспитанных кровавым XX веком, который прошел под его знаком. Во всяком случае, ни «Великий перелом», ни «ликвидация кулачества как класса», ни «Голодомор», ни ГУЛАГ им не подразумевались.
Не подразумевались теорией и такие социалисты как Ленин, Сталин, Троцкий, Мао и Пол Пот. Хотя в реальной жизни уже встречались Белинский и Бакунин, а чуть позже – Нечаев и Ткачев, готовые, по крайней мере на словах, к любым жертвоприношениям во имя грядущего счастья человечества.
Напомню, что социализм возник как реакция на торжество экономического и политического либерализма в Западной Европе в конце XVIII – начале XIX вв. Экономический либерализм выступает за свободную конкуренцию, за невмешательство государства в экономику, основанную на частной собственности и свободе контракта. Политический либерализм говорит о равенстве прав всех людей от рождения, от природы, не говоря уже об их равенстве перед законом.
Начавшаяся в передовых странах Запада модернизация – следствие воплощения этих идей в жизнь, продукт освобождения личности и экономики от пут и ограничений средневековья – буквально на глазах одного поколения радикально преобразила жизнь человечества.
Вместе с тем бурное развитие капитализма привело, с одной стороны, к невиданному подъему производительных сил Запада, а с другой, к громадному имущественному расслоению.
Поэтому социализм стал ответом на несправедливое, по мнению многих, распределение создаваемого обществом богатства, причем он сразу же приобрел черты системы глобальной критики и даже отрицания едва ли не всей современной цивилизации. Экономические вопросы тут – лишь часть общей проблематики. Социалисты позиционируют себя как новых христиан.
В основе социализма лежало радикальное отторжение имущественного неравенства, породившего, с одной стороны, множество негативных общественных явлений, а с другой, будто бы в корне противоречившего идее природного равенства людей, которая уже в XVIII в. стала неоспоримой аксиомой и была увековечена в 1789 г. в «Декларации прав человека и гражданина».
Дело в том, что либерализм понимает это как равенство всех перед законом. Однако социалисты считают, что истинное равенство состоит не в равенстве прав людей, а в равенстве их доходов. Соответственно, социалисты требуют имущественного уравнения – «никто не должен испытывать лишений, в то время когда другие живут в излишествах».
С некоторым упрощением ход мысли социалистов таков.
Если все люди от рождения имеют равные права, то у них должна быть возможность материализовать это равенство в реальной жизни. Но поскольку одни богаты, а другие бедны, то те, у кого нет ничего, кроме физической силы, должны эту силу продавать, чтобы богачи пользовались продуктами их работы. Данное обстоятельство делает политическое и юридическое равенство издевкой над обездоленными.
Их право принимать участие в выборах наравне с остальными классами не имеет для них значения, во-первых, потому, что голодного человека волнует еда, а не выборы, а во-вторых, потому, что реалии политической жизни – давление имущих классов и подкуп ими избирателей – делают это право чистой фикцией.
Поэтому невозможно мириться с ситуацией, при которой одновременно с растущим материальным богатством «к стыду общества зияет язва нищеты, порождающая разврат и болезни».
И здесь сразу возникает большая проблема.
Либерализм не только говорит о том, что люди равны, но и том, что они, по возможности, должны быть свободны в своих действиях, т. е. что регламентация взаимных отношений между людьми должна быть минимизирована.
Другими словами, либерализм предполагает соревнование людей с равными прирожденными правами, фактически – соревнование их способностей.
Однако жизнь показала, что свободное соревнование личностей приводит – как в спорте – к делению людей на лидеров и аутсайдеров, сильных и слабых, богатых и бедных – и, соответственно, к господству первых над вторыми.
Выяснилось также, что полная свобода не обеспечивает большей части человечества якобы обещанных ему благ. Ведь ликвидация всех средневековых стеснений отдельной личности, упразднение сословий и цехового устройства ведет к обнищанию и пролетаризации массы населения, к ужесточению экономической борьбы, с одной стороны, а с другой, – к концентрации капиталов в руках немногих.
Поэтому большинству людей соревнование способностей неинтересно, поскольку оно (большинство) его проигрывает.
И вариантов решения этой коллизии только два.
Либо человеческая психика внутренне переродится и люди избавятся от присущих им от природы недостатков и начнут относиться друг к другу в соответствии с духом Евангелия, прежде всего – перестанут притеснять друг друга. Другими словами, человечество должно переродиться. А много ли шансов на это вне рамок христианского учения, без его воздействия?
Либо люди вернутся к той самой регламентации, от которой их освободили революции XVIII века и их идеи. Другими словами, вернутся к системо-центричности, которая, на первый взгляд, куда лучше обеспечивает прожиточный минимум.
Социализм обречен вращаться в этом замкнутом круге, что он и делал последние сто лет, – впрочем, без особого успеха, вывешивая лозунги свободы на фасаде своего «царства равенства (свободы)» и устраивая ГУЛАГ внутри него.
Но во второй четверти XIX в. этого еще не знали.
Анненков приводит наиболее яркие, «ослепляющие и оглушающие» мысли тогдашних социалистов, которые волей-неволей повсюду приковывали внимание людей, поскольку ставили под сомнение незыблемые, казалось бы, представления.
Между знаменитыми тезисами «собственность – это кража» и «нам предоставлен только один вид свободного труда – грабеж»[64], помещался вполне впечатляющий ряд афоризмов:
– «Торговля и сословие купцов, ею созданное, не что иное, как паразиты в экономической жизни народов»;
– «результаты коллективного труда рабочих достаются даром патрону, который всегда оплачивает только единичный труд»;
– «способности рабочего не дают ему права на большую долю вознаграждения, будучи сами даром случая»;
– «искусство и талант суть уродливости нравственного мира, схожие с уродливостями физическими, и никакой оценки и оплаты не заслуживают»;
– «рабочий имеет такое же право на произведенную им ценность, как и заказчик ее»;
– «цивилизация Европы есть прямое порождение праздных ее сословий» – и т. д. и т. п.
Уже из этого видно, что социализм – учение, успешно легитимизирующее зависть, чувство, вообще говоря, довольно стыдное. Конечно, приведенными мыслями этот цитатник потенциальных грабителей, постепенно входивший в обиход человечества, не исчерпывался.
Если выстроенные системы социалистических взглядов, как, например, Сен-Симона и Фурье, были далеко не безупречны и заслуженно критиковались, то степень обоснованности подобных будораживших воображение идей никто не проверял: «Сила этих громоносных положений заключалась не в их логической неотразимости, не во внутренней их правде, а в том, что они возвещали какой-то новый порядок дел и как будто бросали полосы света в темную даль будущего, открывая там неизвестные, счастливые области труда и наслаждения»239.
Взгляд Анненкова уместно дополнить мнением его младшего современника Ф. М. Достоевского. Вспоминая – в контексте нечаевщины – собственный опыт приобщения к социализму, он объясняет, как воспринимался социализм в России конца 1840-х гг. и чем обеспечивалась его привлекательность:
«Что были из нас (петрашевцев – М. Д.) люди образованные – против этого… не будут спорить. Но бороться с известным циклом идей и понятий, тогда сильно укоренившихся в юном обществе, из нас, без сомнения, еще мало кто мог.
Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма. Политического социализма тогда еще не существовало в Европе».
Он вырос позже – «из нетерпения голодных людей, разжигаемых теориями будущего блаженства» и суть его «покамест состоит лишь в желании повсеместного грабежа всех собственников классами неимущими, а затем «будь что будет». Ведь, продолжает Достоевский пока неясно, что каким будет будущее, а «решено лишь только, чтоб настоящее провалилось».
Однако «тогда понималось дело еще в самом розовом и райско-нравственном свете… Зарождавшийся социализм сравнивался… с христианством и принимался лишь за поправку и улучшение последнего, сообразно веку и цивилизации.
Все эти тогдашние новые идеи нам в Петербурге ужасно нравились, казались в высшей степени святыми и нравственными и, главное, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества.
Мы еще задолго до парижской революции 48 года были охвачены обаятельным влиянием этих идей. Я уже в 46 году был посвящен во всю правду этого грядущего «обновленного мира» и во всю святость будущего коммунистического общества еще Белинским.
Все эти убеждения о безнравственности самых оснований (христианских) современного общества, о безнравственности религии, семейства; о безнравственности права собственности; все эти идеи об уничтожении национальностей во имя всеобщего братства людей, о презрении к отечеству как к тормозу во всеобщем развитии, и проч, и проч. – всё это были такие влияния, которых мы преодолеть не могли и которые захватывали, напротив, наши сердца и умы во имя какого-то великодушия.
Во всяком случае тема казалась величавою и стоявшей далеко выше уровня тогдашних господствовавших понятий – а это-то и соблазняло.
Те из нас, то есть не то что из одних петрашевцев, а вообще из всех тогда зараженных, но которые отвергли впоследствии весь этот мечтательный бред радикально, весь этот мрак и ужас, готовимый человечеству в виде обновления и воскресения его, – те из нас тогда еще не знали причин болезни своей, а потому и не могли еще с нею бороться»240.
Большой популярностью пользовалась знаменитая тогда книга Л. фон Штейна «Социализм во Франции» (1842 г.), серьезно повлиявшая не только на Маркса и Энгельса, но и на М. А. Бакунина. Он уверял, что она открыла ему «новый мир», в который он «бросился со всею пылкостью алчущего и жаждущего. Мне казалось, что я слышу возвещенье новой благодати, откровенье новой религии возвышенья, достоинства, счастья, освобожденья всего человеческого рода»241, после чего, собственно, и началась его революционная деятельность. Фон Штейн поразил и Ю. Ф. Самарина, начавшего строить на его идеях славянофильский социализм.
Социализму, привлекшему внимание к тяжелому положению трудящихся, были подвержены люди разных поколений и разного происхождения и социального положения. Да и как он мог оставить людей равнодушными, если был основан на идеях добра и сострадания. Он стал восприниматься как панацея от несправедливости и несовершенства бытия.
Но у всех свои представления о несправедливости мироздания и способах ее исправления, поэтому и существуют разные варианты социализма[65].
Вспоминая своего учителя, знаменитого историка T. Н. Грановского, Чичерин говорит, что тот сердечно сочувствовал свободе и всему тому, что могло «поднять и облагородить человеческую личность». Поэтому он приветствовал первые проявления социализма, нацеленного на уменьшение страданий людей и установление братских отношений между ними, хотя и понимал несостоятельность средств, предлагавшихся для обновления человечества. Это отношение перечеркнул июнь 1848 г., когда «социализм выступил на сцену как фанатическая пропаганда или как дышащая злобой и ненавистью масса»242.
Схожей была и эволюция отношения к социализму самого Чичерина, поначалу верившего в его «великое значение» для подъема благосостояния народа и для торжества всеобщего братства: «Как двадцатилетний юноша я, разумеется, сочувствовал крайнему направлению*, а потому для меня громовым ударом были июньские дни, когда демократическая масса, в которую я верил, вдруг выступила без всякого повода и без всякого смысла, как разнузданная толпа, готовая ниспровергнуть те самые учреждения, которые были для нее созданы».
Забегая вперед, отмечу, что пройденный Достоевским и Чичериным путь отторжения красивой социалистической идеи по плечу оказался не всем.
Социализм прочно поселился в головах множества людей, и нам нужно знать, что с этого времени социалисты разных категорий были во всех лагерях, включая правительственный.
То есть, условно говоря, не все образованные люди в России были ярко-красными, но оттенков красно-розового и просто розового хватало. Поэтому идейный фон эпохи, предшествовавшей освобождению крестьян, и последующая идейная эволюция русского общества останутся неясным без учета его социалистической «грунтовки» 1840-1850-х гг.
Славянофилы разделяли многие идеи западных социалистов, в том числе и возражения против «святости закона и частной собственности».
В центре построений славянофилов, как известно, стоит община.
Безусловно, прав экономист В. В. Святловский, связывая в этом плане родословную славянофильства через чешских и польских ученых-славистов Добровского, Копитара, Суровецкого, Мацеевского, Шафарика и Лелевеля с И. Г. Гердером, которого иногда называют отцом-основателем славистики.
А всякий, кто подходит к социализму с меркой строгого научного анализа, объявляется носителем зла, негодяем, наемным слугой корыстных классовых интересов, угрожающих благосостоянию общества, и полным невеждой». (Мизес Людвиг фон. Социализм. Экономический и социологический анализ. М.: «Catallaxy». 1994. С. 19.) Фон Мизес характеризует ситуацию XX в., но она, безусловно, существовала уже в веке XIX.
* Узнав «однажды ночью» от однокашника по университету, что во Франции началась революция, Чичерин, по собственному признанию, «пришел в неистовый восторг, влез на стол, драпировался в простыню и начал кричать: «Vivi la Republique!». (Чичерин Б. Н. Воспоминания… Т. 1. С. 87.)
Святловский особенно выделяет роль и значение основоположника романтической школы в польской историографии Иоахима Лелевеля, который в ряде работ доказывал, что быт древних славян отличался от быта других народов тем, что был основан на общинности. Она была характерна исключительно для славянского мира, который тем самым был противоположен остальной Европе, построенной на индивидуализме. По Лелевелю, древние славяне были демократическим народом, который управлялся народным собранием («вече»).
Вплоть до принятия христианства славянский мир стоял на «общинном землевладении, мирном захвате земли, исключительном предпочтении мирных занятий, любви к свободе и презрению к рабству»243. По мере распространения христианства славяне постепенно теряют эти особенности, и в первую очередь это коснулось русских (славян), у которых древнее самоуправление было подавлено заимствованным из Византии самодержавием. Поляки держались дольше всех, и Польское государство реализовало «древнеславянский общий идеал во всем блеске и величии», поскольку в нем было народоправство «на началах равенства, свободы и братства». Однако это противоречило таким устоям западной цивилизации, как римское право, католицизм, феодализм, которые подавили общинный строй. Когда Польская республика переступила через свои идеалы и лишила народ его суверенных прав, она прекратила свое существование.
Идеи Лелевеля подхватил и развил Вацлав Мацеевский, а затем великий польский поэт Адам Мицкевич, сделавший их достоянием Европы. Он был первым профессором славянской словесности в Коллеж де Франс, и его лекции по истории славянских литератур, в которых он популяризировал теорию общинного быта Лелевеля, имели огромный успех.
Святловский пишет: «Лекции Мицкевича привлекали толпы слушателей и служили громкою злобою дня в обществе и печати. Так в начале 40-х годов из стен „College de France» возвещено было Европе „открытие» неведомого раньше славянского мира. В нем многие, заслушавшись восторженной речи славянского патриота, увидели воплощение тех идеалов общежития, к которым тщетно и мучительно стремилась цивилизация в течение тысячелетий. Это был тот же самообман, которому поддался в свое время Руссо, видевший в Польше частичное воплощение своих идеалов»244.
В историографии вопрос о приоритете «открытия общины» до сих пор остается предметом дискуссии, однако для нашего изложения этот сюжет не слишком важен245.
Разумеется, славянофилов построения поляков не устраивали, и, создавая свое учение, они высшие характеристики славянского духа и гармоничное устройство быта древних славян отнесли к России.
И – важнейший момент! – они обогатили идею русского мессианства своим вариантом общинного православного социализма, который может решить проблемы Запада, а заодно исключит революционные потрясения в России.
Анненков писал: «Кому не известно, что, собственно, русский социализм или то, что можно назвать народными экономическими представлениями, заключался в очень ясных и узких границах, состоя из учения об общинном и артельном началах, то есть из учения о владении и пользовании сообща орудиями производств.
В этом скромном, ограниченном виде, данном всей нашей историей, русский социализм и был поставлен впервые на вид славянофилами, с прибавкой, однако ж, что он может служить не только образцом экономического устройства для всякой сельской и ремесленной промышленности, но и примером сочетания христианской идеи с потребностями внешнего, материального существования», «всесветным экономическим принципом, который мог бы быть годен для всякого хозяйства»246.
Как понимать эти слова?
Думается, так.
Да, «гниющий Запад» сам пришел к тому, что необходимо создать новый мир, новую, справедливую жизнь, которую европейцы связывают с социализмом и коммунизмом. Однако построить такой мир они могут только с помощью России, в которой сохранились главные органические начала – община, где смиряются амбиции личности, и – православие, высшая религиозная форма, в которой сочетаются идеи социализма и коммунизма. И это есть всемирный, «всесветный экономический принцип».
Христианство, по мнению славянофилов, далеко не исчерпало своих возможностей и прежде всего в сфере социальной. Современность требует создания общества, основанного на действительно христианских, евангельских началах. Тогда нравственные обязанности индивида, устанавливаемые христианством, будут переведены в юридические нормы.
В частности, Ю. Ф. Самарин отмечал: «Христианская религия проповедует богатому уделять от своего имущества бедному. Новое общество поймет, что так и должно быть… То, что составляет обязанность богатого, есть право бедного. Всякий человек должен иметь собственность: это его право. Следовательно, собственность должна быть общею. И много других вопросов социальных разрешится тем же образом»247.
Здесь нужно вспомнить, какое огромное значение придавали социалисты коллективизму, созданию объединений людей в борьбе с миром капитала.
H. X. Бунге писал, что из самого термина «социализм» следует, что он – в противоположность индивидуализму – ставит своей задачей создание сообществ, союзов, ассоциаций людей, разобщенных в борьбе за существование.
Основа современного общества, по социалистам, заключается в положении «chacun pour soi et Dieu pour personne» (каждый за себя и Бог за всех), которое провозглашает беззащитность слабого и отсутствие всякого содействия и помощи со стороны других лиц, вследствие индивидуалистического строя общества.
Для того, чтобы вывести человека из состояния беспомощности, нужна ассоциация – общение людей в производстве, во владении и пользовании имуществом, а также и в потреблении»248.
Община и была идеальной ассоциацией такого рода, одухотворенной при этом православием. Будучи «основой, грунтом всей русской истории «(Ю. Ф. Самарин), она была создана естественно, а не искусственно, и изначально строилась на примирении интересов, а не на борьбе. И Россия должна воспользоваться этим проявлением «народного духа», пронесенным через века, для дальнейшего развития страны.
Переделами земли община предупреждает пролетаризацию, обезземеливание крестьянства, а значит, и антагонизм между собственниками земли и теми, кто ее лишился. Поскольку крестьянин-общинник одновременно и производитель, и «предприниматель», т. е. владелец того, что он произвел, то в общине производитель не становится жертвой интересов производства, как это ежедневно происходит при капитализме.
Поэтому славянофилы надеялись, что сохранение и развитие общинного устройства позволит России избежать революции.
По мнению Хомякова, община препятствует, с одной стороны, возникновению противоречия между трудом и капиталом и пауперизацию населения, которую можно наблюдать в пока преуспевающей Англии («В ней страшные страдания и революция впереди»).
А с другой, она тормозит дробление земельной собственности и «разъединенность» социума, которые существуют во Франции («Разъединенность же есть полное оскудение нравственных начал; а… оскудение нравственных начал есть в то же время и оскудение сил умственных»).
Отсюда вывод: «Итак, община столько же выше английской фермы, которой бедствия она устраняет, сколько и французской, которая, избегая бобыльства физического, вводит бобыльство духовное и дает городам такой огромный и гибельный перевес над селом».
От крестьянской, земледельческой общины возможен прямой переход к общине промышленной. Артель – осуществление общинного принципа, перенесенного из земледелия в промышленность, где она имеет аналогичное значение – осуществление народного духа, нравственного закона справедливости, стремление к равенству.
Община для славянофилов в конечном счете превращалась в «нравственный союз людей», «братство», «торжество духа человеческого». Отсюда вытекало отождествление понятий «община и земля», – вся русская земля есть большая община249. Идея оказалась живучей – о том же полвека спустя с пафосом будут заявлять эсеры во главе с Виктором Черновым.
Учение об общине – апофеоз системоцентричности.