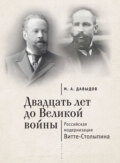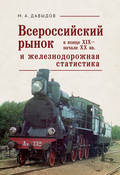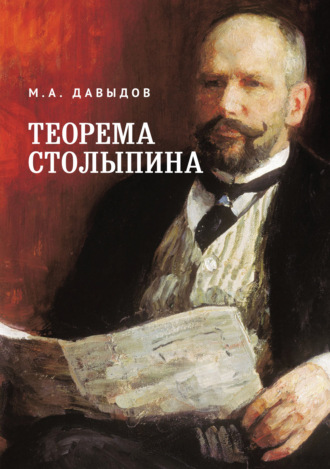
М. А. Давыдов
Теорема Столыпина
Однако в этом случае вряд ли можно было бы думать об освобождении крепостных с землей. Поэтому лучше, что «наших тамбовских Роганов и калужских Ноальи» миновал рыцарский закал и что они только оделись в рыцарские доспехи, подобно дикарям, которые на Маркизских островах приходили на корабль к Дюмон-Дюрвилю «в европейских мундирах с эполетами, но без штанов»191.
Один этот фрагмент позволяет судить об уровне Герцена-политика (и не только), но это сейчас неважно.
Дело не в том, что и в странах с сильными правовыми традициями крестьян освобождали с землей (Пруссия, Австрия, Венгрия и др.) и что не было в Европе единственного варианта наделения крестьян землей, о чем к 1859 г. он не мог не знать.
Существенно иное – он просто не задумывается о весьма вероятной возможности сохранения беззакония в России и после эмансипации, основанной на нарушении закона. Или же он думает, что правовой нигилизм исчезнет сам собой с ликвидацией крепостного права? Но это уж как-то чересчур примитивно!
Его социализм похож на финал волшебной сказки – мы не знаем, что будет потом, будут ли ее герои действительно «жить-поживать, да добро наживать».
В целом складывается впечатление, что он довольно слабо понимает, о чем пишет. Сомневаться в том, что элементарные понятия у него «спутаны» не хуже, чем у «помещика-людосека», не приходится. Если он искренен, конечно.
Развивая мысль о том, что в отсутствии уважения к правопорядку как со стороны народа, так и со стороны правительства есть позитивные моменты, он, совсем по В. Б. Шкловскому, тут же проговаривается: «На первый взгляд совершенно ясно, что уважение к закону и его формам ограничило бы произвол, остановило бы всеобщий грабеж, утерло бы много слез и тысячи вздохнули бы свободнее… но представьте себе то великое и то тупое уважение, которое англичане имеют к своей законности, обращенное на наш свод.
Представьте, что чиновники не берут больше взяток и исполняют буквально законы, представьте, что народ верит, что это в самом деле законы, – из России надо было бы бежать без оглядки»192.
Это пишет Герцен, бежавший из России ровно из-за невозможности жить в беззаконии? Правда, неплохо устроивший при этом свои материальные дела.
Жизнь полна якобы «странных сближений». Через 22 года, в 1881 г., И. С. Аксаков заметит: «Нас обыкновенно упрекают в недостатке чувства легальности, но если бы можно было себе представить такую губернию, в которой бы строго-настрого, безукоризненно честно стали бы применяться все тысячи статей всех 15-ти томов Свода законов, то, конечно, от такого навождения легальности – все население бежало бы вон, куда-нибудь в Азию, в безлюдную, безчиновную степь.
Нас спасает именно то, что вся эта казенщина претит нашей русской природе; что трудно даже найти между штатскими чиновника, который бы имел культ своего мундира, верил благоговейно в букву закона и в формальную правду; обыкновенно так: мундир нараспашку, а из-под мундира халат!
Все это, конечно, безобразно, исполнено внутреннего противоречия, но казенное благообразие было бы едва ли не хуже. Это уже благообразие смерти»193.
Конечно, весьма забавно наблюдать у двух выдающихся представителей интеллектуальной элиты страны тождественный импульс – бежать из России, в которой начнут исполняться законы, которая, не дай Бог, станет превращаться в правовое государство!
Замечу также, что обоим властителям дум даже в голову не приходит попытаться найти ту грань в исполнении законов, которая могла бы предотвратить их бегство. Воистину, по Чичерину, каждое понятие у нас предстает в виде безусловном, как будто необъятные просторы отечества отпечатались у нас в мозгах194.
Перед нами яркий пример «маятникового мышления» русского образованного класса – либо «всеобщее беззаконие», либо «великое и тупое уважение» к закону. Середины, как водится, нет.
Получается, что произвол и всеобщий грабеж, слезы и несвободное дыхание тысяч людей (а мы-то знаем, что миллионов!) лучше стремления к тотальному соблюдению правопорядка. Мысль о том, что России, возможно, не помешала хотя бы условная треть такого уважения к закону, какое было в Англии, автором не обсуждается. И таков был стиль мышления многих его современников. По этому именно поводу Чичерин в 1862 г. напишет свою бессмертную статью «Мера и границы»195.
Правовое государство им не только не нужно, они даже не понимают его необходимости. Думается, во многом это неизбежное следствие воспитания целого народа в стилистике, условно говоря, «Рота, становись! Равняйсь! Смирн-а! Налеву, шагом марш!».
Герцен все время говорит о правах личности после установления социализма, однако во всех его рекламных проспектах будущей жизни мы не найдем ни слова о том, как будет устроен этот «новый дивный мир» с юридической точки зрения, как будут обеспечены там права людей, которые он намерен примирить с общинным диктатом над личностью.
В новой жизни, которую он планирует для России, правовое государство не просматривается. Видимо, этот мир будет так прекрасен сам по себе, что уж как-нибудь все устроится-утрясется.
Но нам-то понятно, что их идеальные миры – и славянофильский, и герценовский – будут слепком с Российской империи первой половины XIX в., т. е. азиатством в псевдосоциалистической обертке.
Мысль о том, что без закона один произвол легко может превратиться в другой, и третий, и пятидесятый – им была недоступна, как и законы усложнения жизни, которые хотя бы в теории понимал Чернышевский (потому что и его социализм, как мы увидим, намерен жить вне закона).
Здесь уместно вспомнить известную мысль К. С. Аксакова о том, что «помещичья власть – в некоторой части имений барщинских и в имениях чисто-оброчных вообще – служила для крестьянина как бы стеклянным колпаком, избавляющим их от государственной регламентации, от наружного административного благоустройства.
Под защитою этих стеклянных колпаков жила жизнь нашего народа во всей самобытности своих начал, при отсутствии той чуждой нашему духу определенности, которая равняется ограниченности и уродует живое, извнутри образующее себя, начало»196.
Словом, прав был поэт-юморист Б. Алмазов, характеризуя правовые взгляды славянофилов (и не только) таким восьмистишием:
По причинам органическим
Мы совсем не снабжены
Здравым смыслом юридическим
Сим исчадьем сатаны.
Широки натуры русские,
Нашей правды идеал
Не влезает в формы узкие
Юридических начал.
За этими шутливыми строками – огромная тема.
Ведь натуры действительно широки, кто будет спорить?
И во множестве пунктов, позиций, пластов жизни это громадный плюс.
Мысль о стеклянном колпаке дискуссионная, но слова красивые, как и многие слова Аксакова.
Это, разумеется, тоже о широте натуры.
Только здесь – это оправдание «батыевщины».
Потому что в других ситуациях широта натуры оборачивается своей противоположностью.
Закон эту широту в рамки не ставил – а только «батыевщина», позволяющая барину, который, по словам Сперанского, был рабом царя, чувствовать себя царем в отношении своих рабов-крестьян или солдат[55].
Таким образом, перед нами законченная и твердо выверенная – насколько это возможно – концепция правового нигилизма. Многие образованные люди страны не желают жить в правовом государстве – они, выросшие в другом мире, не понимают, что это такое и зачем нужно.
Тут огромная психологическая проблема, нерешенная доселе.
От славянофилов и Герцена идет непрерывная традиция пренебрежительного отношения большой части русского общества к зафиксированным в законе правам человека, к политической борьбе и конституционализму.
Характерно замечание Герцена (1853) о том, что уже в начале 1830-х гг. под влиянием Июльской революции 1830 г. и восстания в Польше «в России потеряли веру в политику; там стали подозревать бесплодие либерализма и бессилие конституционализма»197. Не исключено, однако, что он задним числом приписывает русским людям чрезмерную прозорливость – ведь на этих идеях в большой мере строилась уже пропаганда тогдашнего социализма, твердившего о мнимом правовом равенстве людей при капитализме и иллюзорном избирательном праве.
Конечно, немного удивительно, что люди, жившие в России в 1820-х гг., т. е. не очень сведущие в свободной жизни, воспринимают либерализм и борьбу за конституцию как нечто несущественное и беспомощное. А с другой, оно и понятно – волевые командирские методы решения главных проблем для них были куда как привычнее. После 1861 г. такое высокомерно-презрительное отношение станет банальностью и для правых, и для левых народников, и для множества интеллигентов Серебряного века.
Вместе с тем сказанное не нужно воспринимать упрощенно.
Далеко не все русские дворяне обкрадывали казну и мыслили в категориях правового нигилизма. Многим из них хотелось походить на афинян, спартанцев и римлян, а не на персонажей Гоголя или собственных предков[56]. Для героев «Оппозиции Его Величества» казенные деньги были дороже собственных.
Уже тогда были такие люди, как Воронцов и Киселев – и не только они, понимавшие, что равнодушное отношение к праву и правопорядку является системной угрозой для будущего страны.
Как ни оценивать правление Николая I, надо понимать, что он много сделал для развития закона и законности. Кроме того, это при нем уже подрастали и взрослели не только будущие неподкупные юристы 1860-х гг., но и такие личности как Чичерин.
Проблема была в том, что великую державу во второй половине XIX в. на пренебрежительном отношении к праву было не построить. Непонимание этого элитами обошлось России по самой дорогой цене.
Как зарождалось новое общественное настроение
Откройте хоть 12 000 новых кислот; направьте аэростаты машиной электрической изобретите средство убить 60 000 человек в одну секунду: несмотря на все это нравственный мир Европы будет все-таки тем, что он уже есть: умирающим, если не совсем мертвым. С высоты своей уединенной обсерватории, летая по темным пространствам и туманным волнам будущего и прошедшего, философ, обязанный ударять в часы современной истории и доносить о переменах, совершающихся в жизни народов, – все принужден повторять свой зловещий крик: «Европа умирает!».
Виктор-Эфемион-Филарет Шаль
И таких неучей демократия выносит на первое место в государстве; как после этого не согласиться с теми, которые думают, что большинство голосов бывает всегда на стороне глупости по самой простой причине, потому, что на свете больше дураков, нежели умных»
В. Ф. Одоевский о президенте США Джексоне
Завидую внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию в 1940 г., стоящею во главе образованного мира, дающего законы в науке и искусстве, и принимающею благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества.
В. Г. Белинский
Нам стыдно было бы не перегнать Запада. Англичане, французы, немцы не имеют ничего хорошего за собою.
А. С. Хомяков
Сама по себе идеологема «особого пути» – вещь не оригинальная… Порой это не лишено комизма. В странах Латинской Америки одно время пользовались популярностью клише, звучащие для нашего уха забавно и узнаваемо: «аргентинская державность», «особая чилийская всечеловечность», «перуанский народ-богоносец».
А. В. Оболонский
Следующая глава немного похожа на отрывок из «Хрестоматии по истории общественной мысли».
Это и понятно – мы должны коснуться таких глобальных сюжетов, как «Россия и Запад», появления русского мессианизма, русского социализма, которым пересказ идей противопоказан и где без длинных цитат не обойтись[57].
После победы над Наполеоном русское общество дозрело до получения ответов на вопросы: «Кто мы?», «Зачем мы?», «Куда мы идем и для чего?».
П. Н. Сакулин точно заметил, что «вся николаевская эпоха в своем внутреннем содержании представляет один непрерывный процесс национального и общественного самоопределения»198.
Но такое самоопределение могло произойти только в соотнесении с Европой и опиралось оно на исключительное положение, обретенное Российской империей в 1812–1815 гг.
Идея уникальности и могущества России, что называется, разлитая в воздухе, во всей атмосфере постнаполеоновской эпохи, была прямым следствием потрясающего взлета национального самосознания в 1812–1814 гг., потребовавшего переосмысления роли и места России в окружающем мире.
Этот патриотический подъем, эта национальная гордость сообщили иное качество привычному русским людям (не только дворянам) чувству непобедимости России, ставшему уже в XVIII в. неотъемлемым компонентом их мироощущения.
Оборотной стороной этого мироощущения было нарастающее отторжение Запада, иногда дифференцируемого, но чаще выступающего в коллективной ипостаси как нечто однородно-враждебное. Антиевропеизм во многом вырастал из чувства превосходства над европейцами и осознания того, что именно Россия, вспоминая Пушкина, своей кровью искупила «Европы вольность, честь и мир».
Конечно, сказанное не нужно понимать буквально – в источниках есть немало и восторженных строк об успехах европейской цивилизации. Однако в мейнстриме со временем оказывается именно глубокая антипатия и критика, временами перерастающая в ту самую ненависть, без которой не бывает определенного вида любви.
Для характеристики настроений эпохи в высшей степени характерны мысли Д. В. Давыдова (1818) из письма князю П. А. Вяземскому: «Ты мне пишешь о сейме[58]… Народ конституциональный есть человек отставной в шлафоре, на огороде, за жирным обедом, на мягкой постели в спорах бостона.
Народ под деспотизмом: воин в латах и с обнаженным мечом, живущий за счет того, кто приготовил и огород, и обед, и постель; он войдет в горницу бостонистов, задует свечи и заберет в карман спорные деньги.
Это жребий России, сего огромного и неустрашимого бойца, который в шлафоре и заврется, и разжиреет, и обрюзгнет, а в доспехах умрет молодцом.
Поздравляю тебя и княгиню с сыном.
Дай Бог вам видеть его не на сейме, а с миллионом русских штыков, чертившего шпагою границу России, с одной стороны, от Гибралтара до Северного мыса; а с другой, – от Гибралтара же чрез мыс Доброй Надежды до Камчатки»199.
Не всегда поэты так ярко мыслят прозой.
Конечно, в каждой шутке есть доля шутки. Однако Денис Давыдов – весьма тонкий камертон настроений русского дворянства. Поэтому и высказанный с такой интонацией масштаб претензий к карте мира – вся Евразия с Африкой в придачу – не только весьма впечатляет, но и проясняет многое в изучаемой теме.
Например, происхождение армейской поговорки николаевской поры – «Не ваше дело, господа прапорщики, Европу делить. Смотрите-ка получше за своими взводами». Понятнее становится и восприятие дворянством определенных характеристик «деспотизма».
Опуская «шинельные» стихи Жуковского и Пушкина, вспомним, что через 20 лет историк М. П. Погодин, называвший Пруссию «нашими пятидесятыми губерниями»200, напишет: «Россия! Что за это чудное явление на позорище мира!
Россия – пространство в 10 тысяч верст длиною, по прямой линии от средней почти реки европейской чрез всю Азию и Восточный океан до дальних стран Американских! Пространство в 5 тыс в шириной, от Персии… до края обитаемой земли, – до северного полюса.
Какое государство равняется с нею? С ее половиною? Сколько государств равняются ее 20-м, 50-м долям?
Россия – поселение из 60 млн. чел… А если мы прибавим к этому количеству еще 30 миллионов своих братьев, родных и двоюродных, славян, рассыпанных по всей Европе…
Мысль останавливается, дух захватывает! – Девятая часть всей обитаемой земли, и чуть ли не девятая всего народонаселения.
Пол-экватора, четверть меридиана!
…Спрашиваю, может ли кто состязаться с нами, и кого не принудим мы к послушанию? В наших ли руках политическая судьба Европы и следственно судьба мира, если только мы захотим решить ее?
В истине слов моих можно удостовериться еще более, представивши себе состояние прочих европейских государств…
Сравним теперь силы Европы с силами России… и спросим, что есть невозможного для русского государя?
Одно слово – (и) целая Империя не существует, одно слово – стерта с лица земли другая; слово – и вместо их возникает третья – от Восточного океана до моря Адриатического.
Сто лишних тысяч войск – и Кавказ очищен (это он в 1839 г. пишет! – М. Д.)…
Сто тысяч войска – и проложены военные дороги до пограничных городов Индии, Бухары, Персии…
Пусть выдумают русскому государю какую угодно задачу, хотя подобную тем, кои предлагаются в волшебных сказках! Мне кажется – нельзя изобрести никакой, которая была бы для него, с русским народом, трудна»201.
Непосредственность Погодина у современников вошла в поговорку – «что другой только подумает, – Погодин скажет», и можно не сомневаться, что подобные мысли в то время были распространены достаточно широко. А вот датируемое 1848 г. известное стихотворение Тютчева «русская география»:
Москва, и град Петров, и Константинов град —
Вот царства русского заветные столицы…
Но где предел ему? и где его границы —
На север, на восток, на юг и на закат?
Грядущим временам их судьбы обличат…
Семь внутренних морей и семь великих рек…
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная…
Вот царство русское… и не прейдет вовек,
Как то провидел Дух и Даниил предрек.
Поэтому удивительно не появление во второй четверти XIX в. русского мессианизма. Наоборот, было бы странно, если бы он не возник, – на фоне такого-то мироощущения и мировосприятия.
Рост антизападных настроений – продукт действия многих факторов, которые давно и подробно расписаны в литературе, посвященной зарождению славянофильства.
Его принято трактовать как русский вариант общеевропейского процесса отторжения либерализма и капитализма, направленного против индивидуализма и рационализма западной цивилизации. Историография, встраивая славянофилов в контекст эпохи, справедливо связывает их, в частности, с романтизмом, отвергавшим рационалистическое Просвещение, и влиянием немецкой философии. Однако абсолютно те же факторы, в сущности, формировали умонастроения и других мыслящих русских людей.
Напомню лишь, что эпоха после падения Наполеона и Венского конгресса 1815 г. вообще стала временем активного пробуждения национального самосознания у народов Европы.
Комментируя этот процесс, Чичерин писал: «Каждый народ воображал себя первенствующим деятелем в истории человечества. Французы смотрели на себя, как на великую, передовую нацию, призванную обновить человечество, посеять в нем начала свободы и права. Немцы украшали своих предков всеми добродетелями и признавали себя главными представителями всех начал нового мира; христианский период истории именовался германским.
И мы, в свою очередь, не отставали от других. И у нас возникла патриотическая школа, которая считала Россию представителем будущего, призванным сменить гниющий Запад на историческом поприще и обновить весь мир»202.
Однако так думали, конечно, не только славянофилы, которых имеет в виду Чичерин, но и другие современники.
Весьма энергично и точно обрисовал тот нерв, те настроения, которые двигали значительной частью русского общества, в том числе и славянофилами, в неприятии Запада, Анненков: «Люди озлобились против вековечного, нескончаемого учения, на которое присуждались этой (западной) литературой, и против послушничества, неизбежно с ним сопряженного.
Носить одно прозвание ученика европейской жизни и цивилизации всю жизнь, на бессрочное и неопределенное время, сделалось уже невмоготу русскому образованному миру. Неодолимая жажда повышения, выхода в иное, более высшее и почетное звание, на каких бы то ни было основаниях и резонах, почувствовалась всем обществом сразу.
Движение имело, как всякое социальное движение, свою законную причину и свою долю необходимости. Оно было вызвано отчасти надменностью, нестерпимым самохвальством ближайших наших учителей из немецкой братии, которая и не скрывала своего презрения к обществу, опекаемому им на всех пунктах.
Сюда присоединилось еще и влияние кровной ненависти Европы к государству, которое никогда не жило с ней общей жизнью, вошло, как проходимец, в ее состав, помимо ее воли и гаданий, и располагает остаться на своем месте, не слушая ругательств и проклятий»203.
Эта энергия раздражения против Запада, которая фиксируется уже в XVIII в., была понятным и закономерным явлением.
В. П. Аксенов, погрузившийся в русскую литературу XVIII в., чтобы преподавать ее своим американским студентам, был поражен тем, что «романы, написанные холеными и высоко образованными людьми в напудренных париках и серебряных камзолах, эдакими русскими маркизами на высоких красных каблуках по последней парижской моде, несли в себе совершенно отчетливую, если не воинствующую антизападную идеологию», имея в виду, например, А. П. Сумарокова, и М. М. Хераскова.
Так, действие утопических романов «Новейшее путешествие» Левшина и «Сон Кидалов» Чулкова протекает почему-то на Луне, однако в обоих произведениях высмеивается интерес русских людей к западной науке (то есть, уточняет Аксенов, знаменитое советское «низкопоклонство перед Западом»), которую авторы считают антитезой православию204.
«Сильнейшая антизападная сатира была выражена в романе другого князя, Щербатова, – «Путешествие в землю Офирскую». Здесь в аллегорической форме бросается обвинение главному «западнику» Петру I, который выступил против «природы вещей» и разрушил «древнюю добродетель, созданную величайшими людьми истории».
С тех пор так и пошло в российской утопическо-сатирической литературе, то есть в сфере дворянских фантазмов. Если уж изображались западные страны, то назывались «Игноранцией» или «Скотинией», если же речь шла о славянской земле, то именовалась «Светонией». Антизападничество входило в контекст актуальной идеологии определенной и очень влиятельной аристократической среды»205.
Конечно, не все так однозначно было в российской интеллектуальной элите конца XVIII – начала XIX вв., однако совершенно понятно, что 1812 год никак не добавил русским людям симпатии к Западу. Не пользовалась поддержкой дворянства и внешняя политика Александра I в эпоху Конгрессов, в которой видели забвение национальных интересов в угоду Англии и Австрии, как, например, во время Греческого восстания 1821 г.
М. О. Гершензон отмечал, что в свое время римляне, учившиеся у греков, не забывали их одновременно порицать. Так же в средние века поступали англичане и французы по отношению к своим учителям-итальянцам, а немцы критиковали своих учителей-французов. Точно так же русские люди «протестовали против западного просвещения тем сильнее, чем более приходилось проникаться им»206.
Ученичество плохо сочеталось с мироощущением русского общества после 1815 г.
Реставрация Бурбонов не сделала Европу счастливой и спокойной. Там продолжалась бурная модернизация со всеми своими достоинства и изъянами, с неизбежной пролетаризацией части населения, его борьбой за свои права и явлением социализма. Революции и революционеры никуда не исчезли.
Все это кипение жизни обходило Россию стороной, однако русские люди привыкли смотреть на Запад и необходимо должны были осмысливать происходящее там.
Критика европейских экономических порядков, которые еще не осознаются как капиталистические, но по факту являются таковыми, начинается у нас до прихода социализма.
С одной стороны, она часто сопрягалась с апологией крепостничества, а шире – с апологией российского статус-кво – по контрасту, от противного.
С другой стороны, она быстро стала самоценной – капитализм отвергался как вариант развития, уже апробированный человечеством, и вариант заведомо порочный, аморальный и т. д.
Что касается первого аспекта, то мы помним, что еще в XVIII в. русские дворяне, защищая крепостничество, доказывали, что в Европе народ при всех вольностях живет намного хуже, чем наши крепостные[59]. Что, как им казалось, вполне оправдывал факт личной несвободы крестьян (и кого угодно вообще).
Однако после 1815 г. эта идея неожиданно перешла из разряда теоремы в статус аксиомы.
Капитализм воспринимался как продукт эгоизма разобщенных личностей, которым революции дали слишком много прав. Считалось, что этот строй разорил крестьянство, породив миллионы нищих пролетариев, ставших горючим материалом для социальных потрясений. И это то, чего Россия должна избежать. Показательно, что среди обличителей мира наживы был, например, министр финансов Е. Ф. Канкрин, который, по тонкому замечанию М. И. Туган-Барановского, делал это «языком Сисмонди или народников нашего времени»207. Критика Канкрина выглядит особенно пикантно на фоне упоминавшихся выше военных экзекуций по выколачиванию недоимок из российских крестьян.
Резкое ухудшение положения простого народа на Западе – одна из главных тем русской публицистики. Общим местом стало сопоставление «ложных вольностей» Запада, породивших, как думали в России, неразрешимые социальные противоречия, с нашей якобы пасторальной патриархальностью, сравнение жизни западного пролетария и русского крепостного, который неизменно оказывался в более завидном положении.
Аргументы брались из европейской же литературы, у того же Сисмонди и ранних социалистов – прием, обычный для русских журналистов еще в XVIII в.
Но в сознании русских людей, весьма поверхностно знакомых с европейскими коллизиями, «ужасы» и «бедствия» Запада часто преувеличивались и от того приобретали гомерический, неадекватный масштаб.
Так, в 1817 г. в «Духе Журналов» говорилось, что в Англии народ «называется вольным и имеет право дышать и говорить беспошлинно», однако нигде нет большего числа нищих и нигде народ не отягощен в такой степени налогами, как в этом «просвещенном государстве».
В тексте английские крестьяне уподобляются «вольному зайцу» в лесу, о котором никто не заботится, а русский крестьянин – «домашней лошади, которая хоть на привязи стоит и на нас работает, но зато хозяин о ней печется, кормит, поит, чистит и холит ее: она и тогда сыта бывает, когда поле покрыто снегом».
Столь же жалким оказывается положение крестьян в Германии, для которых «доля русского крепостного» – недостижимый идеал. «О нещастное слово вольность! – Здешние (рейнские) мужики все вольны. – Вольны, как птицы небесные; но так же, как они бесприютны и беззащитны, погибают от голода и холода. Как бы они были счастливы, если бы закон поставил их в неразрывную связь с землею и помещиками… Могут ли такие люди пламенеть любовью к отечеству. Его нет у них… Было время, когда состояние крепостных людей в России почиталось от иностранцев рабским и самым жалостным. Теперь они узнали свое заблуждение»208.
В сущности, критика Запада во многом была борьбой с подступающим чуждым миром, где, в частности, у простолюдинов есть права.
Весьма обычны были замечания о том, что «житье наших мужиков есть самое беззаботное и счастливое… Самый здоровый и веселый народ есть земледельческий». Земледельцы – смышленный народ, и это объясняет восторги иностранцев перед «природным умом» русского мужика, который немедленно его лишится, став «батраком, как иностранный».
Зарыв зерно в землю, земледелец ждет его оплодотворения, и поэтому он набожен и покорен царю, «привязан к родимой земле своей, которая его возрастила». Фабричный ждет всего от машины, а о боге вспоминает только в болезни. Скопища сотен или тысяч «мастеровых, живущих и работающих всегда вместе, не имеющих никакой собственности, питает в них дух буйства и мятежа. Частые мятежи в английских мануфактурных городах служат тому доказательством»209.
В журналах подсчитывали число нищих и батраков, писали о плохом питании, высокой смертности, росте преступлений и т. д. Наши же крестьяне благоденствовали, даже уходя на фабрику, – но русскую, патриархальную.
В 1841 г. славянофильский «Москвитянин» сообщает, что нашим рабочим, в отличие от английских, не грозит крайняя бедность, поскольку в России практически нет людей, которых кормит только заводской станок.
На фабрики зимой нанимаются крестьяне, летом возвращающиеся на землю, причем наши «фабричные мастеровые ведут себя не только удовлетворительно, но даже хорошо… Кому не случалось слышать, проезжая мимо фабрик, какими веселыми песнями сопровождается работа наших фабричных. Можно ли где-нибудь, кроме святой Руси, иметь рабочему средства, кроме лучшего хлеба и каши гречневой, употребить в день два фунта говядины?»210.
При этом критика капитализма имела отнюдь не абстрактный характер. События в Европе прямо влияли на принятие правительством очень важных решений.
С 1837 г. Киселев начал реформу положения государственных крестьян на основе общины. Сделано это было вопреки всей предшествующей традиции, исходившей из идеи внедрения частной собственности в государственной деревне.
Прекрасно сознавая экономическую неэффективность общины, он убедил Николая I, что община – это проблема прежде всего политическая. Да, душевое землепользование с переделами вредит хозяйству, но имеет в то же время свои плюсы, поскольку устраняет возможность появления пролетариев.
Поэтому политический выигрыш от сохранения общины, по Киселеву, превышает ее хозяйственные изъяны. Так в первый раз в общинном вопросе политика была поставлена выше хозяйственной пользы, т. е. благосостояния крестьян.
Европа 1830-1840-х гг. давала все новые доказательства опасности пролетариата, который стал главным фактором усиления революционного движения. Тогда считалось, что пролетариат – это общественное зло, которое грозит любой стране неисчислимыми бедствиями и потрясениями. Даже слово «пролетарий» воспринималось как ругательное.
Поэтому понятно удовлетворение, с которым официальный «Журнал министерства внутренних дел» замечал, что такие «зловещие» вещи, как «пауперизм» и «пролетариат», не имеют в нашем языке соответствующих слов211.
Конечно, критика капитализма не исчерпывала список претензий к Западу, причудливо сочетавшихся с идейными исканиями русского общества.
Катализатором этих исканий во многом стало «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева (1836 г.), в котором за Россией отрицалось и прошлое, и настоящее, и будущее – главным образом, по причине принятия православия от «растленной Византии»[60].
Собственно говоря, после этого письма и выходят на сцену западники и славянофилы.
Характеризуя идейную атмосферу постдекабристского времени, Анненков писал, что «образованный русский мир как бы впервые очнулся к тридцатым годам, как будто внезапно почувствовал невозможность жить в том растерянном умственном и нравственном положении, в каком оставался дотоле».
Общество уже не хотело просто плыть по течению событий, не думая, куда его несет. «Все люди, мало-мальски пробужденные к мысли, принялись около этого времени искать, с жаром и алчностию голодных умов, основ для сознательного разумного существования на Руси».