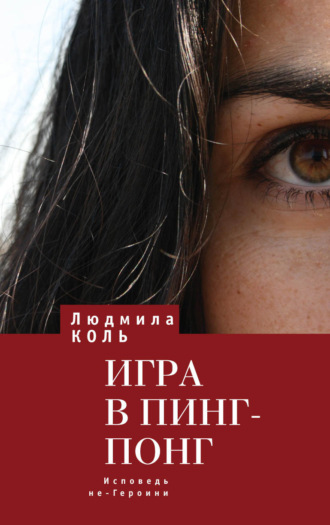
Людмила Коль
Игра в пинг – понг. Исповедь не – Героини
После нашей крошечной комнатки в Москве в доме дедушки и бабушки все казалось очень красивым: высокие двойные двери с медными ручками, белая кафельная печь, портреты дедушки и бабушки в деревянных рамах, старый серебряный термометр какого-то непонятного Реомюра и гнутые венские стулья. Над диваном в столовой висела большая картина в темной раме: много-много снега и укатанная санями дорога, уходящая к тусклому, почти у горизонта, солнцу. А вдали – деревня с придавленными белыми шапками крыш домами. Я вбегаю в столовую и первым делом вижу эту картину.
– Дедушка заказывал какому-то неумелому художнику, – говорит каждый раз мама, когда я останавливаюсь перед картиной. – Видишь, все коричневое!
А мне она ужасно нравится, особенно белый дым, который поднимается ровными столбиками из труб прямо в небо. И золотисто-коричневый цвет от того, что наступает вечер, и в окошках уже свет зажгли. И мне хочется тоже туда – я ни разу еще не была в деревне!
Другая картина висит над старинным комодом в простенке между двумя окнами. Она – голубая: голубое озеро, голубое небо, деревья на берегу в нежном голубом утреннем тумане, и в них теряется серо-голубой замок. А посередине озера – лодка, в которой сидят два человека. Я почему-то воображаю, что это мои дедушка и бабушка.
– Да нет, это не они! – пытается разубедить меня мама. Но я не верю. Мне кажется, что дедушка и бабушка в молодости могли жить только так и это их изобразил художник.
Обе половины дома были строго разграничены: одна дверь из галереи – так называлась терраса – ведет в одну половину, вторая – в другую, а внутренняя дверь между ними всегда заперта на ключ. Но иногда делают уборку во всем доме; тогда двери везде открываются нараспашку, и даже снимают коромысло с той, которая ведет из галереи в сад – оно всегда продето через ручки, чтобы дверь держалась крепче. Как много теперь воздуха вокруг меня! Я легко несусь из одной комнаты в другую, выбегаю в сад, в густую зелень дикого винограда, соскакиваю со ступенек и снова впрыгиваю в дом и лечу по всем комнатам. Ну почему они всегда закрыты?! Почему нельзя, чтобы вот так, чтобы не выходить в скучный двор, где напротив сарай и дрова кучкой у забора, а сразу – в таинственную тень сада, где уж точно прячется что-то волшебное, сказочное – ведь там оно меня ждет …
В доме было два запретных места, которые притягивали больше всего.
При входе на веранду справа находилась кладовка, ключи от которой были только у бабушки и дедушки и хранились в ящике письменного стола. Кладовка отпирается редко – бабушка не любит, когда там хозяйничают дети. Чтобы мы туда не лазали, она говорит:
– Там пауки!
Но нас этим не остановишь!
В кладовке по стенам развешаны дедушкины инструменты и стоит волшебный токарный станок, на котором он однажды сделал для меня круглый детский столик на одной ножке и такой же детский стульчик – мои любимые вещи. А вдоль стен идут рядами двадцатилитровые бутыли-четверти с разными наливками. Для нас самыми лакомыми были пьяные вишни и сливы, от которых потом приятно кружится голова: странно, но нам разрешается их есть, несмотря на малолетний возраст.
Вторым местом был сделанный тоже дедушкой обеденный стол в столовой. Он раздвигался в обе стороны в зависимости от количества обедавших, а под ним находился шкафчик с двумя дверцами – на одну сторону и на другую. В шкафчике стоят баночки с вареньями, которые хранятся годами, засахариваются и пропитывают дерево необыкновенно вкусным запахом. Когда я открываю дверцу, то первым делом вдыхаю всей грудью, чтобы наполнить им легкие. Мы потихоньку, когда бабушка не видит, лазаем туда, чтобы вытащить из банки ягодку и проглотить незаметно, потому что варенье полагается только к чаю.
– Что ты так бережешь его? – недоумевает мама. – Засахарилось все уже! Ведь в этом году будешь опять варить! Пусть дети едят!
На это бабушка только поджимает губы.
Варить варенье бабушка любит. Для этого во дворе складывают летнюю печь под яблоней. Накануне долго начищают медный таз, и он начинает блестеть солнечным блеском. В саду облюбовывают самую спелую вишню, обирают ее всю и сажают нас вынимать косточки; идут в кладовку и взвешивают сахар, который каждый год закупают впрок по дешевой летней цене. А на следующий день по всему переулку много часов разливается сладкий аромат – бабушка Мура варит варенье три-четыре часа.
– Ты же перевариваешь его – оно вкус теряет! – говорит мама.
– Ты меня, Тося, не учи! Вы варите по-своему, по-новому, а мы по-старому, – отвечает бабушка.
Когда я просыпаюсь утром в своей комнатке, первое, что я вижу в окно, – зеленая листва, и через нее с одного листа на другой пробирается веселый солнечный луч. Ко мне тут же ласково заглядывает котенок Катя, которого я недавно подобрала на улице, и, подняв трубой крошечный хвостик, тыкается трехцветной мордочкой в руки. А потом я бегу с Катей в сад, под грушу-лимонку: посмотреть, много ли нападало за ночь. Тут же поднимаю с земли парные вишенки и навешиваю на уши – так делают все девочки.
Бабушка, встав в шесть часов, уже успевает наготовить вареников с творогом. Вареники огромные, из серой простой муки. В Москве таких никогда не делают и потому они кажутся ужасно вкусными. Или жарит на постном масле пироги с горохом и морковью. Они тоже большие, из серой муки, и тоже ужасно вкусные.
На обед готовят борщ в огромной, на десять человек, кастрюле и гречневую кашу в тяжелом черном чугунке, который «упревает» в печи, отчего каша становится темной и рассыпчатой. Мяса ели мало – достаточно было фруктов, овощей, компотов, варений, наливок. В конце августа варили кукурузу, и мы целыми днями грызли темно-желтые, блестящие, густо натертые солью початки.
После обеда бабушка Мура обязательно молится, повернувшись к иконе. Икона старинная, в золотом окладе, и висит в углу столовой. Под иконой стоит изящный деревянный столик красного дерева на одной резной ножке, а на столике – выдолбленная из ствола грушевого дерева ваза, и в ней – всегда свежий букет цветов из срезанных рано утром герберов, которые называются почему-то майорами. Произнося молитву, бабушка шевелит губами и несколько раз крестится. Мы, глядя на это, начинаем хихикать про себя, но терпеливо ждем, пока она закончит – раньше вставать из-за стола не разрешается.
– Без Бога – не до порога! – назидательно произносит бабушка и, строго взглянув на нас, идет по своим делам.
Через день приносят топленое молоко по пятьдесят копеек за кувшин. Считается, что это дорого, и с теткой торгуются, чтобы она сбавила цену на пять копеек. Мне ужасно нравятся стоящие на столе коричневые матово-блестящие глиняные кувшины – хочется гладить их изящные бока и вытянутое вверх горлышко.
– А давай такой кувшин в Москву возьмем! – предлагаю я маме.
Кувшин пахнет другой жизнью, чем-то неуловимо деревенским, теплым: хлевом, коровьим молоком, запахом теткиного жакета, завернутых в носовой платок мятых рублевых бумажек… Он живет!
– Зачем он нам там, что мы с ним будем делать?
Взрослые рассказывают, что такие кувшины катают на гончарном круге деревенские умельцы. Но вот как поверхность получается такой ровной?
– Это потому что круг вращается, – сам ровняет.
Здорово! Я влезаю с ногами на стул, заглядываю внутрь и пальцем трогаю запеченную золотистую корочку. Она отрывается от стенок и переворачивается другой стороной – толстым слоем кремовой сметаны. Мне достают ее и выкладывают на блюдце.
– Ешь! – говорит мама и кладет рядом ломоть украинского ржаного хлеба.
Я осторожно слизываю сладковатую на вкус сметану и отодвигаю блюдце:
– Не буду. Невкусно.
– Эх, ты! – вздыхает мама. – Потом пожалеешь, когда не будет.
Так это и остается как картинка в воспоминаниях детства.
Дедушка приходит с мебельной фабрики, где он работает, в час дня. В столовой все уже ждут его прихода, чтобы сесть обедать. Дедушка хитро поглядывает то на меня, то на двоюродную сестру и спрашивает:
– Мне кто-то что-то положил в карман по дороге. Что бы это могло быть, вы не знаете?
Мы замираем в ожидании, зачарованно смотрим на него.
Он вынимает маленький шоколадный батончик и, как бы удивляясь, говорит:
– Вот тебе раз! Это, оказывается, шоколадный батончик для Ирочки! – и протягивает шоколад сестре.
Я уже готова обиженно засопеть, но дедушка опять лезет в карман и говорит:
– А это что там у меня? – и вынимает вторую точно такую же шоколадку. – А это для Наденьки!
Нас четверо внуков у дедушки и бабушки, и каждый что-то получает.
Дедушка совсем седой, с аккуратно подстриженными, седыми и жесткими усами, худой и морщинистый, всегда в темной, наглухо застегнутой рубашке. Утром он встает раньше всех, подметает двор. Двор – это тоже помещение, хотя и вне стен дома. Земля утоптана так плотно, как утаптывают земляные полы, поэтому на ней никогда не бывает луж – все куда-то стекает во время дождя. От крыльца ровно до уборной в саду идет выложенная кирпичом дорожка. А напротив входа в дом – большой сарай, который отделяет двор от сада. В сарай детям ходить не разрешается, потому что там живет «хряк».
– Не ходи туда! – останавливают меня каждый раз, когда я пытаюсь заглянуть внутрь. – Слышишь, как храпит?
Я слышу свиное похрюкивание, которое кажется в темноте грозным, и опасливо выныриваю наружу.
Но в сарае живет не только «хряк» – там и куры, и гуси, и утки. Со всей этой живностью можно общаться только во дворе, где она разгуливает днем, оставляя за собой противные следы, в которые того и гляди угодишь. «Хряка» выгуливают отдельно – вечером, когда жизнь перемещается в дом и сосредоточивается вокруг стола под оранжевым абажуром. Тогда бабушка и дедушка выводят «хряка» во двор и, подталкивая с обеих сторон хворостинами, гонят по периметру. «Хряк» огромный, черный – говорят, сто пятьдесят килограммов, – страшный. И держат его «на сало».
Утром, еще как следует не проснувшись, я сквозь дрему слышу, как ходит туда-сюда дедушкина метла, и когда я встаю, двор уже чуть ли не блестит.
– Уже не спишь, стрекоза?! – увидев меня на крыльце, радуется дедушка.
И я тоже радуюсь, соскакиваю со ступенек и прыгаю по кирпичикам ему навстречу.
Потом он пьет чай и наконец идет на работу.
В Москве мама всегда вспоминала Сумы, особенно когда мы оставались вдвоем:
– В молодости наш дедушка был столяр-краснодеревщик. Очень хорошо зарабатывал! Золотые руки у него были! Остался сиротой – успел только два класса церковно-приходской школы закончить – и нанялся в батраки. Однажды хозяин так избил его вожжами, что он не выдержал и убежал в город. А там выучился на столяра. Старался работать только у богатых помещиков – те хорошо платили. Мечтал скопить денег и открыть свой мебельный магазин. А бабушка тоже кончила только два класса и была из самой бедной семьи в деревне – тринадцать человек детей, представляешь! Как всех было накормить?
– И как же они жили?
– Занимались рыбной ловлей – у них был свой участок реки. Старшие бабушкины браться с четырех часов утра уже на лодках, возвращались только к обеду.
Я тут же представляю себе, как это происходит: хата с выбеленными стенами, печь, на которой стоят чугунки – много черных чугунков разной величины; огромная семья садится вокруг длинного деревянного стола, во главе стола – отец, и все не спеша приступают к еде.
– Ели из одного чугуна, по очереди зачерпывали еду – каждый своей ложкой. А если кто-то не в свой черед влезал, отец оближет ложку – и по лбу!
– Зачем?! – недоумеваю я.
– Такое правило было – чтобы еды поровну доставалось, бедные были. Но для твоего дедушки это не имело значения – он женился по любви. Они с бабушкой в молодости вместе на клиросе пели в церковном хоре – прекрасные голоса были у обоих! Там и познакомились – он сразу заприметил твою бабушку, она была очень красивая: белое лицо, смоляные брови и серо-голубые глаза. Венчались в деревенской церкви, очень скромно, только с двумя свидетелями, в самом конце августа, во второй половине дня. И когда открыли двери и они вышли из церкви после обряда, вечерний луч солнца упал им прямо под ноги, как дорожка. И дедушка сказал: «Это нам с тобой к счастью!»
Я смотрю на фотографию: на ней бабушка в белом длинном с затейливыми рукавами-буфф и закрытом до горла платье, с высокой прической, которая обрамляет нежное лицо, в руке – маленькая, вышитая бисером изящная сумочка, а дедушка в котелке и в костюме, с галстуком-бабочкой. Простые крестьяне? Пожелтевшие листки ученической тетрадки хранят написанные в начале прошлого века нетвердым почерком бабушки Муры строчки:
Я люблю Прошу.
Я люблю Прошу.
Я люблю милаго Прошу.
– Дедушка звал бабушку уехать в Канаду, тогда много украинцев переселялось, а бабушка испугалась, в последний момент села на чемоданы, заплакала и сказала: «Никуда я не поеду!»
– Почему?
– Боялась свою родню навсегда потерять… И они остались. Если бы уехали, дедушка смог бы открыть там свое дело – предприимчивый был, всегда предвидел все наперед… И жизнь сложилась бы у всех по-другому… – почти с горечью добавляет мама.
– А я бы родилась, если бы они уехали? – с беспокойством спрашиваю я.
– Ну конечно! Ведь я же тебя родила, а не другая мама!
– Но ты с папой тогда бы не встретилась.
– Ну, значит, у тебя был бы другой папа…
Но я совсем не хочу, чтобы у меня был другой папа – тогда и я была бы другой девочкой: и лицо было бы другое, и думала бы я по-другому, наверное… Нет, мне хочется быть только такой, какая я есть.
– Хорошо, что они не уехали, – облегченно решаю я, – потому что тогда меня не было бы, это была бы не я, а кто-то другой, и звали бы меня тогда не Надя. А я хочу быть!
– Потом грянула революция, и все, что нажили, рухнуло, – продолжает мама, не развивая дальше тему о генетике. – Деньги, которые лежали в банке, все обесценились. Дедушка успел только купить вот этот дом в Сумах – продал через несколько лет два деревенских, которые, несмотря ни на что, достались ему от родителей. И слава Богу! А то бы все пропало!
– Почему?
– У него чутье было, у нашего дедушки, – понял, что в деревне наступят новые времена, что крестьянскому хозяйствованию пришел конец. Озлобление началось на тех, у кого было хорошее хозяйство, дом, земля, кто умел и хотел работать Деревенские называли его кулаком, смотрели косо, завидовали. На сходках каждый раз спрашивали: почему у тебя два дома, откуда? Поэтому он бросил все и перебрался в город. Вот! – Мама кладет передо мной измятый от времени, почти истлевший на сгибах листок. – Вот что я храню!
Я читаю: «Автобиография».
– Это дедушкина?
– Да.
«После смерти моего отца я остался всего двух лет. От матери остался, когда мне было только десять лет, причем беспризорным. Теперь после смерти матери я поступил в батраки, где и проработал шесть лет. За шесть лет жалованья я получил от хозяина всего пятьдесят рублей. Когда я достиг шестнадцатилетнего возраста, я поступил к хозяину столяру, где и проработал три года без жалованья, причем еще заплатил хозяину за время учения двадцать пять рублей. С 1904 года по 1906 год я работал у подрядчика, в 1906 году меня забрали на военную службу, где я прослужил до 1910 года включительно. По прибытии со службы я поступил на Макеевский метзавод, где и проработал в качестве модельщика до Империалистической войны. В 1914 году 17 июня я был рассчитан, доводом послужила мобилизация. На фронте пробыл до 1918 года. Теперь в виду разрухи промышленности я вынужден был быть на родине, в селе Уланка. В этот период я работаю столярную работу. В начале 1920 года я был мобилизован в Комтруд через военкомат в дорожный отдел, где прослужил в качестве десятника. Теперь после ликвидации Комтруда проживал в с. Уланка по 1925 год. В начале 1925 года, согласно моего заявления, был затребован на завод в качестве модельщика…»
– Мам, дедушка был такой грамотный?! А ты говорила – всего два класса окончил!
– Это не его почерк, это за него составили, а он только расписался: видишь, внизу подпись заверена.
У мамы хранятся даже старинные чертежи дома, который дедушка хотел построить. Она достает их, раскладывает, показывает:
– На первом этаже – магазин, а жилые комнаты – здесь, на втором.
Я с интересом разглядываю и спрашиваю:
– А он кирпичный?
– Кирпичный! Настоящий!
– Как этот?
– Лучше! Смотри!
Дом действительно красивый, с высокими овальными окнами.
– Дедушка сам хотел построить. Он в молодости умел делать все, ничего не боялся, – объясняет мама. – Даже роды принимал у бабушки, когда она не могла разродиться Ирочкиной мамой… Да, вот так, – она делает паузу, – а Валя все равно недолго прожила, туберкулез съел легкие… Во время Первой Империалистической войны дедушка служил в Гельсингфорсе, в Финляндии, – продолжает она рассказ, который я могу слушать до бесконечности. – Медбратом работал в госпитале, только в каком, – не знаю, а интересно было бы узнать. Ведь сохранились где-то документы, наверное… И мы с бабушкой туда ездили, жили там. Я даже слова какие-то иногда вспоминаю – с детьми во дворе говорила… У дедушки деньги всегда водились: он времени даром не терял. Пока служил, в свободное время делал деревянные игрушки, свистульки, куколки и продавал – умел заработать. А потом все, все пропало…
Я переворачиваю листы с рисунками деда и замечаю, что на обратной стороне что-то написано. Я читаю:
«Кого люблю? Люблю я своего незабвеннаго Прошу. Проша ты моя одна в свете отрада ты мое счастье и в душе покой. Люблю тебя мой милый Проша Люблю. За тобой живу на свете и чувствую себя весело. Одна твоя верная для тебя жена…»
– Это, видно, бабушка посылала письма дедушке, – поясняет мама.
Без знаков препинания, конечно, и с ошибками, но такая поэтичная любовь деревенской барышни-крестьянки.
Я, как и все дети, с удовольствием слушаю рассказы о том времени: мать вспоминает красивые игрушки, которыми играла в детстве, бабушкины шерстяные платья и пальто, посуду, льняные скатерти – все это привезли из Финляндии и все это ушло во время революции и гражданской войны: дедушке приходилось спасать семью от голодной смерти.
– У бабушки Муры вместо груди висели два сморщенных мешочка, – рассказывает мама, – а нам, детям, велели побольше спать, чтобы не расходовать силы. Один раз пришли ночью, разбудили, вывели твоего дедушку, поставили к стенке и сказали: «Говори, где прячешь запасы, а то расстреляем!» То ли красноармейцы, то ли банда какая-то – тогда никто ничего не понимал. А какие у дедушки запасы?! Он им так и сказал: «У меня семья голодает, и прятать мне нечего!» Как они его отпустили, сама не знаю!
Последние остатки привезенного – швейцарские часы, золотые цепочки, брелоки, бабушкин золотой браслет – добрал торгсин во время голода на Украине в тридцать третьем году: тогда несли всё за муку, сало, крупы. В войну дед работал на заводе, который делал запчасти для катюш. А после войны – на мебельной фабрике.
– Вернулись они из эвакуации, а дом пустой: ни мебели, ни книг… Так и не смогли ничего восстановить – сил уже не было у них…
Вечером дедушка возвращается домой и возится с нами: сажает на плечи, приносит с фабрики и высыпает на пол кучу разноцветных деревянных обрезков, из которых мы строим дворцы.
Самый большой сюрприз, когда дедушка находит в саду уже созревший круглый, блестящий, темно-зеленый арбуз и сияя зовет нас:
– Смотрите, дети, какой арбуз вырос! Давайте-ка его попробуем!
Он аккуратно острым ножом срезает сверху круг с хвостиком, а потом режет арбуз на сочные темно-розовые дольки с черными маленькими семечками и раздает.
От дедушки исходит ощущение доброты. Он никогда ничего не разрешает и не запрещает, но мы всегда подчиняемся беспрекословно порядку, который царит в доме, и никогда при нем не капризничаем.
Дедушка следил за садом, резал раз в год кабана, принимал роды у коровы. Однажды меня позвали посмотреть на только что родившегося теленка. Его принесли в дом и положили на веранде.
Я вхожу и вижу: стоит новое существо, пришедшее в мир, покачивается на тонких слабых ногах и с удивлением смотрит на тех, с кем ему предстоит познакомиться. Теленок выше меня. Я протягиваю руку, чтобы погладить его, и с любопытством заглядываю снизу вверх в глаза: они темные, глубокие и ужасно добрые. Я осторожно дотрагиваюсь до шелковистой коричневой шерстки, и теленок тоже с любопытством тянется ко мне мордой.
За лето я, во-первых, подрастала. В Москве сразу же бежала к зарубке на двери и взрослые меня придирчиво измеряли. Во-вторых, все тело становилась похожим на шоколадку – покрывалось ровным темным загаром, мама так и говорила: «Моя шоколадная!» В-третьих, играя с соседскими детьми, я нахватывалась украинских слов и выражений. Я подсознательно чувствовала, что не могу говорить с ними по-другому, не их языком – это сразу поставило бы преграду между нами, поэтому старалась изо всех сил подражать их суржику.
Обычно мы выходим в наш тихий переулок; присев на корточки и образовав тесный кружок, что-нибудь строим, копаясь в земле, и болтаем.
– Расскажи про Москву! – просят девочки.
– Кажуть, у вас метро э? Шо це таке?
И я, с трудом справляясь с новым словарем, начинаю рассказывать и про метро, и про свой двор, и про ребят, и про Кремль, про трллейбусы-автобусы-трамваи, а они, продолжая заниматься устройством кукольного дома, внимательно слушают.
– А в якому будынку ты живеш? – спрашивает между делом красавица-Аллочка. Красавицей-Аллочкой называют ее все взрослые, видимо, за необыкновенно рыжий цвет курчавых волос и фарфорово-белоснежный цвет лица, к тому же она занимается танцами и часто любит изобразить перед нами какое-нибудь умопомрачительное плавное движение всем телом и сделать несколько танцевальных «па», чтобы мы лопнули от зависти. И в конце обязательно прибавит гордо: «Ось як!» К тому же она самая старшая из нас, что тоже придает ей вес в наших глазах.
– В большом, пятиэтажном, – отвечаю я, выкапывая ямку для кукольного колодца.
– У великому, – тут же переводит Аллочка на местный и, взметнув рукой вверх рыжую гриву, понятливо кивает головой: в большом городе – большие дома.
– А шо у вас у хати э? – пристает ее младшая сестра Светка, переходя к более бытовым вопросам.
Я начинаю перечислять свои игрушки, книжки, велосипед, пианино.
– У нас немаэ такого… – тихонько вздохнет кто-нибудь после моих рассказов.
– Я може тоже поиду в Москву учица, – мечтательно произнесет вдруг Аллочка. – Як прыдеться.
Если я произношу что-то неправильно, меня тут же терпеливо поправляют:
– На украинськой мови трэба казаты не «швидко», а «швыдко»… не «зупинка», а «зупынка».
Я даже стала смягчать «г», что приводило маму в ужас.
В Москве я продолжала сыпать этими словами уже пополам с русскими. Получалась неимоверная смесь, и родители боялись, что с такими богатыми лингвистическими познаниями я выйду на улицу. Поэтому мне строго-настрого запрещали нести тарабарщину и держали несколько дней дома. А когда, наконец, разрешали бежать во двор к другим детям, вдогонку все-таки летело:
– Следи за своим лексиконом!
И совершенно напрасно. Как только я оказывалась в московском дворе, я тут же понимала, что нужно переходить на другой язык общения, и мгновенно изгоняла из организма «лексикон». Ни разу в Москве из меня не вылетело ни одного непонятного для других детей слова. Зато через много-много лет эти смутные уже к тому времени знания помогли мне быстро выучить польский язык – украинские слова тут же приходили на память; бывая на Украине, я чувствовала себя не чужой, быстро перенимала интонацию и вставляла в свою речь для большей «понятности» некоторые выражения. Чешский и словацкий языки тоже казались мне более понятыми: я моментально находила в них параллели давно забытых, казалось бы, слов. А некоторые украинские слова существовали в моем сознании всегда параллельно русским, и я виртуозно пользовалась этим.
В конце пятьдесят первого мы переехали – мой отец получил двухкомнатную квартиру в только что построенном заводском доме.
Она казалась нам необыкновенно красивой и большой: высокие потолки с бордюром, паркет, балкон со стеклянной дверью, огромная кухня-столовая и коридор. Я могу кататься на своем трехколесном велосипеде по всей квартире! В спальне у меня сидят теперь на столике все мои куклы, и я могу пускать по кругу своего заводного наездника, который ловко управляет лошадкой. В коридоре я прыгаю через веревочку.
– Детям лучше, наверное, все-таки во дворе играть, – дипломатично замечает маме соседка снизу.
– Не топай так сильно, соседям слышно, – предупреждают меня дома.
Но как же не топать?! Мои ноги сами собой – я ничего не могу поделать с ними – галопом несутся из одной комнаты в другую, мячик отлетает от стены, я перепрыгиваю через него и со всей силы бью им об пол.
Ставить из мебели нам было абсолютно нечего. Родители приехали из эвакуации в Москву с двумя корзинами.
– У папы штанины были сшиты по горизонтали из разных кусков ткани, – рассказывает мама. – Еле ходил – сил не было.
За шесть лет они ничего не успели приобрести, поэтому только в спальне было подобие какой-то мебели: стоял платяной шкаф и две кровати с никелированными спинками – моя и родителей. В гостиной лежит на полу суконный старенький коврик с набивным рисунком – еще военный, любит повторять мама, из солдатского сукна, – а в углу стоит елка с шишками – канун Нового года. Родители счастливы. Отец сидит на стуле в пустой гостиной и сияющими глазами рассматривает стены.
В новом доме потекла новая жизнь. Квартиры давали только инженерам. Рабочие семьи получали комнаты. Но и это было счастье – люди жили в бараках и подвалах.
Дом был кирпичный, обложенный серой плиткой, пятиэтажный, с огромным цементным подвалом-бомбоубежищем на случай войны.
Слово «война», мне кажется, сопровождало меня от самого рождения – все о ней только и говорили, и я чувствовала, что она где-то вот-вот, за спиной. Каких-то особых рассказов о ней не было, а была жизнь, которая называлась «во время войны» и которая потом перетекла в ту, которой жили сейчас.
– Во время войны мы жили в Челябинске, на Урале, – говорит мама.
– Во время войны, – говорит папа, – нас, инженеров, кормили в заводской столовой овсянкой с конопляным маслом, а рабочие от истощения падали у станка.
– Во время войны, – говорит московская бабушка, – немцы гнали на работу в Германию всех, кто был трудоспособным. И главное было – как найти способ уклониться от этого. Чего только не придумывали!
Сумская бабушка не раз упоминает какого-то Бандеру, который «был зверь».
– Что они творили во время войны! – взмахивает руками бабушка. – Не дай Бог, как издевались над людьми! – Бабушка качает головой и идет молиться к иконе.
– Да, бандеровцы, говорят, были пострашнее немцев, – поддакивает мама и тяжело вздыхает.
Ложась вечером спать, я думаю: «А если ночью начнется война, что тогда?..» Эта мысль преследует меня каждый вечер. Я смотрю на темное окно в спальне: «Если начнется война, все сразу заполыхает красным от бомб и наш дом загорится? И сразу бежать вниз в подвал? А если не успею?..»
Но однажды я услышала выражение «холодная война», а потом увидела ее в газете, которую читал отец: уныло нахохлившуюся от холода бабу в сосульках с повисшим вниз носом.
– Это что? – я ткнула пальцем в карикатуру.
– «Холодная война», – ответил отец, не прояснив ни на йоту значения, чем озадачил меня еще больше, но картинка запечатлелась в памяти на всю жизнь.
Так как никакая война не начиналась, а жить было негде – послевоенные бараки потихоньку сносили, а новые дома строить не успевали, – то и подвал в конце концов заселили семьями.
Люди, получив жилье, радовались и старались его обустроить. Весной все жильцы вышли во двор. Привезли землю, саженцы. Мы принимаем самое активное участие: помогаем взрослым расставлять скамейки, сажать деревья, даем советы, куда какие семена посеять. В центре двора сделали большую, пирамидкой, клумбу и засадили рассадой из всевозможных цветов, которые потом превратили ее в огромный букет. Без этой клумбы мы не представляем себе наш двор, и мячик, который летает целый день, редко попадает туда. А уж если такое случается и нужно его вытащить, делают это осторожно, оглядываясь, не видит ли кто-нибудь, на цыпочках пробираются среди георгин, астр, гладиолусов, настурции, маков, львиного зева и моментально убегают. Клумба – это предмет гордости каждого двора!
Сколько игр у нас с мячиком! Из-за спины левой рукой в стену, правой через голову, из-под расставленных ног, поворот – из-под ног назад, крутой поворот – и в руки поймать, из-под одной ноги, из-под другой… Все быстро, ловко! Целый день носимся по двору. Считалки: «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить, все равно тебе водить!» или: «Ехали: царь, царевич, король, королевич…» Королей не забываем – волшебные потому что они всегда. Девочки делают «секреты»: ямка в земле, в нее уложены красиво-прекрасиво цветные стеклышки, фарфоровые черепки, пуговицы, а сверху – прозрачное стекло. Глядим в него, как в калейдоскоп: у кого получилось лучше?
Вечером, когда взрослые приходят с работы и отужинают, все собираются внизу. Родители сидят на скамейках, а мы играем в лапту под визг проносящихся на нашими головами ласточек, под кронами постепенно разрастающихся американских кленов. Мама с балкона смотрит вниз, как я бегаю, и я знаю, что она любуется мной, и хочу быть еще более ловкой. Главное – вовремя увернуться от мячика. Да и как он может достать меня – ведь на меня смотрит мама!
В нашем доме много детей из рабочих семей. Но у мамы свое отношение к ним – она старается, чтобы я держалась от них подальше. Она рассказывает, что в детстве дружила только с девочками нэпманов. Я не знаю, что такое нэп. Мама говорит, что при нэпе было все, и все было дешево, и люди жили хорошо, а бабушка и папа кивают и поддакивают. Я представляю, что мамины подруги – дети этих необыкновенных нэпманов, при которых так замечательно жили, – были воспитанные, красивые, хорошо одевались, играли на пианино, учились говорить по-немецки, читали Тургенева, Чехова, Толстого и ели вкусные вещи.
У мамы ничего такого дома не было, но она прекрасно пела, а девочки могли ей аккомпанировать, поэтому она быстро влилась в их среду.
Мама знает огромное количество романсов и арий. У нее высокий красивый голос и глаза начинают блестеть, когда она поет. Мама не может не петь. Она поет, когда готовит, когда шьет, когда убирает.
– Послушай романс Глинки – я тебе сейчас спою! – И начинает петь «Попутную песню».
У нас дома много нот. Я люблю их разглядывать, но не могу понять, как мама поет по каким-то крючочкам. Она ходит заниматься к педагогу – разучивать арии, чтобы выступать в заводском клубе. На сахарном заводе, где работает папа, многие занимаются в клубе, и папа тоже ходит в драмкружок, которым руководит театральный режиссер из ТЮЗа. Декорации самые настоящие – деревенский дом, рядом – забор, за забором – деревья, перед домом – скамейка, на которой сидят колхозницы в цветастых платьях и белых косынках. Появляется мой папа. По пьесе, он – директор завода. А вот еще один персонаж, не важно какой, но его все называют «Малина». Он маленький, темненький, щупленький и говорит немного смешно, не так, как все. Мне он очень нравится, почти совсем так же, как когда-то молочник Григорий. Только я не понимаю, почему он – «малина».



