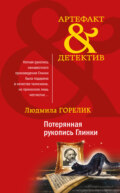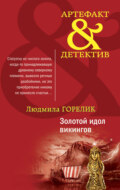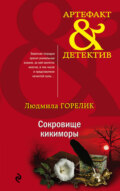Людмила Львовна Горелик
Нефритовая лошадь Пржевальского
Глава 5. Подарок тибетского посланника
В общем, именно благодаря этим четырем опасным ночевкам на открытом воздухе удалось нанять проводников. О храбрых русских, которых дунгане сами боятся, уже пошел слух по окрестностям. Послушав рассказы восхищенных тангутов, караванщики-монголы поверили, что путешественники станут надежной защитой в случае нападения дунган.
После заключения договоренности с проводниками еще два дня готовились к путешествию. Часть коллекции пришлось оставить в кумирне. Верблюды были сильно истощены, и Пржевальский велел распределить между ними кладь наиболее щадящим образом. Все равно тащились медленно. Путь шел по горным тропам, которые знали только проводники. Сложности перехода на этот раз были связаны не с погодными или географическими условиями, а с людьми. В горах было неспокойно. Поначалу едва не произошла стычка с китайцами, охранявшими горные переходы от дунган. Тридцать конных пограничников выскочили из лощины и поскакали к небольшому каравану русских. Крики «Мы не дунгане, мы русские путешественники!» не возымели действия. Всадники не просто скакали навстречу, но и целились в них из ружей.
– Так они нас перестреляют, Николай Михайлович, не разобравшись! Надо бежать, спрячемся за скалу! – испугался юный Панфил Чебаев. До всадников оставалось менее версты.
– Ни с места! – резко оглянувшись, прикрикнул на Панфила Пржевальский. – Оружие к бою! – И первым стал наводить штуцер на приближающихся пограничников.
Увидев, что путешественники не только не развернулись, но и взялись за оружие, китайцы как-то сразу успокоились, слезли с лошадей, подошли к ним и объяснили, что приняли их за дунган. Инцидент был исчерпан.
– Вы думаете, они и впрямь нас за дунган приняли? – объяснял Пржевальскому проводник-монгол, когда караван двинулся дальше. – Как же – перепутали они! Мы на верблюдах, а дунгане никогда на них не ездят! Эти так называемые пограничники ожидали, что вы убежите, бросив вьючных животных, и тогда они смогут пограбить ваши грузы!
– А вы молодцы – не побежали! – подхватил другой проводник. – Правду говорили о вашей храбрости.
Через несколько верст у следующей заставы повторилась та же история, и опять китайцам не удалось поживиться. Видимо, и впрямь имелась здесь такая практика: устраивать путаницу и, воспользовавшись ею, грабить караваны.
Но это были только ягодки. Приключения с пограничниками оказались легкой встряской по сравнению со встречей с настоящими дунганами.
Самым опасным был переход через две большие дунганские дороги из Сэн-гуаня в город Тэтунг.
Первую дорогу прошли благополучно. Но когда поднялись на вершину перевала, ведущего на другой путь, увидели впереди конных драгун. Всадников шло около сотни. Это был, вероятно, конвой: они гнали стадо баранов.
Заметив на вершине перевала маленький верблюжий караван, кавалеристы сделали в его сторону несколько выстрелов и столпились возле выхода из ущелья.
Проводники дрожащими голосами умоляли повернуть назад. Все трое были страшно напуганы и прощались с жизнью. Зачем они согласились вести этот маленький караван? Зачем связались с путешественниками из чужой непонятной страны? Нужно попробовать убежать от дунган – это единственный выход. С таким предложением они и обратились к самому старшему из русских.
– Нас здесь семь человек. Вооружены и умеете стрелять только вы четверо, – говорили они. – А их около сотни. При самом лучшем оружии вы не сможете защитить наш караван. Еще не поздно повернуть. Мы попробуем уйти от них.
Пржевальский некоторое время думал.
– Нет, – ответил он наконец. – Уйти не удастся: лошади, конечно, догонят верблюдов, тем более наши животные обессилели. Нам остается только идти напролом. – И он спрыгнул на землю.
Проводники, однако, были уверены, что идти на сильно превосходящее по численности войско дунган нельзя, спасение – в бегстве.
– Так не пойдет! – воскликнул один из них. – Вы можете идти вперед, показывать свою храбрость, а мы поворачиваемся и уходим. Нам наша жизнь дорога!
Спешившийся Пржевальский выпрямился во весь свой исполинский рост.
– Если кто-то из вас сделает шаг назад, я застрелю вначале его, – сказал он негромко, с бешенством. – А потом уже буду стрелять в дунган.
Пыльцов и двое казаков – Чебаев и Иринчинов – тоже спешились и стали рядом с ним. Эти четверо были вооружены до зубов… Однако дунган в десятки раз больше!
– Но посмотрите, сколько их… А выход из ущелья узкий. Они легко перестреляют нас! – начал было один из монголов, и Пржевальский, твердо держа в руке револьвер, повернулся к говорящему. Вид его был страшен.
Вдруг стало очень тихо. Потом легкий шелест наполнил ущелье: дрожащие голоса шепчущих молитвы проводников отражались от каменных глыб. Проводники-монголы трясущимися руками вновь взялись за верблюжью упряжь.
Четыре хорошо вооруженных человека – со штуцерами в руках, с револьверами за поясом – выдвинулись вперед, стали впереди верблюдов с проводниками. Две большие умные собаки выстроились рядом с вооруженной четверкой. Караван двинулся к выходу из ущелья.
Дунгане, тоже спешившись, большой толпой выжидали внизу. За ними ржали лошади. Еще дальше кучей сбились бараны. Кое-кто из спешившихся всадников сделал несколько пробных выстрелов, когда выходящий из ущелья караван приблизился примерно на версту. И вдруг… Внезапно эта огромная толпа вооруженных людей раздвоилась, бросилась в обе стороны большой поперечной дороги, оттеснив, уведя с собой лошадей, баранов…
Они были наслышаны о необыкновенной четверке хорошо вооруженных и храбрых путешественников, прошедших охваченную гражданской войной страну по тем тропам, по которым и китайская армия боялась идти. Они не захотели принимать бой с этой отважной четверкой!
Маленький караван с четырьмя вооруженными и тремя практически безоружными людьми, с груженными тяжелой поклажей, еле переставляющими ноги, обессилевшими верблюдами вышел из ущелья и пересек большую дорогу, окруженную расступившимися разбойниками, ржущими лошадьми и блеющими баранами.
Путешественники стали подниматься на следующий, очень крутой и высокий перевал. Шли молча. Проводники перестали дрожать и лишь иногда пугливо поглядывали на Пржевальского.
Быстро спустился вечер, сделалась метель. В наступившей темноте, в круженье снега путники вели по тропинке спотыкающихся верблюдов – вначале вверх, потом вниз, беспрестанно спотыкаясь и падая. Наконец нашли место для палатки, с большим трудом развели огонь… Кое-как отогревали замерзшие конечности, вглядывались в темноту…
Но они справились. Даже проводники воспрянули и чувствовали себя победителями. Они преодолели свой страх – неважно, что под дулом револьвера. Но они прошли вместе. И теперь пили кирпичный чай с полусгнившей дзамбой – ячменной крупномолотой мукой, которую на Тибете добавляют в чай для сытности, – сушили чулки и портянки, грели красные не распрямляющиеся пальцы возле горящего аргала – топлива из сушеного помета животных. Еще несколько дней среди гор, с постоянными спусками и подъемами, продираясь через кусты, переходя через реки…
Потом характер местности изменился, скалы почти исчезли, горы стали мельче и теперь образовывали пологие скаты с кочковатыми болотами и долинами. Наконец вышли на ровное плато. Желтый курильский чай покрывал пространства. Вот она – желтая равнина Куку-нора!
Двенадцатого октября они вышли на равнину Куку-нора, а тринадцатого разбили палатку на самом берегу озера.
В октябре озеро еще не затянуто льдом. Трава на равнине вокруг водоема желтая, потоптанная животными, истончившаяся от ветров – они здесь бывают сильные. Горы вокруг покрыты на вершинах снегом, они образуют чистую белую рамку для гладко-голубого озера. Вода в Куку-норе солоноватая, озеро мелкое – и все это способствует его красоте! Именно из-за солености и небольшой глубины озеро приобрело такой нежный цвет.
К вечеру тринадцатого, когда наконец установили палатку и устроились, Пржевальский с Пыльцовым вышли постоять на берегу, полюбоваться на Куку-нор. Озеро с ровным пологим берегом уходило за горизонт, оно было необъятно и более всего походило на синий блестящий шелк, а иногда на бархат – если мелкие волны оживляли его гладкую поверхность. О, Куку-нор, как чудесны твои темно-голубые бархатные волны!
Однако долго любоваться было некогда: следовало изучить местную флору и фауну, обследовать и измерить озеро, провести климатические наблюдения. Необходимо было и найти способ обменять верблюдов – обессилевшие животные сделались неспособны тащить поклажу. Последнее было не так легко сделать, поскольку денег осталось совсем мало.
Все последующие дни путешественники обмеряли озеро, объезжали его вокруг на лошадях, обходили пешком, плавали на лодках к центру – исследовали в разных местах глубину… Добрались и до небольшого скалистого острова, на котором была кумирня и жили постоянно два десятка лам… Скудное пропитание им привозили окрестные жители, а иногда и сами ламы покидали остров ради сбора подаяний…
На этой длительной стоянке путешественники много беседовали с местными жителями – тангутами. Как и монголы, тангуты исповедовали буддизм, однако ни внешне, ни образом жизни монголов не напоминали. В отличие от селившихся в засушливой пустыне монголов, тангуты привыкли жить в местности скорее влажной – с обилием дождей, с сочной травой летом… Пржевальского особо интересовала местная фауна. Он часами расспрашивал, какая рыба водится в озере, какие звери бегают в окрестных степях… Помимо уже известных зверей, здесь селились и неслыханные ранее. Особо заинтересовал путешественников дикий осел – хулан. Это было интересное и ранее невиданное животное. Хотя дикий осел был очень осторожен и почти недосягаем для охотников, Пржевальский успешно охотился на него. Ему удалось раздобыть для своей коллекции шкуру этого зверя.
Упоминали тангуты и еще одно загадочное, невиданное ранее путешественниками животное – дикую лошадь. Якобы такие водились в прилегающих степях, чуть далее. Животное это еще более дикое и недоверчивое, чем хулан, его увидеть и то нелегко, а уж охотиться на него почти невозможно.
– Спроси их, Дидон Мудрый, – обращался Пржевальский к казаку Дондоку Иринчинову, знавшему немного здешний диалект, – спроси, может, шкуру этой дикой лошади продадут нам?
Денег оставалось крайне мало, Пржевальский об этом, конечно, помнил. «Но если найдется шкура, может, как-то изыщем, оружие, например, продадим», – размышлял он.
И мудрый Дидон обращался к хозяину юрты, они беседовали неторопливо, и по тому, как качал головой монгол, Пржевальский догадывался об ответе.
– Нет, – Иринчинов тоже качал головой. – Нет у них шкуры. Очень трудно, говорит, на эту лошадь охотиться. Чуткая она слишком. И здесь вообще не появляется, за ней дальше надо идти, лучше всего на Лассу и озеро Лоб-нор.
Выслушав, Пржевальский тяжело вздохнул: на Лассу идти денег уж точно не хватит, да и на Лоб-нор вряд ли. А ведь до Лоб-нора, как уверяют, всего месяц пути!
Все это было тем более обидно, что на следующий день к путешественникам приехал тибетский посланник. Десять лет назад он был отправлен из Лассы в Пекин, однако застрял в этих местах: дунганские восстания сделали дорогу небезопасной, посланник, даже обладая хорошей охраной, не мог пуститься в обратное путешествие через всю страну. Осознав, что русские путешественники прошли вчетвером там, где он боялся пройти с сотней конвойных, он явился посмотреть на них.
Посланник был очень вежлив и предупредителен.
– Камбы-нанту, – назвался он. Пржевальский и Пыльцов представились в свою очередь.
Посланник пришел к путешественникам не просто так. Он слышал про их необыкновенные возможности: дунгане боятся их. Возможно, они согласятся сопроводить его в Пекин? В качестве своего рода платы за услугу он предлагал покровительство и помощь в продвижении до Лассы. Пржевальский с большим сожалением вынужден был отказаться. В душе он кипел – такое выгодное предложение пришлось отвергнуть из-за каких-то денег! – но ответил вежливо, не объясняя причин. Далее беседа приняла светский характер.
Гость рассказал, что восхищен храбростью путешественников, слухи о ней уже распространились по Тибету и многие простые люди воспринимают их предводителя как полубога, волшебника, могущего принести исцеление…
Последнее не радовало Пржевальского. К нему уже обращались пару раз с просьбой помочь заболевшим – сделать этого он, естественно, не мог. Его спутники старались воспринимать такие просьбы с юмором, но впечатление все равно оставалось тяжелое. Пржевальский заметно помрачнел при упоминании досадного заблуждения местных жителей и на этот раз. Далее разговор свернул в другое русло, стал вполне светским. Говорили о столице Тибета городе Ласса, о красотах Куку-нора, о местном климате, об охоте.
Тут глаза Пржевальского загорелись. Он рассказал об удачной охоте на дикого яка и хулана.
– И представляете, теперь у нас в коллекции есть шкура хулана – дикого осла! – заключил он. – Я ее добыл! Ах, если бы мы могли получить еще материалы о дикой лошади! Вы слышали что-нибудь об этих животных? Говорят, они водятся на Тибете! Приходилось ли вам встречать их? Нам сказали, что за Лассой, ближе к Лоб-нору, они пасутся целыми стадами, в больших количествах! Там бродят эти стада…
Пржевальский замолк с мечтательным видом – казалось, он вглядывается в стада диких лошадей на окаймленных горами тибетских равнинах…
Посланник выслушал последние фразы с большим удовольствием и даже с некоторым удивлением. Глаза его тоже разгорелись.
– Я очень рад, что совершенно случайно так хорошо угадал область ваших интересов, – сказал он почти торжественно. – Да, мне приходилось видеть дикую лошадь, хотя, к сожалению, только издали. Охотиться на это животное чрезвычайно трудно, мало кому удается ее добыть. Но… у меня есть для вас подарок. И поскольку возник такой разговор… в общем, теперь я уверен, что он понравится!
Камбы-нанту кивнул своим сопровождающим, и тотчас ему передали сплетенную из тростника коробку. Посланник, улыбаясь, открыл ее и достал статуэтку лошади средней величины, сделанную из желтого нефритового камня.
– Это изображение дикой лошади. Вам правильно сказали – эти животные водятся за городом Ласса, в окрестностях озера Лоб-нор. Стада лошадей живут там на воле и очень удачно умеют скрываться от охотников. Дикую лошадь трудно добыть – много труднее, чем хулана и даже дикого верблюда. Я привез вам ее изображение в качестве подарка и рад был узнать, что так хорошо угадал. Вы действительно великий охотник, как мне и рассказывали. Я рад, что это животное вас интересует. Я не могу подарить вам шкуру лошади, потому что ее нет у меня, но эта прелестная вещица из тибетского желтого нефрита будет вам напоминать о необходимости посетить Лоб-нор! Обещаю вам свою протекцию в Лассе, если мы там все же встретимся.
Пржевальский осторожно взял в руки сделанную из мягко светящегося камня лошадь и уложил ее сам в ту же тростниковую коробку. В качестве ответного подарка он вручил Камбы-нанту один из своих револьверов: других ценностей, кроме оружия, уже не оставалось. Часы и даже некоторые географические приборы он роздал раньше.
После ухода высокого гостя казаки Иринчинов и Чебаев, дежурившие у входа в юрту, тоже подошли к столу, и все четверо путешественников принялись с любопытством разглядывать статуэтку. Она была довольно большая – сантиметров тридцать в длину. Камень удивлял сменой оттенков: то ли желтый, то ли коричневый, он менял цвет в зависимости от освещения и как бы светился изнутри. Да и сама фигурка была необычная: то ли лошадь, то ли нет?
Она была и кургузая, и грациозная одновременно… без челки, с короткой стоячей по хребту гривой, с тонким хвостом… Странная лошадь. Камень, из которого она была вырезана, очень этой статуэтке подходил. И не только своим необыкновенным желто-коричневым, меняющего оттенки цветом. Он был приятно теплый на ощупь и светился изнутри. Благодаря этому внутреннему свечению лошадь казалась живой.
– Что за камень? – недоуменно спросил Пржевальский. – Нефрит, он сказал? Я нефрит видел. Он совсем не такой…
– Это тибетский желтый нефрит, – пояснил знающий здешние места Дондок Иринчинов, – редкий камень. Он только на Тибете встречается. И то трудно найти. Я второй раз в жизни этот камень вижу. Правильно вы за эту лошадь револьвер отдали, Николай Михайлович. Не жалейте, она дороже, чем револьвер, стоит.
Пржевальский усмехнулся. Револьвера он не жалел, денег, за него заплаченных, тем более. До Лассы и тем более до Лоб-нора добраться их все равно не хватит, так о чем речь?
Глава 6. Убийство в Боровиках
В бункере они пробыли недолго. Потапов, не велев Елене Семеновне ничего трогать, еще раз осмотрел все углы, отодвинул, взяв осторожно за край, какую-то железяку у стены (Шварц при этом отвернулась, внутренне содрогнувшись от жуткой мысли – а вдруг там окажется Коля?). Больше в помещении ничего не было.
Выйдя из бункера, Потапов сразу же позвонил в полицию.
– Сейчас приедут! – сказал он Елене Семеновне. – Придется нам с вами их дождаться.
– Нет уж, – не согласилась решительная женщина. – Вы ждите, а я в Боровики пока схожу. Мне ребенка искать надо. Может, вернулась эта Наталья Ивановна. Может, видели вчера она или печник ее Колю…
Уговаривать подождать было бесполезно. Потапов только и сказал:
– Ждите меня тогда в Боровиках, я за вами заеду. Не уходите никуда одна.
До деревни Шварц дошла быстро, она всегда прекрасно ориентировалась на местности, запомнила дорогу хорошо. Тем более что недалеко было.
Калитка дома Натальи Ивановны была прикрыта, двор по-прежнему пустынен. Ни людей, ни машины во дворе Шварц не увидела. Она все же прошла во двор, постучалась. Нет, не вернулись еще. Что ж делать? Решила подождать, все равно Потапов сюда за ней заедет. В соседнем дворе тоже людей не было, дырка в заборе исчезла – починил хозяин. Дунай, правда, по улице бегал. Он и к Елене Семеновне подбежал, когда она на бревно какое-то присела неподалеку от дома.
– Ну что, Дунай, а ты Колю вчера не видел? – спросила его Шварц. – Ты ведь бегаешь здесь целый день, мог и увидеть. Эх, жалко, что говорить не умеешь…
Дунай, выражая согласие всем своим видом, от мотающегося хвоста до прядающих ушей, присел было около нее, однако ненадолго, и вскоре убежал по каким-то своим делам.
Из дома с балкончиком вышел давешний старик, хозяин Дуная. Увидев Шварц, он к ней подошел.
– Что, не вернулась еще Ивановна?
– Не вернулась! – женщина обрадовалась собеседнику. – Меня Елена Семеновна зовут. А вас как?
– Меня Григорий Кузьмич. Мы с женой тут живем круглый год. Фамилия у нас Дондуковы. Дети наши взрослые, живут в Смоленске, летом наезжают часто, внуков вот скоро привезут на каникулы. А спутник ваш где же?
– Он скоро подъедет… – Леля решила пока не рассказывать о страшной находке. Пусть Потапов с этим делом разбирается. А ей не до того, ей ребенка надо искать. – Дом у вас какой красивый… Повезло, что не сгорел.
– Что вы! – ужаснулся Григорий Кузьмич. – Как можно! Этому дому цены нет. Это ж старинное здание, ему сто пятьдесят лет. Если б поближе к поселку, уже б музеем был. Этот дом управляющий Пржевальского для себя строил. Тут большая деревня стояла, хорошая.
– Что вы говорите! – рассеянно отреагировала Леля. Факт был интересный и в другое время она расспросила бы владельца такого дома подробнее, но сегодня ей было совершенно не до исторических сведений. Она решила использовать беседу, чтобы узнать что-либо нужное для поисков Коли.
– Григорий Кузьмич, – сказала она, – у вас ведь два бункера неподалеку имеются… один, что поближе, я уже видела. А второй где, не подскажете?
– Второй тоже не очень далеко, – охотно ответил старик. – Только в другую сторону идти нужно, это к Старым Дворам ближе, чем к нам.
– Старые Дворы – это деревня? Может, мне пока сходить туда? – размышляла Шварц вслух. – А вы Потапову скажете, где я, если без меня подъедет.
– Нет-нет, – не согласился Кузьмич. – У меня дела, я тут караулить не буду. Вы уж сами его дождитесь. А что он там делает, в бункере? Чего он там остался?
Шварц не пришлось отвечать, так как из лесу уже выезжала потаповская «Лада». К удивлению женщины, из машины ее знакомый вышел не один, а с двумя полицейскими в форме. Елена Семеновна пригляделась: один, чуть постарше, лейтенант, второй совсем молодой – сержант.
– Здоров, дядя Гриша! – тот, что постарше, подошел к старику. Второй остался возле машины рядом с Потаповым. Елену Семеновну никто как бы не замечал, даже Потапов хмуро молчал, не глядя на нее.
– Здорово, Витя! – настороженно ответил старик и пожал протянутую руку. – А чего ж к нам-то? Мальчика искать? Или еще случилось что?
– Да уж случилось, дядя Гриша! Соседку твою, учительницу, Наталью Ивановну, убили! Сейчас в дом пойдем, зови жену – понятыми будете.
Дядя Гриша, вымолвив непечатное слово, побежал в дом. На бегу он прихрамывал и как-то бултыхался, но бежал быстро. Еще через две минуты он выбежал с женой. Та, переваливаясь, бежала за ним. Она была полная, в фартуке поверх рябенького ситцевого платья, с гладко забранными на затылке седыми волосами, с двойным подбородком и испуганными глазами.
– Печник, это печник, – суетливо и одышливо говорила она, пока все шли к соседнему дому. – Он сразу мне не понравился, гопник этот приблудный. Смурной какой-то, грубый. Такой… прямо-таки страшный, как бандит какой. Я Ивановне сразу сказала: «Зачем ты его берешь невесть откуда – может, из поселковых кто возьмется, сделает…»
– Тише ты! – оборвал ее муж. – Чего не знаешь – не говори. Еще неизвестно никому, что там случилось, а ты уже все знаешь. Самая умная!
– Ну а что еще? – возражала жена. – Что еще может быть? – и она оглядывалась на полицейских, ища поддержки.
Полицейские, Потапов, Шварц молчали, не вмешивались в семейный спор. Милые бранятся – только тешатся.
Дверь в дом Натальи Ивановны оказалась незапертой. Витя, старший из полицейских, просто толкнул ее, она и открылась. Вслед за полицейскими вошли и они четверо. Хотел войти и Дунай, но его не пустили. Собака, однако, не обиделась, побежала куда-то по пустынной улице, виляя хвостом.
В доме была, конечно, разруха, но обыкновенная – какая и бывает всегда при большом ремонте. Входная дверь открывалась сразу в кухню. Та была большая, просторная, даже по нынешним временам, однако судить об удобстве не приходилось, поскольку все помещение находилось в разрухе. В центре помещения обращала на себя внимание разобранная до фундамента печь, полы возле нее тоже были развалены. В углу стояла небольшая кладь из кирпичей, рядом мешок с цементом… Кухонный стол, шкафчик сдвинуты куда-то в сторону. Витя отодвинул тяжелую запыленную портьеру со старомодными бомбошками, за ней находилась комната, тоже большая. Там было почище, поаккуратнее, хотя порядком это назвать было нельзя: посреди комнаты лежал на полу боком большой фикус, рядом стояла кадка от растения, земля из нее была высыпана на расстеленные рядом газеты… В остальном комната как комната.
Полицейские устроились за столом писать протокол, а Потапов вдруг разразился вопросами:
– Что ж хозяйка фикус такой красивый не пожалела? Из кадки вытряхнула, а не пересадила, бросила?.. Что за спешка такая у нее была, что уехала, фикус в новую землю не посадив?
– Ивановна аккуратная… была. Фикус свой она любила, – ответила Дондукова. – Вряд ли б она фикус так бросила, он ведь погибнуть может. Это уж что-то должно было ее сильно потрясти, если так оставила. А может, это печник разворошил, искал что-нибудь в фикусе?
Полицейские переглянулись.
– Сейчас поищем причину… – сказал Витя. – Может, и найдем.
Осмотрели комнату. Застеленная постель, шкафы для одежды и для книг, круглый стол со старомодной скатертью, телевизор, половичок на полу… Все, кроме брошенного фикуса, было в порядке, без особых примет. В шкафу все вещи сложены аккуратно. Порывшись, Витя обнаружил в выдвижном ящике деньги, пересчитал, показав понятым, – оказалось двадцать тысяч. Понятые покивали – да, мол, понятно.
– А что ж деньги не взял? – спросила недоуменно Дондукова. – И не видно, чтоб, кроме фикуса, где-то искал, не выдвинуты ящики, не раскинуто ничего…
Дондуков молча ткнул ее в бок – не твое дело, мол. Полицейские промолчали.
– Это значит, что, скорее всего, неожиданно для него самого, в горячке получилось… Не собирался, должно, грабить, – пояснил Потапов.
Елена Семеновна отрешенно на все смотрела: вряд ли это имеет отношение к исчезновению Коли. Лучше б искали мальчика. Вот некстати все это, отвлекает от дела. А вдруг этот убийца теперь тоже по лесу бродит?
После того как записали все в протокол, вышли опять в кухню. Там сержант, его звали Толик, пристроился с бумагами к кухонному столу, а лейтенант Витя стал осматривать помещение. «Печка разобрана, пол возле нее тоже, а на остальном пространстве засыпан цементом и кирпичной крошкой», – диктовал он. Толик записывал.
Потапов, поначалу стоявший молча, рядом со Шварц и Дондуковыми, прошел по кухне, низко наклонился и стал вглядываться в этот грязный пол.
– Посмотри-ка сюда, – вдруг обратился он к Вите. – Что это тут черное засохло, брызги какие-то… Это не краска… и тем более не грязь. Витя тоже наклонился низко, стал даже на коленки, рискуя запачкать форменные брюки. Теперь они вдвоем внимательно разглядывали пол.
– Да, надо проверить… – сказал наконец лейтенант. – Похоже на кровь. – Он соскреб засохшие пятна в специальный пакетик и обратился к Толику: – Записывай: «Темно-бордовые засохшие брызги неизвестного происхождения…» И мне кажется, тело волочили – как дорога к двери ведет: грязь, пыль как подметена…
Потапов кивнул:
– Да, видно, он труп волоком к двери тащил… Это надо в протокол тоже записать.
Пока лейтенант отряхивал брюки, понятые поставили подписи под протоколом, где Толик указал. Вышли, опечатали дверь в дом. Дондуковы побрели к себе, а полицейские и Шварц сели в машину Потапова.
Только теперь Елена Семеновна заговорила.
– Что ж это, – сказала она, – получается, вокруг поселка убийца ходит? Что это за печник? Где его теперь искать? А если Коля наш на него в лесу наткнется?
Полицейские переглянулись.
– На надо волноваться. Мальчика ищут. А печника этого мы тоже искать будем. Он ведь, говорят, из Рудни?
– Рассказывал он сам, что из Рудни приехал. А там кто его знает… – кивнул Дондуков.
Шварц молчала, не спрашивала больше ничего. На душе у нее было тяжело. Так и поехали. Потапов тоже молча крутил баранку. Уже смеркалось. Они целый день проездили, а ведь собирались ненадолго.
«Неужели Юра с Машей еще не вернулись и бедная Таня так и сидит с Петей целый день?» – вспомнилось Елене Семеновне. Она вышла возле дома Кондрашовых. Потапов повез полицейских в участок.