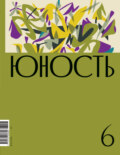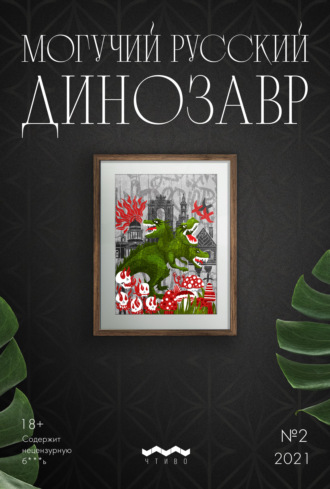
Литературно-художественный журнал
Могучий русский динозавр. №2 2021 г.
Автобус высадил их на остановке «Универмаг». Леонид Семенович и девочка держали в руках свои шубы, шли по занесённым песком улицам, никого не встречая по пути. Они вошли в универмаг, магазин «Голубые платья и белые рубашки» был открыт. Они купили одежду, продавщица в высоком тюрбане, чернокожая, улыбалась девочке, смеялась над Леонидом Семёновичем, который, стоя на одном колене, помогал девочке надеть туфельку.
– Веве ни бабу вакучекеша! – смеялась молодая чернокожая продавщица.
Леонид Семёнович и девочка вышли из универмага и зашагали по улице. Они увидели впереди большой котлован, в нём бурлила вода, в воду был опущен трос; двое чернокожих юношей спорили на странном языке.
Леонид Семёнович смотрел на них: они говорили друг другу о чём-то, как будто в стихах, а трос в воде стал быстро вздрагивать. Девочка сказала:
– Там человек под водой.
Леонид Семёнович подбежал к котловану, схватил трос и стал рывками поднимать его, молодые негры смотрели на него испуганно.
Леонид Семёнович выбрал последний метр троса и схватил под руки человека, вытащил из воды и положил на жёлтую размокшую глину, которая здесь была всей землёй. Молодая женщина с глиняной амфорой в руке кашляла, выплёвывая грязную воду, глаза её, широко раскрытые, смотрели на Леонида Семёновича и девочку, которая взяла у неё из рук тяжёлую амфору и сразу же уронила. Амфора раскололась, и в глиняной каше, которой она была наполнена, показались золотые монеты. Женщина кашляла, всхлипывала, хватала ртом воздух, а руками обнимала девочку. Негры смотрели на Леонида Семёновича и бормотали один другому:
– Хую бабу ни мкубвакама темпо.

Чаепитие | Николай Старообрядцев
Софья Николаевна сидела в небольшом мягком креслице у окна и синей ниткой вышивала изящный вензель на белом платочке, натянутом на пяльцах. В дверь комнаты постучали. Она отложила рукоделие, опустила ноги в тёплые тапочки, отороченные мехом. Бесшумно ступая по мягкому ковру, подошла к двери и, повернув блестящую медную ручку, открыла её. Григорьев, специалист отдела планирования, работавший с Софьей Николаевной на одном заводе, стоял в коридоре и теребил в руках свою серую шляпу, энергично разминая нервными пальцами и без того истёртые поля.
– Добрый день, Софья Николаевна! Шёл мимо и увидел ваше окно. Взбрело в голову: дай зайду, поздороваюсь, – затараторил Григорьев. – Помните, давеча проходили с вами после работы, вы мне окна-то ваши и указали.
– Заходите скорее, Игнатий Петрович, – приветливо улыбаясь, Софья Николаевна отошла от двери вглубь комнаты, приглашая Григорьева. – Очень правильно сделали, что заглянули. А я как раз чай пить собиралась.
– Да ведь я ненадолго, всего только на минуточку, – Григорьев широким шагом вступил в комнату. – Предложение ваше, впрочем, приму с удовольствием величайшим, но только по причине того, что за чаем буду не так неловок, как без чаю, хоть и пристыжён уже неприличной пустотой своих рук, отсутствием, так сказать, сладостных продуктов к столу в них, моих руках, то есть, для непосредственного вручения вам, Софья Николаевна.
– Проходите же, снимайте туфли и дайте вашу шляпу, – пролепетала Софья Николаевна, оторопевшая от нелепой тирады Григорьева, но и не без некоторого удовольствия, вызванного его смущением, бросающимся в глаза. – Садитесь к столу, буду поить вас чаем.
Но прежде чем заняться сервировкой стола, Софья Николаевна подошла к креслицу и как можно небрежнее, стараясь случайно не возбудить любопытства Григорьева, убрала своё рукоделие на широкий подоконник и немного прикрыла занавески так, чтобы одна из них скрыла вышитое.
Немного левее окна была установлена простая деревянная ширма. Она была предназначена для отделения некоего пространства, выделенного из комнаты для приготовления пищи и удовлетворения простейших гигиенических нужд. За ширмой этой помещалась электрическая плитка с чайником, маленький рукомойник, зеркало в узорчатой гипсовой рамке, несколько кастрюль и сковород, а также небольшой шкафчик, содержащий в себе, по всей видимости, мелкие предметы кухонного хозяйства.
В то время как Софья Николаевна, скрывшись за ширмой, извлекала из шкафчика чашки и бумажные свёртки, в которых хранились запасённые на случай гостей лакомства, Григорьев принялся с грохотом придвигать к журнальному столику, стоявшему подле креслица, столь же аккуратную маленькую табуреточку, отставленную в угол комнаты. Излишне шаркая ногами и ежесекундно оборачиваясь, придавая своими кривляниями процессу придвижения табуретки к столу как бы чрезвычайную деликатность, Григорьев улучил момент и загнул голову в сторону окна, чтобы увидеть прикрытую занавеской вышивку, сокрытие которой он, разумеется, приметил. На белой ткани платочка, туго натянутого на пяльцах, была изображена недовышитая латинская буква «S», затейливо обрамлённая цветочными лепестками.
– Вы такой высокий… Должно быть, с такими длинными ногами будет не очень уютно сидеть в такой крошечной обстановке, – сказала Софья Николаевна, появившаяся из-за ширмы с горячим чайником и тарелкой, в которой лежали козинаки и большой кусок щербета.
– Нет-нет, не беспокойтесь, я устроился совершеннейшим образом уютно, – заторопился Григорьев. – Я, знаете ли, не охотник до пиршеств в тронных залах, а вот такие маленькие комнатки, почти кукольные комнатки, – это, откроюсь вам, моя тайная страсть!
– Это почему же? – рассмеялась Софья Николаевна, оторопевшая уже во второй раз и даже остановившаяся посреди комнаты с двумя фарфоровыми чашками, расписанными гжелью. – Какие такие кукольные комнатки?
– Я может и сдуру ляпнул про эти комнатки, Софья Николаевна, – продолжал лепетать Григорьев, – просто прольститься перед вами желая в извинение за неожиданный визит свой. А комнатки эти – сущий пустяк. Люблю просто, как царь Пётр, при великом росте мелкие объёмы оккупируемых пространств. Пугаюсь лишь только мысли, будто это во мне из-за желания казаться больше, чем я по факту своего существования являюсь. Или даже в скорлупке какой оказаться хочется, всё равно, что был бы я невылупившийся птенец.
– Глупости какие, Игнатий Петрович! Птенец, скажете тоже, – разливая по чашкам горячий чай, возмутилась Софья Николаевна, – при вашем-то росте и вашем значении на заводе, – при этих словах Григорьев невольно приосанился и поправил узел галстука, до того безобразнейше висевший. – Вы даже скромнее, чем от вас можно было бы ожидать! Пейте, пожалуйста, чай. С мятой, мама из деревни привезла, очень вкусно.
– М-м-м, и правда, восхитительный чай, – отпив немного, прошептал Григорьев, – давно не пивал такого. Вкусней любого вина, ей богу, Софья Николаевна.
– А вы вино любите? – удивлённо, но тут же смутившись, спросила Софья Николаевна. – То есть я хотела сказать, вкус вина умеете понимать?
– О, нет совсем, – расхохотался неожиданно громко Григорьев. – Мне до такой изысканности далеко шагать. Про вино это я так, для красного словца. Я ведь спиртного почти совсем не приемлю. Расслабляет мысль, знаете ли. Поэтом стать можно. Могу пива светлого выпить кружку после бани, уж больно хорошо, но больше – ни-ни!
– Строгий вы человек, Игнатий Петрович, – надломила щербет Софья Николаевна. – А я вот люблю поэзию. Ахматову, Гумилёва, Есенина очень. Мне кажется, поэзия делает человека внутренне светлее…
– Позвольте вам возразить, Софья Николаевна, – перебил вдруг Григорьев. – То есть не совсем возразить категорично, а как бы возразить, одновременно соглашаясь. Мыслится мне, будто просто есть рычажок некий в человеке, как бы кнопочка золотая, нажмёшь – и светлее становится. И любит так человек просветляться, искать, чем поднажать на эту кнопочку, невзначай как бы поднажать, будто прислониться к холодной твёрдой стене и спину почесать усталую. Есть ловкость рук – фокусами-покусами обзывается в цирках, а есть ловкость человеческого языка – называют поэзией или высоким штилем. А я другое поэзией называю. Вот помните, после работы у проходной мы случайно встретились и пошли неожиданно по одной дороге? Вы домой пешком всегда ходите, да и я в тот вечер пройтись решил – уж больно погода хорошей была. И вот идём мы, значит, в одном направлении, но поодаль друг от друга. Не знакомы близко вроде бы, хоть и видимся. Помните? А что дальше было, припоминаете? Старушечка горбатенькая. Идёт-ковыляет, подходит к людям и на хлебушек кротко спрашивает. Смотрят на неё люди влажными, умными глазами. Кто даст копеечку, кто десять копеечек, и пошёл прочь – от забот подальше. Интеллигентным людям вредно старушечьими эмоциями пропитываться. Вдруг замечаю я (и вы замечаете) как проходит мимо старушечки этой хулиган. Сразу видно: злодей отпетый, потому как морда протокольная, глаза навыкате, папироса во рту дымит. Сближается морда эта с бабулечкой нашей. Ну, думаю, не получишь ты, старая, копеечки, даже не проси. А чего доброго, так и собранное потеряешь. Далее – гром средь ясного неба: обращается старушка к бандиту этому, подай, дескать, на хлебобулочное изделие, мил человек. Ну, думаю: оторвёт старухе башку и в канаву выкинет такой мил человек. Ан нет! Берёт хулиган изо рта цигарку и в лужицу бросает, а другой рукой выгребает из кармана всё, что есть, и передаёт во владение бабушкино. Да говорит напоследок: благослови, мать. «Мать», сказал, представляете! Перекрестила его старушка, да тут же и прослезилась, а хулиган развернулся и прочь пошёл широкими шагами, чуть не побежал. Вот тут-то я оторопел. Подхожу к вам и говорю: позвольте до самого дома идти с вами рядом, потому как жизнь невыносимо прекрасна! Тогда и ощутил я, будто Пушкин во мне зардел, да не тот Пушкин, что с ногтями, что с картинки лукаво смотрит, а другой Пушкин – подземный что ли, глубинный Пушкин. Скрутило меня тогда бессовестно. Вот такое состояние и хочется мне именовать поэтикой бушующей и радостной жизни, а не бумаги и пыли междустраничной.
Всё то время, пока Григорьев рассказывал, Софья Николаевна держала чашку чая в руках, но отпить не решалась, боясь показаться невежливой.
– Странно вы рассуждаете, – сказала она, когда Григорьев наконец умолк. – Я тоже озадачена была этим происшествием, но каким-то смешным показалось мне оно. Нет, не смешным, ведь смеяться тут не над чем. Тут не смеяться надо. Обидно просто, что наши сограждане так равнодушны к старикам, к чужим проблемам. Особенно когда так легко помочь. Будто брезгливость какая к чужому горю. Настолько, что уличный хулиган порой кажется человечнее порядочного гражданина. Изгой оказывается человеком, хотя считают, что должно быть наоборот. Но отчего вы так воодушевились, именно, как вы говорите, до такой степени, что в вас Пушкин зардел? И при чём здесь Пушкин? Этого я совсем не могу понять.
Григорьев отломил большой кусок шербета, отправил его в рот, торопливо прожевал и запил большим глотком чая, осушив чашку практически до дна.
– А вы любите вышивать? – неожиданно резко спросил он, с каким-то даже усилием поставив чашку на столик.
– Вышивать? – недоумённо переспросила огорошенная Софья Николаевна. – Я вышиваю иногда мулине, – ответила она, напрасно пытаясь казаться невозмутимой.
– А что такое мулине, Софья Николаевна? – грубо выпалил Григорьев, требовательно наклонившись вперёд.
– Мулине? Шитьё это такое… нить… и зачем, зачем вам это, господи, – пальцы Софьи Николаевны задрожали, она поспешно спрятала руки.
– Господи! Вы упомянули имя Господа нашего? – перешёл почти на шёпот Григорьев, но чувствовался в этом и какой-то восторг, будто он только и ждал, что имя это будет упомянуто. – Господа нашего Иисуса Христа, исковерканного, освежёванного и препарированного грязными сальными руками обиженных жизнью диссидентов и отупевших от мелкой злости кухарок? Вера в которого приносит успокоение, снимает неприятный осадок от общения с руководством предприятия? Того самого, вера в которого позволяет двигать горы силой мысли, но не для того, чтобы вскрывать полезные ископаемые, таящиеся в глубине наших святых недр, и не для того, чтобы давить врага, который не дремлет, который нас гнетёт ежесекундно и неустанно, как клещ или лесной комар, а единственно только для фокуса! – перейдя почти на восторженный крик, Григорьев снова зашептал, на этот раз злобно шипя: – А как же кукольные комнаты, такие мягкие, такие уютные, что даже захочешь, то и тогда не сможешь себя тяжело травмировать в такой комнате? Мне, Софья Николаевна, думается, что в такой вот комнатке, как ваша, не достаёт какого-то постамента, тяжёлого и с острыми твёрдыми углами, желательно из белого мрамора, и почтенного старичка на стульчике, светлоокого такого старичка – мудренького и возвышенного, будто всю жизнь он писал только оды одни, да представлял при этом, будто туфельку императрицы Екатерины Великой поцеловал кротко. И вот взять рукой стульчик за ножку и неожиданно так выхватить из-под старичка, чтобы он упал вдруг и седой головушкой о край постамента ударился до крови, и схватить со стола, с блюдечка, пирожочек мягонький, и пихать в рот старичку, и приговаривать: «А что это вы, милостивый государь, пирожочек не кушаете? Али недостаточно мягок он? Недостаточно сладок для вас?» – заканчивая тираду, Григорьев весь уже извивался на табуретке и, скрючивая пальцы, изображал, как он засовывает пирожок в рот воображаемого старичка. На лице же его застыл такой спазм, будто это было лицо самого этого несчастного умирающего старичка.
Софья Николаевна резко встала и, выйдя на середину комнаты, скрестила на груди руки.
– Игнатий Петрович, – сдерживая гнев и слёзы, официально сказала она. – Я не понимаю и не желаю понимать, почему вы всё это говорите. Я совсем другого ожидала от вас. Прошу вас, если я обидела вас чем-то… простите. Не смею вас задерживать более! – проговорив это, Софья Николаевна закрыла лицо руками и отвернулась.
Григорьев вдруг снова успокоился, отвернулся к окну и пальцем руки начал было непроизвольно ковырять недоеденный щербет, но тут же отдёрнул его, поняв, видимо, нелепость и карикатурность своего занятия.
– Софья Николаевна, простите, что я устроил здесь весь этот фарс, – настойчиво, но вкрадчиво и примирительно заговорил Григорьев. – Но можно ли слушать такое? И зачем? Зачем слушать человека? Что такое вообще говорящий человек? Имеем ли мы право говорить друг другу? Я не знаю, я просто хочу сказать… я совсем не то имел в виду… будто жертвоприношение нужно совершить, чтобы другой человек посмотрел на тебя и увидел тебя, а не своё отражение, будто мы все из зеркального стекла и нужно вдребезги разбиться, чтобы не отражать, чтобы пропал этот блеск, этот вторичный искусственный свет, совсем лишний свет. Не от того ли это, что только в смерти есть соединение. Из небытия всё вышло, и всё уйдёт в небытие, а бытие, мыслимое существование – это ад на земле, ад одиночества.
Софья Николаевна отняла руки от лица и взглядом, полным страдания и неожиданного тепла посмотрела на Григорьева.
– Я понимаю вас, Игнатий Петрович, – сказала она. – Я и сама давно уже думала об этом, но не могла высказать. Извините меня, что я вас испугалась, что я обозлилась на вас и подумала, что вы меня оскорбить пришли.
– Софья Николаевна, не говорите так, прошу вас, заклинаю вас, – Григорьев как будто весь обмяк, стёк с табуретки на пол и пополз на четвереньках в сторону Софьи Николаевны.
– А я ведь и шёл к вам, чтобы оскорбить вас, чтобы надругаться, ноги об вас вытереть, – Григорьев встал на колени и обнял ноги Софьи Николаевны, прижавшись головой к животу. – Ведь давно следил за вами, год почти, всё думал: «Вот она ходит и ждёт, когда ноги об неё вытирать придут, кровью её пыль придорожную с сапог смывать будут». Но я был дураком, я ужасно, грязно ошибался, вижу это теперь! Я умереть, погибнуть хочу теперь. Умереть и воскреснуть, чтобы каждый день заново рождаться, снова умирать и снова воскресать!
Григорьев схватил Софью Николаевну и стал жадно целовать через одежду, увлекая на пол.
Через пятнадцать минут Григорьев встал и, застёгивая брюки, прошёл к двери, туда, где на крючке висели его плащ и шляпа. Пошарив в плаще, Григорьев извлёк бутылку водки и, откупорив, жадно отпил из неё.
– Есть в этом что-то ницшеанское, на мой взгляд, в хорошем глотке русской водки, – поморщившись, сказал Григорьев, не глядя на Софью Николаевну, которая тем временем села в креслице, подобрала ноги и отвернулась к окну. – Хороший сегодня день. На теплоходах хорошо по реке кататься. Вы любите теплоходы, Софья Николаевна?

Таборные | Ольга Иванова
Снявшийся поутру табор приближался к городским окраинам. До осени было ещё далеко, однако по ночам стало чуть прохладнее. Можно было продолжать кочевье, двигаться на юг, ближе к тёплому морю.
Зимовали обычно у крестьян в прибрежных сёлах, чаще хорошо знакомых по прежним годам кочевья. Если не удавалось договориться с тем, кто пускал на постой, отыскивали брошенный домишко, надворную избушку, флигель, да хоть сарай. Утепляли как могли, ставили железную печурку, которую возили с собой в открытой телеге. Прежде табор перед зимовкой ничто не могло остановить или повернуть назад.
Если женщина рожала, она с семьёй и повитухами догоняла табор после родов. Её ждали, встречали песнями, ей готовили лучшую еду, ставили хорошую маленькую палатку, в которой мать кормила младенца, укрывала его от непогоды и чужих взглядов: не сразу нового цыганёночка знакомили с соплеменниками, до сорокового дня старались особо не раскрывать, не показывать никому, кроме самых близких.
Когда смерть настигала таборного бродягу, останавливались до похорон. Хоронили на кладбище, если оно было недалеко. Место выбирали поближе к дороге. А если кладбища поблизости не случалось, так выкапывали могилу просто на обочине. Покойника заворачивали в одеяло, на котором он спал в последние дни жизни. Ставили небольшой деревянный крест. Читали молитвы, обещали покойному: пойдём ещё по этой дороге – навестим тебя. А если наши пути мимо лягут, то другой табор пойдёт. Православные шапку снимут, поклонятся, перекрестятся.
На могиле устраивали скромные поминки: курили трубки, рассказывая друг другу истории про то, каким замечательным человеком был умерший. Было вино – мужчины выпивали, пуская чашу по кругу. Женщины и дети довольствовались чаем с сушёной вишней, черносливом, курагой. На закуску ставили сывьяко – печённый в золе под костром пирог с яблоками и изюмом.
Всё действо занимало не больше двух часов. После похорон сразу снимались с места: жить рядом с могилой не позволяли старые обычаи. На этот раз нашёл покой в придорожной могиле давно хворавший Артюх. Он был не молодой, но и не старый, имел хорошую семью, в которой младшая дочь была ещё совсем маленькой, а старший, уже женатый, ждал первенца.
Жена Артюха, Марга, привезённая из румынского табора, была краснощёкой, пышногрудой, проворной и шумной. Она говорила хоть и на близком, но всё же ином наречии, а иногда переходила на румынский. Софье, двоюродной племяннице Артюха, это было интересно, и она часто просила Маргу спеть на румынском и объяснить смысл песни или спрашивала, как по-румынски будет то или иное слово.
Артюх всегда понимал жену, потому что любил её без памяти. Родила Марга пятерых детей. Старшие вышли лицом в мать, а характером в Артюха: сдержанные, молчаливые, серьёзные.
Анфим унаследовал от отца охотничье ружьё и страсть бродить по лесам в поисках добычи, которая не раз выручала табор в голодные дни. Когда он был ещё подростком, отец брал его с собой на охоту, учил стрелять, ставить силки и плашки, читать следы и слушать лесные голоса. Парень постиг эту науку в совершенстве; незадолго до смерти отец сказал ему, что теперь есть на кого оставить табор: охотник есть, к нему ружьё. Голодными не будут. Да ещё и запас хороший был: Артюху, любившему мену, удалось как-то обменять казачье седло на целый ящик заводских охотничьих патронов.
Второй, Ульян, больше всего на свете любил музыку. Скрипка досталась ему от чужого дедушки: какое-то время вместе с Артюховой семьёй кочевал подобранный на ярмарке старик. Он отстал от своего котлярского табора, угодив в тюрьму за кражу поросёнка, а выйдя вместе с неразлучной скрипкой, сильно захворал: всё время кашлял, бесконечно занимая себя музыкой. От него Ульян научился играть, и когда дедушка покидал табор, встретив наконец родню, он оставил мальчику скрипку, сказав:
– Мне уж недолго осталось. Ты теперь играй, Ульяшко. У тебя ладно выходит. Да смотри, не бросай скрипочку, она живая!
Ульян был по-цыгански красив: большеглаз, широкоплеч, высок и строен, но характером больно строг и суров. Как вырос, стал ссориться со всеми, придираясь к каждой мелочи и не перенося чужих ошибок. И однажды, так же из-за мелочи, из-за глупости, распаляясь в споре и распаляя соперника, подрался со своим двоюродным братом Силкой, старше его на два года. Парни едва не покалечили друг друга, и ни один не оказался в драке сильнее и ловчее другого. Но когда их растащили и утихомирили, Ульян прокричал, что раз его не признают правым, он покидает табор.
Так и случилось: ушёл со своей скрипкой тем же вечером, голодный – не стал обедать со всеми! – гордый, несогласный. Слышали, что приглянулся в городе какой-то торговке, вдвое старше его, и живёт в её доме, как сыр в масле катается. Иногда Артюх и Марга просили Софью погадать, как там их непутёвый сын. Выходило, что у него всё хорошо, живёт без горя. Но после его ухода стал хворать отец. И ничего не смогли сделать ни старые знахарки, ни Софья, как ни старались. Болел и чах помаленьку Артюх, пока не позвала его к себе смерть. А Ульян так и не появился в родном таборе.
Третий сын, Лога, едва подрос, в любом селе, где бы ни остановились, начал бегать в церковь, научился молиться не на цыганском языке, а по-поповски. Лет двенадцать ему было, когда он принёс псалтырь, купленный у местного дьячка. Поступок этот показался странным обитателям табора. Никто из цыган не стал бы тратить деньги на книгу. И красть никто не стал бы, в церкви грешить! Да и зачем цыганам книга? Костёр разжигать? Но настоящее удивление вызвало то, что парень, как оказалось, умеет читать.
В таборе было двое грамотных: Софья да старый Пров, научившийся чтению и письму в Варшавской тюрьме, где в молодости провёл четыре года. Знал и по-русски, и по-польски, и по-румынски. А вот теперь ещё и Лога. Он и раньше просил Прова научить его, да тот по старости уже видел плохо. А Софью попросить Лога стеснялся.
– Кто тебя научил? – пытали его цыгане.
Он отвечал:
– Попы, дьяки да прихожане. Тот маленько покажет, другой…
У костров часто вместо песен стали звучать притчи и рассказы о Христе, после которых цыгане порой впадали в тихую задумчивость. Логу прозвали в таборе Дьячком.
Алек родился нездоровым. Большеглазый, тонкорукий и тонконогий, почти до четырёх лет он не ходил, потом начал передвигаться, кособочась. Речь его до поры была невнятной, но голос был сильный и звонкий. Запевал – всё замирало вокруг, казалось, даже птицы притихали послушать цыганёнка. Софья жалела мальчишку больше других, всегда старалась приберечь для него сладкий кусочек, укрыть его потеплее, чем-то ему помочь. Он платил ей робкой привязанностью. Они будто бы чувствовали друг в друге нечто общее.
Младшая, кучерявая быстроглазая Патринка, певунья, плясунья, всеобщая любимица, опекала больного братца так, будто бы это она была старшей, а не наоборот. Она помогала ему встать с земли, поддерживала его, когда нужно было идти по камням и кочкам, освобождала для него удобное местечко в палатке или в кибитке, вовлекала его в детские игры.
Однажды, когда Софья занималась штопкой ветхого полога, напевая и аккуратно подрезая разлохмаченные края прорех острым ножом, Алек подошёл к ней кривой неуклюжей походкой, торопясь настолько, насколько у него это получалось, и стал горячо просить о чём-то. Не сразу разобрала она его путаную речь. Мальчик звал её с собой к берегу. Она взяла его за руку, помогая передвигаться, и они вместе пошли туда, куда он тянул её, вдоль реки, не по тропе, продираясь через густой прибрежный кустарник.
Когда Софья пыталась направить Алека более лёгким путём, он сопротивлялся и мотал головой. Вскоре в кустах послышались непонятные звуки – будто тяжёлое дыхание, пыхтение, шуршание. А затем сквозь ветви кустарников стало видно что-то большое, сероватое с рыжиной – какой-то зверь. Алек крепче вцепился в руку Софьи, призывно оглядываясь на неё. Когда они приблизились, животное – это был молодой олень, – заметалось, тяжело дыша, однако не убежало.
Софья велела Алеку остановиться, а сама приблизилась к оленёнку. Его задняя нога запуталась в небольшом обрывке старой рыболовной сети, затянувшейся петлёй выше копытца, а другим краем зацепившейся за обломок кривого корня, торчащего из травы. Софья хотела позвать ребят, но, оглянувшись на Алека, решила сама освободить несчастное животное. Ведь цыганские парни увидели бы в олене скорее лёгкую добычу, чем несчастное живое существо, которому нужно помочь. Мальчишка смотрел на Софью с мольбой и надеждой.
Выбившись из сил, оленёнок перестал дёргаться. Когда она приблизилась, упал и, видимо, смирился с судьбой. Софья, опустившись на колени, крепко ухватила его за ногу. Он задышал, высунув язык, как собака, но не шевельнулся. Ниже впившейся в кожу прочной сети, над самым копытцем, нога распухла и была горячей. Шепча тихонько молитву лошадиным покровителям, святым Фролу и Лавру, Софья кое-как подцепила верёвочку кончиком ножа. Непросто было разрезать её, не повредив кожу, но всё же, с большим трудом и осторожностью, Софья сумела сделать это.
Когда она поднялась, олень всё ещё неподвижно лежал на траве. Алек восторженно закричал, зверь вскочил и большими прыжками унёсся сквозь заросли. Обрывок сети остался в руке Софьи. Мальчик взял его, рассмотрел и спрятал за пазуху.
Возвращаясь в табор, Софья расспрашивала парнишку, откуда он узнал об олене: ведь далеко от костров табора он один не отходил никогда. Алек отвечал:
– Он звал меня.
У палаток встревоженная мать начала спрашивать, куда ходили. Но Софья поняла, что Алек не хочет рассказывать о происшествии. Наверняка им стали бы пенять, что вкусное мясо не попало в котёл. Она сказала, что были на берегу, собирали пёстрые камешки для гадания. Алек смотрел на неё с благодарностью. Он сжёг в костре обрывок сети и тщательно разворошил пепел.
В другой раз мальчишка стал проситься со старшим братом в лес, проверять силки. Тот не хотел брать – Алек ходил плохо и медленно, – но Софья уговорила, да и Лога вступился: пусть погуляет братишка! Что он всё время у костра, да у костра! Надо и ему больные ножки размять. Анфим согласился, только когда Лога сказал, что с ними пойдёт. Старший быстро ушёл вперёд, а Лога с братишкой шли медленнее, и Алек всё время тянул в сторону.
– Куда ты, куда? – спрашивал Дьячок, а парнишка показывал рукой вглубь леса.
– Туда, туда!
На полянке у старой берёзы под корнями в силке трепыхалась ушастая сова. Алек сам освободил её, упав рядом с ней на колени. Однако она и не думала улетать. Набожный и милосердный, старший брат с умилением смотрел, как младший осторожно расправляет птице перья и бережно складывает крылья.
– Ты отпусти её! – попросил Лога.
Алек ответил:
– Я её не держу. Она не может лететь.
– Повредилась?
– Нет. Она пить очень хочет. Вон там лужица, видишь? Напоить её надо. Она давно здесь. Плохо ей.
Лога намочил в прозрачной лесной лужице конец своего кушака и выжал немного водицы в ловко раскрытый Алеком клюв. После второй порции совушка стала встряхиваться и осторожно распускать крылья над ладонями мальчика, но улетать не торопилась.
В лесу послышался посвист Анфима, зовущего братьев. Лога отозвался звонким переливом. Алек оглянулся на него тревожно:
– Сову же не едят?
– Не едят. Она мышей ловит, её есть противно. Только уж если совсем нечего.
Мальчик успокоенно заулыбался.
Анфим подошёл почти неслышно, но сова сразу повернула голову в его сторону, защёлкала клювом и раскинула пёстрые крылья. Алек склонился над ней и прикрыл её рукой, оберегая от охотника. Анфим показал свою добычу: четырёх куропаток и рябчика, притороченных к поясу. А о сове сказал:
– Добыча ваша нестоящая. Разве собакам отдать.
Алек с трудом встал на ноги и поднял сову над головой:
– Лети, совушка, подружка моя! Ещё увидимся!
Птица несколько раз взмахнула крыльями, тяжело оторвалась от рук своего благодетеля. Сначала полетела, снижаясь, но потом в несколько сильных взмахов поднялась и исчезла за деревьями. Анфим оглянулся на братьев:
– Ну, вот как с вами на охоту идти? В игрушки играете… Ладно, этот, малой ещё, но ты-то, Лога!
– На что тебе сова? – спросил Дьячок. – Пусть летает, мышей меньше будет. Давеча вон просвирки-то погрызли…
– Вот то-то, что с совы вашей толку нет, – отвечал старший брат.
Он взял Алека подмышки, поднял на валежину и подставил ему спину:
– Полезай, брат! А то с тобой до ночи не дойдём к табору. Э, да в тебе весу, как в той сове!
Софья с Терезкой и Патринкой встретили братьев на опушке. Девушки копали и складывали в мешок сладкие корешки медовой огнецветки. За спиной Терезки в тёплой шалюшке дремал ребёнок.
– А у меня вот тоже дитёнок за спиной! – весело закричал Анфим.
Смеясь и перешучиваясь, весёлая компания отправилась к табору.
Только когда девушки принялись щипать и потрошить охотничью добычу, погрустневший Алек сказал так, что слышала только Софья:
– Я их есть не буду… Они живые были.
Софья обняла его и зашептала ему на ушко:
– Миленький мой! Ты ведь знаешь: вокруг нас всё так! Если бы рябчик в силок не попался, его бы ястреб поймал. Волк овечку ест, лисица мышку ловит. По-другому они не могут! Господь их такими создал! И нас Господь создал так. Дороги наши дальние, на одной траве не проживёшь! А тебе и подавно кушать надо: хворый ты, ножки худые!
Алек со слезами побрёл к брату:
– Лога, зачем Господь велел нам мясо кушать? Я не хочу! Я птиц и зверей жалею!
Лога, помолчав, серьёзно ответил:
– На Петровский пост я тоже мяса не ел… Да и не было у нас, помнишь? А сейчас поста нет, можно… Пока здесь стоим, на хлебушке, на корешках да на травах продержимся… А пойдём – тяжело будет.
Но с той поры Алек не ел ни похлёбку из птицы, ни мясо, как его ни уговаривали. Иногда мог покушать немного рыбы, если кому-то удавалось её поймать в быстрой речке. Софья специально чистила для него печённые в костре корешки огнецветки, размышляя над его странностями и при этом любя его всей душой.
– Вот братовья у меня! – посмеивался Анфим. – Дьячок да монашек!