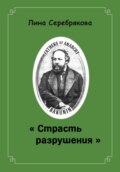Лина Серебрякова
Чувствительные истории
Никто не хотел быть излишне чувствительным, но, что ни говори, любовь к родному городу живет в глубине души, особенно в такие минуты! «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля… кипучая, могучая, никем не победимая…» – нестройно потянули голоса и смолкли, не помня слов.
Часы на Спасской башне пробили шесть раз.
– Оо-уу-ээ! – зашумела молодежь. – Вставай, страна огромная!
Сразу несколько магнитофоном врубились наперебой, всех охватил счастливый порыв. Молодой народ принялся танцевать на гладкой брусчатке, ходить на руках, просто прыгать на месте. Образовали огромный хоровод, больше, больше, побежали по кругу, быстрее, быстрее. Расцепили руки, сделали арку, стали играть в «ручеек». Шум, гам, смех, хохот.
Конечно, полиция была готова к встрече с буйной сменой, но стояла поодаль, не вмешиваясь. Молодые должны отбеситься, это полезно для здоровья, как доказывают психологи.
Зато вовсю шустрили фотографы.
– Мгновенная фотография на память! Цветная открытка на всю жизнь!
– Марианна, ты не сердишься на меня? – Дима казался смущенным, но совсем немного.
– Я? Ничуть. А надо? – Марианна сделала наивные глаза, не переставая подпрыгивать под музыку.
Он ударил кулаком о кулак.
– Вот за что я тебя уважаю. И откуда ты взялась такая на мою голову? Не уступаешь, не то, что некоторые.
– Какие такие некоторые? Почему не знаю?
Он обнял ее за плечи.
– Давай сфотографируемся на память.
– Хоть на всю жизнь
Они встали в очередь.
Сначала, по просьбе Димы, ее сняли одну на фоне Василия Блаженного, потом вдвоем, смеясь и подняв руки в приветствии. После этого Дима снялся один. Услуга стоила недешево, пришлось сложиться, чтобы оплатить несколько фотографий, зато качество оказалось превосходным. Марианна, румяная, хорошенькая как актриса, улыбалась нежно и задорно, глаза ее лучились, прядка волос лежала на лбу, отделенная от прически свежим утренним ветерком.
Зато Дима, несмотря на улыбку, получился унылым, словно бы виноватым, особенно глаза, в которых таилась настороженность.
– Похоже, Димочка, у тебя душа не на месте, – объявила ему Марианна. – Покайся, пока не поздно, в чем согрешил?
Он быстро взглянул на нее и отвел глаза. Она засмеялась.
– Ага, угадала! Что натворил на пороге новой жизни? Ну-ка, ну-ка признавайся, а то не будет удачи, – она шутила, не подозревая, как точно, слово за словом, попадает прямо в цель.
– Грехи наши тяжкие, – усмехнулся он.
– Во-от. Солдат – всегда солдат, – почему-то произнесла она, хлопнула в ладоши, подпрыгнула и убежала.
Он ошалело посмотрел вслед. Провел ладонью по стриженой голове, поморгал рыжими ресницами и закурил.
На обратном пути весь автобус заснул. Лишь классный наставник, бдительная Любовь Андреевна была, как обычно, на своем посту. «Какие вы все красивые, молодые, – любовалась она. – Как вы открыты всему хорошему! Дай вам Бог, ребята, мирной жизни и добрых людей на пути».
Возле школы некоторых пришлось тормошить и расталкивать по-настоящему.
– Вставай, в школу пора! Уроки проспишь! Звонок давно было!
Опять стало весело.
– Прощай, школа! Прощайте, великие мыслители над входом! Здравствуй, новая жизнь!
Вечером у Димы собрались близкие друзья.
Квартира была тесная, однокомнатная, на первом этаже.
Старой хозяйки уже не было, о ней напоминала ее мебель, сделанная лет сорок-пятьдесят назад, крепкая, береженая, уже старинная, можно сказать, середины прошлого века, с точеными фигурными ножками, волнистыми кромками, шариками, деревянными листочками. За стеклами серванта красовалась редкостная посуда, на самих стеклах были нанесены морозные матовые узоры. Стулья тоже были подстать обстановке, с высокими резными гнутыми спинками, с плюшевыми сидениями, к сожалению, всего два стула.
Поэтому сейчас вокруг дубового раздвинутого стола гости сидели на табуретках, чемоданах, на досках, положенных на две опоры.
Как всегда на таких торжествах, было много вина, водки, пирогов, салатов-винегретов, холодца, жареных куриных ножек.
Шум, смех, табачный дым наполняли дом.
Мать с заплаканными глазами подавала угощение, меняла тарелки, собранные по соседям, отец разливал по рюмкам и стаканам.
Последний нонешний денечек
Гуляю с вами я друзья,
А завтра рано чуть светочек
Заплачет вся моя семья.
– запели ребята, положив руки друг другу на плечи, раскачиваясь за столом из стороны в сторону.
Из всего выпуска в армию уходил пока один Дима.
Остальные юноши надеялись поступить в институты, оттянуть, либо вовсе откосить от военной службы. Вечер перешел в ночь, но соседи по дому терпели пьяный гомон, крики, всплески беспорядочного веселья, орущий магнитофон. Ничего не поделаешь, проводы в армию. Надо.
– Марианна! – кричал Дима. – Жди меня! Обещаешь?
– Будь спокоен, Димочка, не сомневайся, – отвечала она под взглядом его матери.
Та грустно улыбалась.
Никто не знал, что через улицу, на балконе своего дома сидела и тихонько плакала в темноте Оля. Она до последней минуты ждала приглашения на проводы, вспоминала все, что случилось между ними, его ласки, свою нежность, и не верила, не верила, что все это ничего не значило. К вечеру забежала выспавшаяся Ленка, тряся кудрями, протараторила о поездке на Красную площадь и умчалась на проводы. Оля тоже ушла из дома, ходила-бродила по парку, присела на ту скамейку и все звала, звала в душе Диму.
Темнело. Было тепло и таинственно, как вчера, даже соловьиные трели были так же сладостны и томительны.
На обратном пути она прошла мимо его дома.
Окна были раскрыты, из квартиры доносился шум, музыка, на подоконнике сидела Марианна и любезничала с Димой. С тоненьким стоном Оля побежала прочь. Сейчас, в теплоте ночи, среди цветов, благоухающих в длинных подставках, она давилась слезами, тихо, чтобы не услышали родители и младшие братья.
Но и тень обиды не омрачала сердце.
– Я все равно тебя люблю, Дима. – шептала она, словно он был рядом. – Я буду думать о тебе день и ночь, день и ночь, я не могу по-другому. Служи спокойно, я буду тебя ждать.
Что за город был до войны Грозный!
Мощный, крепкий, словно из единого куска скалы! Никуда бы не уезжать из него, жить с друзьями и соседями… И где все это? Где величественный, построенный на века главный проспект, где надежная гостиница из тяжелого тесаного камня, где театр, куда ходили всем классом на утренние спектакли? А шумные рестораны, а маленькие кафе, куда забегали в мае посидеть за бокалом молочного коктейля со свежей клубникой… а светлые прямые улицы, в пространствах которых приезжему человеку почему-то грезился выход к морю?
Почему это случилось? Руины, руины. Они уже не горели, не дымились, но потихоньку разбирались, жители ютились в подвалах, было холодно и бесприютно в родном городе.
Зато горела душа.
В первую же увольнительную Дима навестил Руслана.
В свой дом он не пошел, лишь постоял, закусив губу, перед забором. Одна плашка забора по-прежнему держалась на верхнем гвозде, это была детская тайна, лаз, чтобы убегать без разрешения. Возле крыльца стояла собачья конура, но без Пирата. В их белом одноэтажном доме жили другие люди, купившие его за тройку железнодорожных билетов, когда Соколовы спешно уезжали в Москву к спасительнице-старушке.
Дима толкнул соседнюю калитку.
Увидя солдата в форме, в доме закричала женщина. На крыльцо выскочил бородатый мужчина с автоматом в руках.
– Руслан, не стреляй, это я! – успел крикнуть Дима, падая на землю. – Салам алейкум!
– Димка! Алейкум салам!
Они обнялись.
Руслан был неузнаваем. За четыре года он стал настоящим мужчиной, воином, отцом двоих детей. В его жене Дима узнал одноклассницу Патимат, красивую строгую чеченскую девушку, всегда опускавшую глаза перед мальчиками.
Для молодежи Чечни существуют очень строгие правила поведения, и никто не решился бы, например, запросто взять девушку за руку. Предписания для замужней женщины не менее суровы, но и мужчина, муж, несет неукоснительные обязательства перед семьей и всем родом.
Первейшие из них – безопасность и благополучие семейства.
В их доме все было по-прежнему. Ковры, легкая мебель, чистота. Навстречу ему поднялась грузная женщина, мать Руслана, обняла его и заплакала, двое черноглазых карапузов смотрели на него испуганными глазами и вдруг громко заревели. Патимат увела их и больше не появлялась. Дима отдал подарки: сладости, игрушки, шелковый отрез и большую банку оливкового масла. Мать подала жареную баранину, зелень, сыр.
Разговор стал беседой друзей детства, понимающих, что есть темы, которых лучше не касаться. Поговорили об одноклассниках, о Москве, о здоровье родителей. Дважды звонил мобильный телефон. Руслан отвечал кратко, говорил, что занят и скоро перезвонит сам.
Наконец, пришла пора уходить.
Руслан поднялся вместе с ним. Полагая, что это дань вежливости, Дима было запротестовал, говоря, что помнит каждый камень, но Руслан прервал его.
– Я провожу тебя лишь мимо одного места, – и вышел вместе с ним, – не все знают, что ты мой друг.
Они пошли переулками. Была середина лета, в садах зрел урожай, на грядках поспевали томаты, ярко зеленела киндза.
– Каких дров наломали, Руслан? Ты ненавидеть меня должен…
Тот молчал. Они почти достигли широкой улицы, когда Руслан неожиданно и сильно толкнул Диму с тротуара.
– Ложись!
Он опоздал. Пуля просвистела мимо Диминой груди, сбила, словно срезала, армейский значок.
– Эй, прекрати? Он со мной, не видишь? – закричал Руслан, не показывая Диме, в какую сторону предназначаются его слова.
– Круто, – Дима поднялся, поковырял пальцем рваную дырочку, оставшуюся на камуфляжной рубахе. – Вы всех гостей так встречаете?
– Незваным гостям и не так достается, – усмехнулся Руслан.
В начале улицы, откуда просматривалось расположение военной части, Руслан на прощанье хлопнул его по спине.
– А тебя, оказывается, Аллах любит, джигит! – подмигнул он, показывая в широкой улыбке ровные зубы, потом захватил пятерней свою бороду, легонько дернул. – Можно сказать, второй раз родился.
– Почему?
– Потому, что этот снайпер промахов не дает. Видно, за тебя какая-то женщина молится.
– Мать, наверное.
– Нет. Смерть от мужчины молодая отводит. Все, прощай, будь осторожен, один не ходи, в темноте тоже оберегайся. Аллах Акбар!
– Давай.
«Молодая… – думал он. – Порядочки, однако».
Ему было крепко не по себе.
В части, доложив о возвращении, Дмитрий заступил на дежурство, сменив Гошку Алексеева, веселого москвича с гитарой. Тот был сыном банковского служащего, но в душе своей был поэтом, скитальцем и сухопутным мореходом, знал назубок оснастку всех парусных судов, бредил коралловыми островами, белыми пляжами и пальмами, и обо всем этом пел под гитару.
В час прилива на лиловом побережье
В благовонных рощах, где ликует какаду,
Бригантину с именем девичьи-нежным
Я на камне полосатом жду.
Сейчас Гошка, быстро шагнув к нему, пригнулся и уставился глазами на дырку в зеленой пятнистой рубашке.
– Ничего себе! О, Родина, нежны твои объятия! Как цел остался, брат? За кого Богу молиться?
Он был серьезен, хотя и дурачился. Он был очень умен.
– Полный атас, – Дима помотал головой. – Ну, встретили, угостили по всем законам, а на обратном пути чуть не загремел. Знаешь, я почувствовал, как пуля чиркнула по груди. Блин. По родной земле, как заяц скакать будешь да оглядываться, – он выругался крепко и замысловато.
– Из таких гостей не принесешь костей, – сказал Гошка-поэт. – В рубашке родился, кто-то за тебя поклоны бьет. Поздравляю с боевым крещением. Все, бывай.
Дима молча посмотрел ему вслед.
В жаркие дни июля Оля отнесла документы в педагогическое училище.
Она хотела стать учительницей младших классов, как Клав-Диванна, и, может быть, даже в своей школе. Семья не препятствовала. Отчим ее, деловой человек, армянин, державший бензиновый бизнес, был слишком занят и ни во что не вмешивался, а мама, хотя и поддержала, но…
– Очень подходящее дело для женщины, – определила она, – правда, не денежное. Может, не стоит спешить, дочка? Здоровье не купишь. Экзамены да экзамены, мыслимое ли дело. Отдохни годик, наберись сил. Мы, слава богу, не бедные.
Анна Николаевна была заведующей буфетов Аэрофлота и знала, что говорила. С хорошим здоровьем можно спроворить любую работу, тут диплом в подспорье, что и говорить, но с юных лет впрягаться в деловую гонку вредно, тягловая сила приходит позже. А в семнадцать-то лет кто решает на всю жизнь? Сначала бы отдохнуть, съездить куда-нибудь развеяться, а потом и смотреть на свежую голову.
Но Оля не хотела терять времени.
Экзамены начинались двадцать пятого июля. Первый сочинение, потом математика, за ней почему-то история. Ворчливые слова матери словно приоткрыли ей дальнее многообразие жизни на годы и годы. Оля успокоилась и вернулась к учебникам, как к старым друзьям, с помощью которых она мягко вступит в новую жизнь.
Однако новые мысли мало-помалу завладели ее существом.
Недели через три после ночного свидания с Димой она ощутила легкую незнакомую дурноту. Стоило ей посмотреть на сметану, которую она всегда любила, особенно с вареньем, или просто подумать о жире, о пирожных с кремом, как ее передергивало от отвращения. Даже мысль о них вызывала тошноту. Такого с нею никогда не бывало. Потом начались головокружения от запаха мяса.
Оля ужаснулась.
Она поняла, что именно с ней произошло, но поспешила уверить себя, что это ошибка, которая бесследно рассеется дней через десять, не позже. Как она прожила это время, страшно вспомнить. Дальше стало еще хуже, подозрения укреплялись с каждым днем.
Сомнений не было. Страх, точно колючий еж, поселился в ее душе. Как быть? Куда идти? К какому доктору?
Зачем?
Она чувствовала себя на краю пропасти, и пропасть эта дышала в лицо смертельным холодом.
Мать же старалась кормить свою дочку на-славу.
Самые вкусные колбасы, котлеты, жареные окорочка, студни, пирожные выставляла она стол для нее и двух младших сыновей, смуглых сообразительных мальчишек. Братья ели за четверых, Оля не ела почти ничего, кроме фруктов, но Анна Николаевна была спокойна.
А дочка в это время прощалась с жизнью. Строчки учебников вихрились где-то на самых окраинах ее сознания, все мысли с ужасом разбивались об один и тот же вопрос, и даже не вопрос, а гибельное предчувствие неминучей беды. Она уходила в лес и плакала, плакала, обняв древесный ствол.
Но и тогда в ее душе не родилось ни укора, ни упрека.
За сочинение Оля получила четверку. Готовясь к математике, старалась отвлечься, вникнуть в задачи и примеры, решала, справлялась, но будто шла по проволоке над обрывом.
Что делать, что делать?
Была суббота.
Отец увез сыновей на дачу, мать осталась дома, собираясь пройтись по магазинам, и громко разговаривала с дочерью через всю квартиру. Оля через силу одевалась на выход, на консультацию перед математикой. Сегодня ей было особенно нехорошо.
– Я пошла, мама, – проговорила она еле слышно и больше не видела ничего, упав у самой двери.
Очнулась на широкой постели в спальне родителей.
– Оля! Оля! – слышался далекий голос.
Она открыла глаза.
Мать стояла над ней и натирала ей виски одеколоном.
– Слава Богу! – проговорила она, – лежи, не подымайся. Я вызову «скорую».
– Не надо, – качнула головой Оля.
– И то правда, ты в себя пришла, – согласилась Анна Николаевна. – Тогда участкового терапевта. Говорила я, не надо этих экзаменов, будь они неладны.
Оля заплакала. Она отвернулась к стене, слезы стекали на парчовое одеяло.
– Не надо терапевта, мама. Я не больна. Я сейчас пойду.
Она села на постели, мигая мокрыми ресницами. Мать молча смотрела на дочь. Что-то ей мелькнуло… Оля, бледная, как полотно, поднялась на ноги, качнулась и вновь опустилась на постель, едва не подломив руку.
– Доча, что с тобой? – тихо проговорила мать.
Оля не отвечала. Она снова отвернулась к стене, слезы бежали ручьями. Поникнув, мать молча присела возле нее, стала гладить ее тонкую руку, пальцы.
– Давно?
– Полтора месяца, – прошептала дочь.
Мать сидела, раскачиваясь, как болванчик.
– Женится? – спросила безнадежно.
Оля помотала головой. Та вновь принялась раскачиваться вперед-назад. Озабоченное лицо ее застыло на одной мысли.
– Так, дочка, – наконец, сказала она с твердостью. – Я должна тебе кое-что рассказать. Давно бы пора, да я все медлила, балда, медлила. Все думала, рано, рано.
И просто, по-домашнему, Анна Николаевна рассказала дочери, что в их роду по женской линии существует закон: первая беременность должна закончиться родами, иначе детей не будет вообще.
– Мне об этом сказала твоя прабабушка. А тетя Нина, сестра моя, не поверила, хотя и была замужем, вот и осталась бездетной. Зато я…
– Значит, я родилась не в браке? – посмотрела на нее Оля. – И мой отец не погиб в экспедиции?
Женщина вздохнула.
– Мне тридцать пять, доча. Тебе скоро восемнадцать. Вот и считай, какой там брак. Зато ты живешь, на белый свет глядишь. Неужто плохо?
Они помолчали.
– А как же папа? – спросила Оля.
– С ним я познакомилась, когда тебе было уже два года. Ребенок, знай это твердо, лишь украшает молодую женщину, если она самостоятельна, весела, следит за собой и не падает духом. Ребенок – это такая радость, Оля, ни с чем не сравнится. Подожди, сама увидишь. Мужики не дураки, видят, где им хорошо. Как говориться, замуж выйти – не напасть, как бы замужем не пропасть. Вот и будешь выбирать спокойно. Все к лучшему, доченька. Рубен тебя поддержит.
– Где вы встретились?
– У входа в метро. Я выходила, он входил. Увидел меня и все забыл, куда, откуда, идет за мной, одну меня в целом свете видит. Эх-ма! Совсем недавно, будто вчера, а уже пятнадцать лет пролетело.
Оля лежала спокойно, дыхание было ровным, почти незаметным. Бледное лицо порозовело. Впервые за последний месяц кошмар больше не вился над нею. Мать умела снять тяжесть с души. Жизнь возвращалась.
Оля обняла маму, прижалась к ней. Их слезы смешались.
– Спасибо, мамочка, я так переживала, до края дошла.
– Знаю, доченька.
– Я уже туда смотрела…
– Тихо, тихо, брось эти мысли. Все позади. Теперь тебе и свою жизнь жить, и ребенка растить. Мы тебя любим, всегда с тобой, держись за свою семью. Все вместе малого подымем.
– Тебе кажется, мальчик? – смущенно спросила дочь.
– Как мне, бабке, торкнуло, так и будет, внучок народится. Дай-то Бог. И никого не бойся, ходи смело, голову не опускай. Сейчас главное – здоровье. Твое и ребенка, он уже настрадался, пока ты раскачивалась. Отдыхай, ягоды собирай на даче. В сентябре в Крым поедем, в море купаться.
– Родненькая моя! – Оля снова заплакала, прижавшись к матери, потом с тревогой вскинула глаза. – А что папа скажет? Ты же знаешь, какой он, когда разойдется.
– Я с ним поговорю, не бери в голову. Рубен поймет, – она со вздохом обняла Олю и усмехнулась. – Как моя мать в тридцать шесть лет стала бабкой, так и я, как раз к тридцати шести подгадаю. Значит, ничего не поделаешь, от судьбы не уйдешь, суженого-ряженого на коне не объедешь. Ох-хо-хо. Слава Богу, поговорили. Лежи, сил набирайся. Я в магазин пойду. Чего тебе хочется, чего душа желает? Огурчика малосольного, селедочки?
– Да. И кефира.
– Кефир не стоит пить сейчас, там спирту много. Творожку куплю, ягод.
– И мороженого.
– И мороженого. Два возьму, мне тоже охота. Я ж у тебя молодая, меня еще «девушкой» называют.
– Ты самая красивая, мамочка, самая хорошая. Как бы я сейчас без тебя…
– А-а… Так-то и меня мои поддержали. Уж как я убивалась, как убивалась по дураку тому непутевому! А дома ни полсловечка худого не услышала, ни упрека, взгляда косого, ничего. Родная кровь – великое дело.
Стоял ранний сентябрь.
Дни были яркие, совсем летние, и лишь кое-где в зелени деревьев, словно ранняя седина, проглядывали пожелтевшие ветви.
В Академии текстиля шли занятия по рисунку. В светлом двустороннем зале вкруговую у центрального возвышения сидели перед мольбертами студенты, и, посматривая на стоящего вполоборота обнаженного пожилого мужчину, усердно водили мягкими карандашами по большим листам бумаги, вырисовывая голову, торс, руки, ноги. Натура была дрябловатая, изрезанная складками и морщинами, нелегкая для рисования, поскольку требовала тонкого владения светотенью.
Сквозь белые занавеси на окнах струился мягкий свет, долетал ветерок, доносился уличный шум, редкие автомобильные гудки.
Все углубленно работали.
Преподаватель, молодой полнеющий мужчина с бородкой, в мелких круглых очках, похожий на сельского интеллигента прежних времен, медленно ходил между рядов. Постояв за спиной рисующего, он наклонялся и тихонько направлял его руку. Немного дольше он задержался возле Марианны, чуть заметно кивнул головой и проследовал дальше.
В коридоре прозвенел звонок.
– Подпишите и сдайте работы мне, – сказал художник. – Марианна, останьтесь, пожалуйста.
– Я только вымою руки, Миша, сейчас, одну минуточку, – Марианна, напевая, побежала в коридор, держа перед собой испачканные карандашной пылью ладони.
Он оглянулся вслед, чуть щуря глаза, словно собирался ее рисовать. Через минуту она вернулась и встала в струнку.
– Как лист перед травой.
Он засмеялся.
– Прекрасно. Мне нравится ваш рисунок, Марианна, у вас необычная собственная манера. Мне бы хотелось взглянуть на ваши домашние наработки, чтобы, по возможности, выбрать из них для студенческой выставки. Не возражаете?
– Я на седьмом небе, Миша.
– Тогда принесите то, что считаете удачным, в мою мастерскую. Знаете, где это? На улице Вавилова. Вот адрес. В понедельник, среду, пятницу, когда удобно. Долго не собирайтесь, время дорого.
– Вы очень добры.
– Посмотрим, посмотрим.
Он ухватил папку со студенческими работами и поспешил уйти.
«Ай да я!»– подпрыгнула Марианна.
Первые студенческие дни казались сказкой.
Стипендия, новые друзья, лекции о творчестве. И поклонники. В первую же неделю ее проводили до дому пять человек, один за другим, все со старших курсов. «Что же будет дальше? Арифметическая прогрессия?» – счастливо зажмурилась она. После экзаменационно-вступительной страды Марианна вновь обрела свое обычное счастливо-летящее состояние, шутила, звонко-призывно хохотала и кокетничала напропалую.
– Ах, хорошо! Ах, удивительно! – начинался и заканчивался каждый ее день.
Сейчас она заспешила на третий этаж в аудиторию ручного ткачества.
Ах, она – обычная первокурсница в короткой бархатной юбочке песочного цвета, желтой блузе и кожаной зеленой жилетке с золотистой строчкой вдоль скругленных бортов. Зеленую кожу для жилетки она сняла с одной старомодной сумки, которую продавали по дешевке на развале у станции метро «Щелковская», а на подкладку выкроила лоскут переливчатого шелка из старого маминого плаща. Скроила, прострочила, чуть не дрожа от нетерпения, золотым люрексом за одно воскресенье, и в понедельник явилась в обновке. «Полный отпад!»– сказали девчонки. И теперь время от времени она украдкой отводила пальчиками изнанку, любуясь игрой цветов, и это тоже было лучиком счастья.
Ах, чудно, славно!
И косы она сохранила. Со всевозможной тщательностью укладывала их в блестящие перевитые пряди по обеим сторонам головы, будто принцесса Лея из «Звездных войн».
Прежняя жизнь, школа, изостудия преобразовались в новую жизнь, полную творческого общения, захватывающих планов и трудов, ведь если сосредоточиться и взяться, можно сделать все!
Но тянулись письма от Димы.
Они приходили дважды в неделю, многословные, на шесть тетрадных листов, убористые, с подробностями о солдатской жизни, учениях, десантах, друзьях, их стихах про океаны и, конечно же, в каждой строчке о любви, любви, любви. С их страниц подымалась волна молодого мужского томления, такая волнующая для той, что ждет солдатских писем изо дня в день, и столь неуместная, когда читаешь вполглаза по диагонали.
«Зато почерк отменный, – вздыхала Марианна, – с завитушками, росчерками, с ошибками».
Скрепя сердце, она отвечала через три послания на четвертое, придумывала какие-то новости, общемосковские сплетни, приветы от одноклассников. Радость, ее спутница, невольно светилась между строк, питая пустые надежды военнослужащего Дмитрия Соколова.
В аудитории декоративного искусства все получили деревянную рамку – «станок» размером с альбом для рисования, моток толстых суровых ниток, круглую деревянную палочку – «пруток» и клубочки цветной шерстяной пряжи.
– Господа студенты! – улыбаясь с едва заметным превосходством, обратилась к ним аспирантка Академии красавица Инга Вишневская. – Мы приступаем к освоению ручного ткачества. Здесь на стенах висят гобелены и шпалеры, то-есть, тканые ковры-картины, созданные в прошлых веках и в наше время. До Нового года вам предстоит соткать свой гобелен по собственному рисунку и получить зачет. Лучшие работы удостоятся места на выставке и премии. Начинаем.
Ингу Вишневскую все заметили еще в первый день, на торжествах посвящения в студенты; главным впечатлением от нее оказалась ее внешность и наряд, созданный с участием ее высокого искусства. Ее представили как мастера во всех видах декоративного художества, строгую до въедливости наставницу молодых талантов. Это почувствовалось сразу.
Не теряя времени, Инга приступила к занятиям.
– Записываем порядок сно́вки осно́в, Первое. Конец нити клубка перекинуть через верхний вал на рабочую сторону станка и привязать к левому концу прутка слева направо. Показываю.
Часа через два на всех станках подросли сантиметра на три-четыре толстые коврики из яркой шерстяной пряжи. Вместо рисунков на них пестрели многоцветные учебные полоски и пятна, выполненные разными техниками соединения утков и основы. У Марианны получилась сложная волнистая линия из голубой шерсти и косой треугольничек белого паруса.
Воображение разыгралось. Открылось новое поле для творчества.
На улицу Вавилова Марианна приехала на другой же день в среду после занятий.
Накрапывал осенний дождик, асфальт был темным и блестящим. Следуя трамвайным путям, откусывая от желтой груши в свободной руке, она свернула налево к странному сооружению. Во дворе пятиэтажного здания привычного школьного типа из двух корпусов, соединенных заглубленным спортивным залом, рос, уродливо и впритык, другой дом, узкий и несуразный как шкаф, высотой втрое большей, чем школа; прозрачные стены его были прорезаны каркасным бетоном, за окнами виднелись пестрые занавески, мольберты, банки с кистями и карандашами.
Марианна смотрела с недоумением. Архитектурное уродство и нахальство сооружения были вопиющими, неслыханными для Москвы. Тем не менее, уличный номер торчащего выскочки совпадал с номером дома на ее записке.
Она подошла ближе и все поняла. Ей стало смешно.
– Сумасшедшие! Чтобы не платить лишних денег, эти художники умудрились выстроить дом на пятачке фонтана на школьном дворе! Но куда смотрели архитекторы? Не успели, наверное, и глазом моргнуть.
Веселая, точно от хорошей шутки, она вошла в «шкаф», взлетела на лифте под самую крышу, на двенадцатый этаж, постучала в дверь номер 12-9. Никто не открыл. Зато из соседней двери выглянул черноволосый толстяк в цветисто-испачканной куртке и длинно улыбнулся.
– Вы натурщица? Заходите ко мне.
Марианна гневно сверкнула глазами.
– Я студентка.
– Извините, – проговорил тот, взглянув на широкую папку в ее руке, – Не заметил. Простите великодушно. Вы ищете Мишу? Он, вероятно, в старом здании у Нестора. Там вам покажут на входе.
Фыркнув, Марианна повернулась и побежала вниз по всем лестничным виткам.
«Нестор какой-то… А уменьшительное имя как? Интересно».
Она вышла и тут же, из двери в дверь, потянула на себя ручку запасного черного хода в «школу». Судя по царящему скупердяйству, поиском парадного входа можно было пренебречь, там наверняка разместилась парочка-другая личных мастерских.
Старушка, сидевшая за столом под нависавшим уклоном лестницы, строго оглядела ее.
– К Нестору?
– Точнее, к Михаилу Игоревичу, если он там.
– Там, там. Второй этаж, мастерская номер четыре.
Шагая через ступеньку, готовая к новым головоломкам, она поднялась выше.
Так и есть. Вместо широкого светлого коридора, рассчитанного на беготню двух сотен детей, по его направлению шел узкий темный проход, отгороженный от светлых окон с несколькими самодельными стенами и украденными дверями.
Каждое окно теперь служило искусству. Пахло масляными красками, скипидаром, свежими древесными опилками.
Шум голосов был слышен еще с лестницы. Источником его было помещение за дверью номер четыре. Эта высокая филенчатая дверь была коренной жительницей классной комнаты, на нее просилась табличка с номером класса.
Марианна постучала. Гул прервался.
– Кто бы это?
Открыл высокий молодой мужчина, стройный, с прядями волос по обеим сторонам лица. При виде красивой девушки он улыбнулся и подался назад, приглашая ее зайти.
– О, как приятно. Прошу вас.
Тонкие полудлинные волосы его, свисая на обе стороны, легко отозвались на это движение.
– Здравствуйте, – она переступила порог доверчиво и смело.
В мастерской шло застолье. Человек семь-восемь, одни мужчины, сидели вокруг широкого комода, заляпанного краской, уставленного бутылками и закусками, порезанными прямо на бумаге. С появлением Марианны все взоры обратились к ней.
– О, Марианна! – вскочил Миша. – Это ко мне, ребята, моя студентка. Пойдемте, пойдемте. Извините меня.
– Нет, почему же, – возразил тот, кто открыл ей дверь. – Входите, будьте нашей гостьей. – Он придвинул ей табурет, выкрашенный в серый цвет. – Мое имя Нестор, это мои друзья. Что будете пить? Есть водка и вермут. Нет, еще и джин-тоник остался.
Она села пряменько, как на картинке, чуть-чуть пригубила из стакана, откусила от яблока и стала с интересом постреливать глазами по сторонам.
Мастерская была просторная, настоящий школьный класс на два окна.
Стены остались белыми, пол зеленым. Посередине комнаты стоял добротный деревянный подрамник; один брус его был расщеплен и перевязан липкой прозрачно-синей лентой. На полу у стен накопились большие и маленькие рамы с холстами, прислоненные неинтересной тыльной стороной наружу. Над ними располагались в три длинных ряда простые деревянные полки, на которых среди пестрых книжных корешков поблескивала однообразным золотым тиснение многотомная энциклопедия. У другой стены ближе к горячим батареям стоял топчан, покрытый одеялом.
На подоконниках, как водится, теснились банки с красками, кистями, карандашами. Стопками лежали тетради и альбомы.
Словом, это была обычная мастерская художника, если бы не присутствие на полу высокой прутяной клетки с крупной птицей.
Марианна посмотрела на хозяина.
– Кто это?
– Фазан. Подарок из Казахстана, – ответил Нестор.
Он наклонился к клетке и погладил пленницу.
– Что, птица, как дела? Скучно, брат?
– Как ее зовут?
– «Птица»