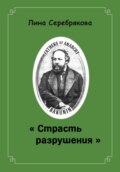Лина Серебрякова
Избегнув чар Сократа…
Он обвел нас торжествующим взглядом. Без сомнения, ему давно хотелось предъявить свой символ веры, утереть нос и порвать нас к чертовой матери, настолько он ощущал себя правым и победоносным.
Все молчали. Дождь поредел, за окном быстро светлело.
– Слова, слова, слова, – выпрямился, наконец, Сашка. – Валера прав, туфта на постном масле. Сдается, ты вроде клеща в денежной куче, впился и пухнешь втихую. Как там у вас: оценили называемые предметы и обмениваетесь? Нагреваете всех, спина шифером, типа, мы наверху, а вас, чуханόв, как бы и не видно. Труба твое дело.
Откинув голову, Лев скосил глаза и процедил с расстановкой.
– Зато… я не стану кричать о пятом измерении… не имея и двух копеек в дырявом кармане.
Сашка вскочил как ужаленный, но Валера остерегающе качнул ладонью.
– Естественно, – продолжал Лев ободрённо, – мне смешна идея всеобщего равенства, и не нами сказано: кто не имеет миллиарда, пусть пойдет… У кого есть деньги, тому нéчего бояться.
Тишина нависла вновь.
– Понял, – кивнул, наконец, Валера. – Есть деньги – и ты умнее жизни.
Лев пожал плечами, усаживаясь на свое место.
Во дворе заблестела мокрая листва, тепло и ясно засветилось бабье лето. В осенней позолоте листвы засновали воробьи, а вместе с ними и новые, похожие на них, чуть более крупные, еще не улетевшие птицы. Дрозды? Они стремительны и боевиты, и много мыслей высвечивается при созерцании их.
– Вы закончили? – бесстрастно спросил Дед, тихонько похлопывая перед собой ладонью. – Отвернувшись от мира Духа, современный человек с головой погрузился в тоскливую повседневность. К счастью, для ищущего истина может открыться везде, даже в деньгах, на которых в литературе держится стойкое проклятие. Не зря поминалась здесь пресловутая «честная бедность».
Он перевел дыхание. Поднялся и стал собирать бумаги на столе.
– Денежные потоки вихрятся по земному шару, запущенные до-гомеровскими финикийцами в качестве неизвестной Субстанции, из других пространств. И чтобы художественно словить ее суть, нужна строгая аскеза мысли, – Дед пронзительно взглянул на Льва. – Мир нов каждую минуту, друзья мои, все в нем для ищущего духа. Не верьте, что это не так. Такая слепота выгодна чиновникам. Ищите, творите, сражайтесь!
Он передал бумаги Льву и Саше.
– Через неделю обсудим вас и вас (меня и Валеру). Обращаюсь ко всем: следите и за содержанием, и за построением. «Что» и «Как».
22 сентября
В законном звании студентов Литературного института мы с Валерой вышагивали от станции метро Баррикадная к Центральному дому литератора на «День поэзии». Была пятница, конец недели, когда москвичи распыляются по Подмосковью в один дачный слой. На Садовом же кольце и в подземном переходе по-прежнему теснились горожане и назойливые гости столицы.
– Ты ощущаешь толпу, в которой идешь? – спросила я.
– Нет, – насторожился он. – В толпе я один.
– А когда один?
– Во мне толпа, – и удивленно взглянул на меня. – Глубоко.
Прелесть! Насколько же никто не видит «Другого», в особенности, нас, женщин! Соня права.
Большую Никитскую мы пересекли по зебре перед запаленными капотами, пошли, взглядывая на старинные особняки. Вышвырнув их владельцев в прошлом веке, вожди отдали прекрасные дома под иностранные посольства; в ворота и поныне въезжают представительские автомобили.
Вот и ЦДЛ.
Увы, и этот дивный особняк особы древне-княжеского рода в горе-времена и в горе-обстоятельствах также оказался в чужих руках. Об этом невозможно забыть, переступая порог Центрального Дома писателей. Почему меня тревожат судьбы владельцев?
О, моя чистая двушка, приобретенная на свои кровные!
В сумрачном фойе держалась тишина и прохлада. С простенков белели афиши, приглашая на бесплатные встречи с малоизвестными авторами в Малый зал, и за крутые деньги со знаменитыми писателями (или с проектами своих издателей?) в зал Большой. Прохаживались туда-сюда гении и классики. Справа уходила вверх мраморная ковровая лестница. Вдоль нее, и далее в верхнем фойе висели на стенах портреты сановитых советских писателей с задумчивым пальцем у лба, с глубокой думою в очах. Пестрели россыпи наградных торжеств.
– Уйдем.
Валера кивнул.
Что сказать о Валере? Что обаяние его задушевности окутывает словно облаком, и таков он со всеми (ласковый теленок всех маток сосет). Что породисто белокур и темноглаз, что сам из казаков и служил в казачьем полку на лошадках, а значит, братишка свой в подкову? И что предок его, полковник казачьего войска, имел честь перед строем на серебряном подносе поднести рюмку водки царю Александру III.
– Где-то я видела картину о том событии, в Третьяковке, по-моему.
– Да. Она там, – и даже приобнял меня.
В фойе продавали книги, собирался народ.
К поэзии, честно сказать, я строга, ценю лишь те стихи, от единой строки которых вздрагивает сердце:
Не буря соколы занесе чрезъ поля широкая…
или
Когда волнуется желтеющая нива…
или
Еду ли ночью по улице темной. Друг мой!
Подобно Висяше Белинскому, я удручена «фабрикацией стихов», и не дерзаю искать жемчужин.
– Ты читаешь стихи в журналах?
– Редко.
Мы уселись в Малом зале в третьем ряду. Зал наполнялся. И вновь смутной грезой привиделась былая роскошь княжеских покоев, куда меня не звали, никогда бы не пригласили, вновь взроптала совесть на дедов, огрузивших нас, нас не спросясь.
Скудный, обобранный Малый зал!
О «Дне поэзии» выскажусь снисходительно к пылкой юности.
Свобода, свобода, пиши, что душа просит!.. и распахнули души, а в них оказались не храмы, а серые пятиэтажки. Молодые порывы полны эроса и страха с тенью корысти. Взрастем ли, сравняемся с «Серебряным веком»? Общее же – цеховое стихо-вытьё с вывернутостью в сторону «великих», и это, странно, общая черта наших певцов от седой древности! Вспомним:
По былинам сего времени,
А не по замышлению Бояню!
Боян бо вещий,
аще кому хотяше песнь творити…
Боян же, братие, не десять соколов
на стадо лебедей пущаше…
тройная оглядка на Бояна в зачине «Слова о полку Игореве».
И под конец – смешное и грустное.
– Извините, если буду сбиваться, я не совсем готов, – улыбнулся поэт-юноша
Тогда «зачем ты открыл рот?» (Цицерон). Поразительный пофигизм к слушателям и к самим себе!
В общем, по окончании пиитического буйства по грубым каменным ступеням мы спустились в Нижний буфет, настоящий бункер. Глубокий, без окон, никак не соответствующий изящному модерну наземной части особняка. Там встретился знакомый Валеры, художник Грос (его ник), высокий, гибкий молодой мужчина с проницательным взглядом. Пригласил за свой столик.
Я выложила из сумки водичку и три пирожка с мясом, из тех, чем побаловала с утречка своих домашних.
Художник засмеялся.
– Голод не тетка, пирожка не поднесет! Очень кстати! Пить будете? – из его сумки мелькнула и тут же исчезла под столом бутылка.
Валера принес стаканы. Я отказалась. Они разлили себе.
И тотчас стали сбегаться мужички с глазами кроликов, хлопать Валеру по плечам, по спине… Я не верила своим глазам. Живущий в Москве без году неделю, наш казачок оброс друзьями, как травой. И вовсе не потому, что обитает в общежитии, где, по обыкновению, проходной двор, но по далеко-вперед-смотрящим намерениям. Тум-тум-тум… Не в пример мне: «де, я у себя дома, и покорять столицу мне не нужно, для моих сочинений двери издательств распахнутся сами». Жди-пожди.
Они выпили. Прищурив глаза, художник смотрел на меня.
– Знаешь, скво, в этом подвале ты самая красивая.
– Я везде самая красивая, – отбила я.
Смешавшись, он взглянул на Валеру. Тот кивнул.
– Аннета – самая красивая женщина в институте.
– На курсе.
– В институте. И лучше всех одеваешься.
Грос зажегся интересом.
– И как живется с таким знанием? Что есть красота, по-твоему?
Ответ был давным-давно с болью выбит на моих скрижалях.
– Красота – это топор под компас.
Мы длинно посмотрели в глаза друг другу. Я послала на его антенны образ грез и самобичеваний, высекших ту запись.
Он принял.
– Все знаешь. Тебя пора убивать.
Они вновь плеснули из подпольной, из-под полы, бутылки. Мне было гнётно в мрачном подвале. Разговор оборвался: сжав губы, Валера молча смотрел перед собой.
– Эй, очнись!
Он потряс головой – не мешай! и перевел дыхание.
– Уплыла строка незаписанная…
– Без блокнота ходишь?
– Без.
Грос изучающе переводил взгляд с него на меня, обратно.
– Чем займешься по окончании? – спросил серьезно. – Честнóй писаниной не прокормиться, у нас «маститые» в сторожах ходят.
Тот отмахнулся.
– Найдусь. Ни одна протяжка в будущее не работает, нечего и загадывать. Мир нов каждую минуту, – и теплой ладонью накрыл мою руку. – Что притихла?
– Ужасное место, – поежилась я. – Ужели для советских мастеров пера не нашлось места посветлее?
Грос хмыкнул.
– Хороший вопрос. В те времена был доступен зал приёмов на первом этаже. Светлый, нарядный, просторный, с изящно-изогнутой лестницей посередине, балкончиками, лепниной, в общем, достойная княжеская гридня. Там и шумел на всю Москву ресторан Союза писателей во главе с великим Сергеем Михалковым. Сам жил человек и другим давал жить. На сей день этот зал хамски заперт богатеями именно для литературной братии.
Его окликнули.
– Прошу извинить, – он поднялся для приветствия. – Сейчас вернусь.
Пока его не было, Валера быстренько рассказал, что Грос поначалу рисовал картинки к детским книжкам, рисовал-рисовал, да и взялся писать рассказы сам.
– И как?
– Здóрово. Я тебе покажу, он мне подарил.
Художник вернулся, с улыбкой потирая руки, и обратился ко мне.
– Прежде чем убивать, надо бы тебе книжку подарить, – и, достав из сумки, принялся надписывать небольшую книгу в твердом переплете с изображением солнечной горбатой улицы и смешного трамвая.
Суждено ли мне когда-нибудь марать дарственные на своих книгах?
– Держи. Ему уже дал. Он честный мужик.
– Спасибо, – с уважением приняла я. – Это первая?
– Вторая.
– Мои поздравления.
– Принято. Так вот. Писательский буфет находился в боковом зальчике при том ресторане. Грановитый, сводчатый, белый-белый, как сахарный домик. Каких стихов не набросали вкривь и вкось на его светлые стены! все таланты, десятки мгновений!.. Ну, а в девяностые все сцапал шустрый, по-ихнему, швыдкой, министр культуры, продал-перепродал, и следы замел.
Я вздохнула. Мерзко. Ни одной приятной мысли за день. А день хороший.
26 сентября
Семинар
Никогда, ни на одном экзамене, не случалось такой трясучки! Ой, уже читают! Ой, смеются! Иголки по телу, «жестокие раны самолюбия».
Сюжет моего рассказа был прост: молодая девушка, удрученная уродством, решается на пластическую операцию, сотрудницы замирают в ожидании чуда; когда же, преображенная, она возвращается, то встречает не только восхищение, но и колкую злобу завистниц. Но человечность торжествует.
В висках стучало, обморочно пахло кипятком.
Первым отозвался Лев.
– А знаете, мне понравилось, – он с улыбкой пожал плечами. – Соня права, пусть женщины пишут о себе сами. Мне бы и в голову не влетело. Вроде просто, а глубины шевелятся. Как на бирже.
Меня отпустило.
– Согласен, – вступил Сашка Нервный, и я повернулась к нему. – Зрелостью отдает, похоже на прозу, видно, что человек работает. Не усекаю «как» именно, но текст летит, сквозная тяга с самого начала. Излишни, имхо, кудахтанья пенсионерки, но, будь я женщиной, я бы кое-что о себе узнал.
– «Узнала», – съехидничал Лев.
– Не суть.
Все засмеялись.
Соня уязвлено шевельнула бровями.
– Да. Пусть. Но (душа моя сжалась!) я не понимаю, зачем показывать дурное? Почему надо наворотить, а потом расхлёбывать? Ну, похорошела, живи, радуйся…
– А кого это парит? – дернулся Сашка. – Везде борьба, корни под землей и то дерутся. Я считаю, рассказ удался, дух благородства на высоте, Аннета молодец, пожелаем ей успехов. Хотя…– он наморщил лоб и пошарил глазами по потолку, – хотя соглашусь и с Соней тоже, эти книжные истории чаще всего и растут-то из сора – страстей, ошибок. Что не так в датском королевстве? Звездная отрешенность, где ты?
– В пятом измерении, – съязвил Лев.
Молчал только Валерий, ему было не до меня, обсуждение его рассказа нестерпимо накатывало.
Дед отставил свой стул.
– Друзья мои! Во внутренних боях радость лишь изредка посещает нас, зато надежды, страхи, разочарования мятутся без конца. Показан не только окутывающий рой эмоций, но и глубинная основа человека. В их сочетании – нравственный посыл автора, поданный непринужденно, как бы само собою. Просматривается и мастерство: простые и сложные предложения, зеркальные построения внутри фраз, связки, предлоги, которые, как известно, работают тоньше падежей. Едва ли это случайно, идет наработка стиля, чувствуется нацеленная рука. И удивительно: если сама Аннета воспринимается как обаятельная молодая женщина, но проза ее поблескивает сталью.
Уф. Штудии в Усть-Качке не пропали втуне.
Он отдал распечатку с пометами, которую я буду «хранить вечно».
Валера сидел, окаменев.
«Первая поэма» называется его рассказ, крепкий, сдержанный, как бы сжатый силой героя. Невозможно утаить личность автора в прозе. Что есть литература? Без сомнения, она – самое честное проявление духа.
Сюжет таков. Начинающий автор приносит маститому писателю свою рукопись, и тот, «словно горячие блины», бросает страницу за страницей, в то время как его подруга нетерпеливо окликает из машины, наехав колесом на тротуар; вот герой в пристанционном буфете берет два красных яблока (которые я увидела и вижу сейчас), сидит, положив перед собою рукопись; это привлекает внимание, три парня вызывают его, ведут в зимний ночной лесок, жестоко избивают, что-то проясняется для него в той ледяной роще.
Единодушное одобрение стало наградой автору. В немногих словах его высказали все.
– Друзья мои, – Иван Савич сложил на столе руки. – Всем нам знакомы почти неодолимые трудности, когда с рассказа «живой жизни» соскальзываешь на рассказ «о жизни». Налицо явная победа. Герои живут, действуют, за ними следишь. Валерий, вы можете расслабиться.
Валера с показательным шумом перевел дыхание.
– Рассказ достоин публикации, – заключил Дед. – Завтра отнесите его в «Литературную Россию» главному редактору. Я позвоню, это мой ученик. Итак, друзья мои, первая ласточка нашего семинара, Валерий Кашин, состоялся. Запомним это имя. И пойдем дальше. Через неделю обсудим рассказ Сони и поговорим о способах художественного воплощения. О звездной отрешенности скажем в свой черед.
Медленно, еще в вихре смятения, мы с Валерой спустились во двор. Вечерело. Бабье лето еще держалось, такое простое, милое, что казалось, после нашей встряски, никогда не задуют злыдни-ветры, не закружат метели.
– С успехом!
– С успехом!
Хлопнули и сомкнулись над головой наши ладони.
– А помнишь, как нас вызвали в деканат? Нас «вели» с самого начала, ты поняла?
– Стрёмно было?
– Отчасти, – Валера был сдержан.
– А я вся в колючках.
– Значит, успокоиться надо, – и ласково приблизил глаза. – Зайдем, посидим на радостях? Ребята подойдут. Или вдвоем хочешь?
Приятно с ним. Между нами колышутся волны желания, но не страсть, ни-ни. Уж я-то знаю. Упаси Бог.
Вопросы, вопросы.
30 сентября
Сны мои, лихие-своевольные. Кто мы, на самом деле?
Свадьба
Смеясь и подмигивая, наши друзья в последний раз поздравили нас с законным браком и закрыли за собой дверь. Мы остались вдвоем.
– Дорогая, – молодой муж мой наполнил бокалы шампанским, –любимая…
И тут пробило полночь. Брачное ложе превратилось черного козлища, платья на мне не осталось, я со свистом взвилась под потолок, вцепившись в козлиную шерсть. Все друзья вернулись в форточку и взялись отплясывать на столах в клубах дыма и пламени.
Это была настоящая свадьба!
Муж побледнел. Испарина покрыла его лоб. В глазах мелькнуло безумие.
– Ша! – гаркнула я.
Все исчезло. Я смешала его память, и в облике голубицы предстала нежному взору.
Шампанское еще играло.
– Дорогая, – пробормотал он. – Любимая…
_______________
Душа моя, где ты бываешь?
2 октября
Семинар
Ну, каких шедевров можно ожидать от Софьи Скарятиной? Режьте меня, никаких. И вовсе не из-за «очк-ечк» или «да-пусть-но». Нет и нет, ведь даже в кафе после семинаров на Малой Бронной я не заглядываю, чтобы не ранить ее, пылкую, неказистую, обделенную лучами мужского внимания, коего она лишилась бы нацело, окажись я за одним столом: самая красивая женщина на курсе – не хухры-мухры. C'est La Vie.
Простенький ее рассказик описывал майский луг и Фиалку, которая беззаботно цвела, пока возле нее не воздвигся роковой Забор, затмивший красное Солнышко; в тоске по его лучам Фиалка захирела и погибла.
– Дамское рукоделие, – шипела я при чтении. – Фиалка и Забор как женщина и мужчина? Чушь кошачья. И Фиалка жалкая, пропала ни за понюх табаку, и Забор чурбан-чурбаном. И как только Соне удалось проскочить творческий конкурс? измором, с пятого раза?
Чего-чего, а ехидства во мне на три ехидны сразу. Однако, «за Соню».
Выступать не хотел никто. На Соню было жалко смотреть, голова на грудь, лицо в огне. Головокружительное безмолвие затягивалось, адские минуты тянулись одна за другой…
Хмуро глядя перед собой, Дед молчал-молчал и вдруг грохнул кулаком по столу.
– Эй, вы, гуманисты хреновые, не догоняете, что ли, каково сейчас Соне?
Мы вздрогнули. Неужели до нас не достучаться иначе?
Первым врубился Валера, произнес бережно и нежно.
– Скажи, Соня, а нельзя было Фиалке собрать все силы и перерасти Забор? Или во имя жизни измениться и стать Ночной Фиалкой?
Соня прерывисто вздохнула.
Сашка повернулся к ней, схохмил спасительно и милосердно.
– А я бы, знаешь, пригнал Шмеля и в два счета опылил бы твою Фиалку. Пусть завьет горе веревочкой, развеет семена по ветру на зло Забору и его крыше.
Засмеялись. Соня улыбнулась.
– Какие еще способы спасти положение? – настаивал Дед. – Шевелите, шевелите мозгами, включайте воображение.
Вопреки обету молчания вступила в игру и я, нагородила чепухи в духе рассказа.
– Пусть придет Хорошая девочка, наберет букет цветов и поставит в вазу с водой, чтобы Фиалка пустила корешки и попала на грядку.
– О! – добавил Лев с полной серьезностью, подняв два пальца. – Ценно, что на грядку-то королевскую, чтобы попасть на глаза королеве, а та пришлет Хорошей девочке корзину золота. Все, торги окончены, – и он чисто взял на отлёт шляпу-котелок, лежавшую на столе.
Действительно, говорить было не о чем.
Дед встал, с шумом двинув стулом, но, против обыкновения, остался на месте, крепко опершись кулаками в стол, отчего голова его сравнялась с мощными плечами. «Еще совсем недавно, – заныло мне, – это был мужчина в полной силе. Горькая несправедливость!». Склонив лысину, несколько мгновений он собирался с мыслью.
– Друзья мои! Как явствует, в нашем случае мурашки замысла и возможности автора не совпали, что постигает время от времени всех пишущих без исключения. Сделать первую запись рассказа – это ссадить на землю Синюю Птицу, шагнуть в неведомое, в непостижимую ткань бытия. Что дóлжно извлечь из горькой неудачи? Все ощутили отсутствие в рассказе конфликта, по-русски, противостояния, противоборства, схватки, разногласия? Их глубинное развитие и выход во всечеловеческое составляет как смыслы литературных исканий, так и ежемгновенные смыслы личной битвы в каждой частичке нашего Духа. Поблагодарим Соню за полезный урок.
На этом обсуждения творчества участников семинара были окончены, после перерыва перешли к способам художественного воплощения.
Первым взял слово Лев.
– Может, и некстати, – начал небрежно, сдвинув влево планшет с биржевыми котировками, – но у моего отца есть старинный учебник «Русский синтаксис в научном освещении».
– Пешковского, – кивнул Дед. – Ценно только дореволюционное издание, и то самое раннее.
– Да. В детстве я любил читать в нем строчки курсивом. Например, как скифы ответили Александру Македонскому: «Ежели ты Бог, то должен оказывать благодеяния, а не грабить, буде же ты человек – так помни, что ты такое».
– Хорошо, – кивнул Дед, – дивное благозвучие.
– А я считаю, – заявил Сашка Нервный, – что правил нет вообще, я бы их выкинул, и несметную дробность грамматики тоже. Есть речь в одном потоке, где смыслы сами хватают слова, зато и слова тайно любят и тоже выбирают друг друга.
– Любят? – тихо переспросила Соня. – Как ты это чувствуешь?
– Затылком, позвоночником, крестцом.
– И кое-чем еще…– пропел Лев.
– И тем тоже, – мотнулся Нервов, – я так люблю русский, что другими языками брезгую, как недоносками. Сейчас Левка прочитал наизусть, и я замер, услыхав русскую речь. Первичности взыскую, с ума сойду, если не найду!
– Зачем она тебе, Шурик? – Лев светски возложил ногу на ногу и красиво свесил кисть руки. – Успех не в ней, все направления – ничто, каждое попадет в какое-то течение, обветшает и вечности жерлом пожрется.
– А я о вечности не пекусь! – вспылил Сашка, – мне найти надо! А успех возьми себе вместе с миллиардом… авось хватит на обсидиановый нож для харакири.
По лицам скользнула улыбка. Валера отжался назад от стола на вытянутые руки и напрягся, как засидевшийся атлет.
– А кстати… нужны ли сочинителю вообще какие-то правила? Кто их принимал? Шаг вправо, шаг влево, даже собственный компаш суёт дурацкие подсказки.
– Отключи. Не въезжаешь, что ли? – посмотрел Сашка.
Валера продолжал.
– Главное, по-моему, ощутить сюжет как всплывающее тело кита, его самость, плотность, а слова полетят навстречу сами.
Помолчали, обдумывая. Умнякѝ.
– Все части речи как суставчики-составчики играют на переливы состояния, – я была в теме. – Они светятся во внутренней тишине.
Вновь замолчали.
– А я боюсь абзацев, или как там по-русски, – сказал Сашка Нервный. – Ведь что в них происходит? Резкий обрыв между последним словом одного и первым словом другого, пропасть, в которую валится время, пространство, мысль, движение… чьей волей? Я без понятия. Одно из двух: либо это пошлый прием, либо непостижимая глубина. Какие мнения?
На это с насмешкой отозвался Валера.
– Сам же плакался: «деваться некуда!», вот и берем не глядя. У тебя в пятом измерении иначе будет.
Сашка дико стрельнул глазами и вдруг подался грудью, словно на амбразуру.
– Вам не страшно писать прозу? – даже голос его сел.
– Как жить, Иван Саввич? – выпалила Соня в ту же секунду.
Как все напряжены! Я замерла. «Не знаю, Катя».
Взгляд Деда стал серьезен и суров. Глубоко вздохнув, он тяжко зашагал по проходу к дальней стенке и обратно, а мы послушно поворачивались вслед.
– Ответ нам следует искать постоянно. Рожденные людьми, мы движемся к смерти, и это самая трезвая мысль, с которой следует идти по жизни навстречу всем ее вызовам.
Рывочками, с трудом он наполнил легкие раз и другой, и продолжал свободно.
– Друзья мои! Обратитесь к возвышенной стороне своего Существа: звездная отрешенность существует, как и бессмертие, как и потрясающее множество миров, в которые человечество одержимо войти, но не в ракетном же грохоте! Веками мы терпим крушения от неуклюжести наших мыслей, убогости состояний. Развивайте себя в духе, ощутите силу на кончиках пальцев, всю безмерность плоти и любви, – он замолчал, глядя сквозь осеннюю желтую листву, а мы неслись, оцепев, сквозь миры и миры. – Что ожидает нас там? Нечто абсолютно безличное.
И встряхнулся.
– Вернемся к нашим барашкам. «Правила не нужны», возглашаете вы. Добрό. Бунтуйте, пацаны, бунтуйте, пока однажды, как миленькие, не откроете грамматику, чтобы понять, почему вопрошение сильнее повествования, и как разум одного предложения связан с разумом другого в сложном подчинении.
Он отмечал пальцами кавычки и курсив.
– Классическая гимназия в Российской Империи включала изучение древнерусского, греческого, латинского с навыками сочинения на этих языках. Стили и художественные приемы, веками наработанные в просвещенном мире, были в крови у каждого выпускника, с младых ногтей их брали легко и охотно, дыша воздухом высочайшей культуры. Вот откуда Золотой век нашей поэзии. Но в 1840 году латынь и греческий были изгнаны, началось падение литературы. В 1894 году, спохватившись, вернули «мертвые языки», наградившие расцветом Серебряного века.
Мы сидели безмолвные. Преподаватель продолжал.
– Иван Бунин, наш академик русского языка, родился в глухом, заносимом под крыши степном имении, учился в заштатном Ельце, а речь! «Страшная скука томила меня», – вполне плоская фраза. Легкая перестановка и шедевр: «Скука томила меня страшная». Его же: «Стекло заискрилось мелким дождем», его же «Тучи воробьев горохом пересыпались с крыши на крышу». Всем видно? Виссарион Белинский, сын вечно пьяного армейского лекаря в Чембаре, а речь! «Осмелюсь льстить себя сладкою надеждою поспешествовать успехам отечественной литературы».
Он помолчал, глядя вниз.
– Итак, пока свежо восприятие, срочно добирайте. Глубинные тайны родного языка ждут вас, не мните себя небожителями, читайте от научных статей до порножурналов. Везде искрятся смыслы. Не жалейте себя, дабы не увязнуть в плебейских твиттах, в сиротских обносках СМИ. Творите, друзья мои! При появлении достойных произведений порядок мировой литературы меняется. И помните, невоплощенные творения мстят за себя жгучей болью окончательности.
Он перевел дух, собирая бумаги, и невнятно пробормотал в усы.
– Успеть бы выпустить вас.
12 декабря
…если можно так выразиться, вопил на всю Европу, или «ревел, как белуга», грандиозно и безобразно, чисто по-русски.
Чья это речь? Александра Блока. И о ком?! О Михаиле Бакунине.
Образ пленил меня. О, эти страсти! Руки дрожали от нетерпения. Через полтора месяца работы наш семинар получил следующую распечатку.
Мой милый миллиард
Приходилось ли Вам, читатель, просить денег? Признайтесь! Отлично ставит на место.
Еще в бытность студенткой-филологом сочиняла я как-то рассказ о современном Геракле. Образ зрелого мужчины под пером юной девицы – шаг, согласитесь, рисковый, и поэтому с прилежностью ученицы я принялась изучать лучших мужчин человечества, начиная с Овидия и Марка Аврелия, разумеется, по их письмам, дневникам, исповедям…
Однако, при чем тут миллиард? Терпение.
Шло время и пришло время – наши дни. Как-то раз, в поисках свежей идеи и "крутого" героя мне пришлось обрушить с антресолей пыльный шелестящий архив. С ветхих исписанных страничек так и встал передо мной Михаил Бакунин, наш бунтарь-анархист, его "Исповедь" царю Николаю І, даровитая, страстная, редкостная. Судите сами.
…"Государь! Я кругом виноват перед Вашим Императорским Величеством и перед законом отечества… Возмущал умы против Вас где и сколько мог… Хотел ворваться в Россию и разрушить вконец существующий порядок… Жажда простой чистой истины не угасала во мне, мне становилось душно и тошно в обыкновенном спокойном кругу, я весь был революционное желание, все вверх дном, разрушить, сжечь… Благодарю только Бога, что не дал мне сделаться извергом и палачом своих соотечественников… Стою перед Вами, как блудный, отчудившийся и развратившийся сын перед оскорбленным и гневным отцом… Государь! Я преступник великий и не заслуживаю помилования, пусть каторжная работа будет моим наказанием"…
– Сценарий! – мелькнула мысль…
И вот уже моя работа признана лучшей на конкурсе, опубликована в журнале "Киносценарии", и сам Мосфильм готов приступить к съемкам… ээ, едва зазвенит золото. Миллиард, (по безбожным ценам первого дефолта).
Приходилось ли Вам, читатель, просить миллиард?
Три вершины молодого отечественного бизнеса остановили мое внимание, три сирены, что обольщают нас со стен домов, газетных страниц и голубых экранов. Не без робости набрала я номер телефона первого из них.
– Телесериал? – проговорили задумчиво.– Интересное предложение. И сколько вам нужно?
– Миллиард.
– О-о, весьма сожалеем, но такой суммой помочь не сможем. Извините.
Сочувственно кивнув, я всмотрелась в следующие семь цифр.
– Бакунин?!! – вскипел гневом мужской голос. – Ни в коем случае! Он же отменял частную собственность и право наследования! Нет, нет, наши клиенты нас не поймут.
…маленькая-маленькая, я скатилась с высот к нижайшему подножью.
На третьей рекламной вырезке стояли буквы, которые мы помним, наверное, даже во сне. Жирные, броские, они убеждали граждан довериться заботам Компании, а солидные арифметические расчеты развеивали последние сомнения. С бьющимся сердцем нажала я белые клавиши моего телефона.
– Телесериал? – проговорили задумчиво. – Интересное предложение. И сколько вам надо?
– Миллиард.
– Платежи поэтапно?
– К-как вам удобно.
– Расскажите подробнее.
Гора наклонилась и посмотрела на меня. И показалось, что все просто, и что умные люди не могут не понять друг друга.
– Действительно, здорово, – согласился молодой человек. – Кто автор сценария?
– Р-ва.
– …ва? Эх… у них же есть прекрасные сценаристы!
– Сценарий удостоен высшей награды на конкурсе.
– Это ее первый фильм?
Я ощутила себя в свободном падении.
–У нее два высших образования, – заговорила наступательно, хватаясь за воздух, – а сценаристы… дирекция пригласит самых именитых, если будут деньги. Решайтесь! Многосерийный, исторический, захватывающий – Бакунин же!
– Хорошо уговариваете. Мы подумаем. Оставьте координаты.
Господа! Нужен один миллиард. Договоримся?
________________
Семинар одобрил. Дед настаивает на романе-жизнеописании Михаила Бакунина. Потом, потом.
7 февраля
Зимняя сессия. Экзамены, зачеты
Заочники снова вместе, в общежитии дым коромыслом, народ спешит оттянуться вдали от дома. Я в сторонке, мне подавай кладезь на уровне Деда. Теперь я знаю.
В той же тридцать пятой аудитории, где прежде яблоку негде было упасть, живые лекции не собирают и половины зала, осмелевшие студенты удостаивают присутствием лишь избранных преподавателей.
Вновь услаждает слух финал семнадцатой сонаты с безбожно смазанными вариациями. Я сохраняю каменное лицо.
А вчера с гитарой выскочил наш Сашка и так зажег «Я остаюсь, чтобы жить!», что сорвал весь банк. Днем с огнем ищут «русскую идею», а она – вот она! Как просто!
30 января
Дома, за «Античной литературой», без зубрежки не обойтись.
На дворе мороз, бело и чисто. По дороге идет мужчина, ухо трогает: минус 31. В Сибири, эх, и покруче бывало. На заснеженную ветку села ворона, рассыпала искристый снегопад, потом стала хватать клювом снег в точности, как мужичок после пьянки в той же Сибири.
«Античка»… ну-ну…
Высоко-высоко над сквером летит другая ворона и, если смотреть снизу от письменного стола, то как бы между двух проводов, о которых она не ведает в своей вышине. Тем удивительнее, что направления совпали, и крылья взмахивают между этих строк, нигде не пересекая их. Ну, как не уважать ворону? Совестно по утрам завтракать на кухне, когда они смотрят из темноты со своих ветвей.