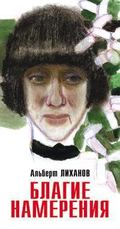Альберт Лиханов
Крутые горы
– Садись!
Вовка стремительно разделся, повесил пальто и шапку на свободный крючок, вбитый в стенку класса, потому что все мы раздевались там же, где и учились, и, еще тяжело дыша, уселся рядом со мной.
Все глядели на Вовку с удивлением и интересом, пока не раздался негромкий стук.
Я повернулся. Это стучала Анна Николаевна указкой по столу, обращая на себя внимание.
Я вгляделся в учительницу, и мне стало не по себе. Ее лицо вытянулось и напряглось.
– Они приходят часто, – сказала она вдруг и повторила бесцветным голосом, будто это был диктант, – санитарные поезда приходят часто.
– А я не знал! – сказал Вовка, и Анна Николаевна вздрогнула.
И я не знал тоже. И никто никогда не говорил мне, что к нам в город приходят санитарные поезда, даже мама, хотя она работала в госпитале. «Вот дурак! – обругал я себя. – Ведь раз мама работает в госпитале, значит, раненых привозят! Это же понятно всякому!»
Да, это было понятно всякому, а мне было непонятно, не мог я сам догадаться, что раненых привозят, и спросить у мамы, как их привозят, простофиля разэтакий.
– Часто! – повторила глухим голосом Анна Николаевна, хоть и глядя на нас, но никого не видя. Потом она встрепенулась, будто сбросила с себя это странное оцепенение – никогда еще я не видел ее такой, – и встала из-за стола.
– Вы знаете, почему такие узкие проходы между рядами в нашем классе? – спросила Анна Николаевна настойчиво и ответила сама себе: – Потому что идет война и школы в нашем городе, большие и удобные, отданы раненым, там госпитали… Вы знаете, почему вы пишете на старых газетах, а не на тетрадях? Потому что идет война и фабрики, где делали тетради, – разрушены… Вы знаете, почему вместо ярких лампочек у нас горит керосинка, а на партах свечки? Потому что энергии не хватает заводам, потому что заводы работают на всю мощь, чтобы сделать побольше снарядов!
– Знаем! – крикнул яростно Вовка, и я снова с восхищением, как бы новыми глазами оглядел его.
– Мало знать! – ответила ему Анна Николаевна, отходя к окну и всматриваясь в медленно расступающуюся темноту. – Надо понимать…
Она долго смотрела за окно и, повернувшись, повторила:
– Надо понимать…
Учительница снова оглядела класс посвежевшими, как бы умытыми глазами и вдруг сказала негромко:
– Давайте сходим после уроков… Вова Крошкин будет провожатым.
И хотя она не сказала, куда сходим, хотя никто не произнес ни звука, все поняли, куда предлагает сходить Анна Николаевна. Все поняли, что она зовет сходить к санитарному поезду, и все, наверное, благодарно удивились ее словам.
В этот день Анна Николаевна так больше никого и не спросила, кроме Нинки Правдиной, а только рассказывала про то, как генералиссимус Кутузов заманил Наполеона в Москву, и там, в горящей Москве, этот наглый завоеватель вдруг понял, что он проиграл войну, хотя выигрывал все сражения и даже выиграл сражение под деревней Бородино, и бежал в свою Францию, бросив с позором войско. Еще Анна Николаевна читала нам стихи про это Бородино и еще басню Крылова про волка, который забрался на псарню, потому что в этой басне намекалось на Кутузова и Наполеона.
Анна Николаевна говорила, а в классе было так тихо, что даже свечечные огоньки не трепетали, а словно застыли, словно они неживые были или сделаны из стекла.
Я слушал, как рассказывала Анна Николаевна, взглядывал изредка на Вовку, и он отзывался понимающе, и отчего-то мне щипало в глазах, в горле возникал непонятный комок, и мне хотелось заплакать или сделать что-нибудь замечательное.
После уроков, быстро одевшись, мы шли четкими парами к реке, к железнодорожному тупику, соблюдая строй и самостоятельно подравнявшись. Анна Николаевна торопилась за нами, оборачиваясь, я ловил ее улыбку, тыкал Вовку Крошкина в бок и приговаривал:
– Постой-ка, брат мусью!
Вовка меня понимал, прекрасно понимал, удивительный головастый человек, и отвечал в том же тоне:
– С волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой!
Мы негромко смеялись, довольно поглядывая друг на друга, шагали в ногу, печатая старыми валенками хрустящий шаг, и серьезнели, вспомнив, куда идем.
* * *
Берег круто срывался вниз. Под горой в железнодорожном тупике, подле самой воды, стоял поезд с белой от снега крышей и красными крестами по бокам.
Там шла суетня.
Подходили грузовые газогенераторки, орали на лошадей возчики, женщины в белых косынках поверх платков таскали носилки.
На носилках, укрытые серыми одеялами, лежали люди. Раненые!
Все, что делалось под горой, казалось мне развороченным муравейником – маленькие черные фигурки беспорядочно торопились на белом снегу, – но не эшелон поразил меня.
Рядом с нами на крутом берегу стояли женщины.
Они стояли по двое, редко по трое, а больше всего поодиночке – большие и маленькие, старые и молодые, но все на одно лицо, – кутали в рукава ладони и молча, скорбно глядели вниз, на эшелон.
Над головами глухо стучали друг о друга, будто крылья недобрых птиц, голые ветки мерзлых тополей, и я пронзительно понял вдруг, что случилась какая-то беда. Беда эта ужасная, непоправимая, и ничего нельзя было с ней поделать, и эти ветки, похожие на птиц, они – правда, птицы, от которых нельзя укрыться.
Я подошел к краю обрыва и обернулся, чтобы увидеть их лица. Некоторые женщины беззвучно плакали. А другие – нет, не плакали, и лица их были угрюмы. Одна женщина поразила меня особенно.
Она стояла одна; она была еще совсем молодая, но платок, низко надвинутый на лоб, делал ее старухой. Я посмотрел на эту женщину, и мне сделалось страшно. Ее глаза были прозрачны, как бы пусты, и мне неожиданно показалось, что эта женщина сейчас сделает шаг вперед. Сделает шаг вперед и бросится вниз с обрыва.
Я подбежал к ней, чтобы остановить, но она даже не заметила моего приближения. Она стояла, по-прежнему глядя вниз остекленевшими глазами, и мне показалось, что женщина слепая.
Кто-то тронул меня за плечо. Это был Вовка.
– Пойдем вниз, к эшелону, – шепнул он, но я никак не мог отойти от женщины: а вдруг она правда бросится вниз.
Вовка потащил меня за рукав к учительнице и стал проситься, чтобы она отпустила нас двоих к эшелону.
– Ну, сходите, – сказала Анна Николаевна и тронула меня за плечо: я все еще смотрел на ту женщину с пустыми глазами.
– Ей не поможешь, – сказала Анна Николаевна, вздыхая. – Им не поможешь…
Я вздрогнул. «Неужели? – подумал я. – Неужели?..» И враз, в минуту мне стало понятно, почему они тут стоят, эти женщины.
Почему они стоят здесь, а не идут вниз, к эшелону…
* * *
Внизу эшелон снова показался мне муравейником.
Торопливо сигналили машины, буксуя на обледенелом подъеме, возчики, которые вблизи оказались возчицами, безжалостно лупили лошадей, ругаясь грубыми мужскими голосами, и кони, высекая копытами грязный лед, выволакивали, напрягаясь, сани, в которых лежали раненые.
Вовка тащил меня, умело разбираясь в этом хаосе, проскакивая между подводами и машинами, между тревожными женщинами в белых косынках поверх платков, и как-то незаметно мы очутились возле самого поезда. Но Вовка не успокоился. Он шагал вдоль вагонов и наконец остановился около одного, протянув руку:
– Гляди! – проговорил он, и я увидел, что окна в вагоне без стекол – только в углах торчат острые, похожие на ножи осколки, а обшивка вагона в разных местах пробита рваными дырками.
– Бомбили! – сказал Вовка, и я со страхом представил себе, как вот в этот вагон, возле которого я стою и до которого могу свободно дотронуться рукой, ударили бомбовые осколки, как разом вылетели окна, хотя они, наверное, и были заклеены крест-накрест бумагой, чтобы выдержать эту волну. Но взрыв был близко, полоски бумаги не спасли, и, может быть, раненые, лежавшие на второй полке, упали на пол.
Я поежился и оглянулся. Сзади фыркнула и испуганно заржала лошадь. Тетка-возчица подгоняла ее к вагону, к самой подножке, но лошадь норовила повернуть в сторону или пройти вперед. Тетка яростно ругалась, хлопала вожжами, осаживала сани, конь всхрапывал и косил глазом.
В проходе раненого вагона показалась сутулая женская спина, она двигалась к выходу, ноги в ботах ощупывали каждый маленький шажок. Наконец женщина в белой косынке встала на первую ступеньку, потом еще на одну. Возчица подскочила к ней, стала помогать, но носилки были очень тяжелые, и мы с Вовкой, перегоняя друг друга, кинулись помогать вытаскивать раненого бойца, но возчица крикнула нам грубо:
– Отойдите! Отойдите! – И выругалась.
Та, вторая, повернула к нам лицо, и я тихонечко взвизгнул от радости: вот здорово, это была мама! «Ну, теперь-то она скажет этой возчице, чтоб не ругалась, даже обрадуется!» – подумал я и снова кинулся помогать, но мамино лицо сделалось белым, и она крикнула грубым, как у возчицы, голосом:
– Отойди! Отойди!
Я еще никогда не слышал, чтобы таким голосом кричала мама, и, отступив, обиделся, но тут же забыл про все.
Мама и тетка, помогавшая ей, вытащили, высоко поднимая над головой, носилки – с другой стороны их держал усатый санитар в летной пилотке, и мы увидели жуткое.
Тот, кто лежал на носилках, был укрыт с лицом, но серое одеяло оказалось коротким, и из-под него виднелись желтые, словно восковые, ноги. Санитар и мама с теткой положили носилки в сани, санитар полез обратно в вагон, а мама подбежала к нам, схватила меня и Вовку за плечи и потащила в сторону, подальше от вагона и храпящей лошади. Мама тяжело дышала, бусинки пота покрывали ее лицо.
– Вы откуда?! – торопливо, не слушая наших ответов, восклицала она. – Вы как тут?! Уходите, сейчас же уходите!
Ее окликнули. Я хотел было повернуться на голос усатого санитара, но мама больно стукнула меня по щеке.
– Не смотри! – прикрикнула она. – Не смотрите!
Я не обиделся, я понял и послушался ее, и Вовка послушался тоже.
Не оборачиваясь, мы побежали вперед, долго, до пота, до стука в висках взбирались по узкой, обледенелой тропе наверх, на обрывистый берег, где нас ждала Анна Николаевна и весь класс.
Наверху все было как прежде. Тополиные ветки глухо хлопали над головами, стояли женщины, скорбно сжав губы, вглядываясь в эшелон. Анна Николаевна была среди девчонок с посиневшими носами, куталась в платок и внимательно глядела на нас.
Вовка, покачивая головой, маленьким воздушным шаром, подошел к учительнице первым.
– Там убитые! – сказал он громко.
Меня трясло, я старался сдержаться, но чувствовал, как помимо моей воли губы разъезжаются в стороны, а учительница и ребята расплываются, как будто я вижу их сквозь затуманенное стекло.
Я вдруг вспомнил отца и тот беспечный для меня летний день.
Отец шел, сцепившись под руку с друзьями, они перегородили всю мостовую и пели про Катюшу.
А я смеялся ему вслед и радостно махал рукой, дурачок!..
* * *
Я не знаю, почему я подумал об отце.
Может быть, все-таки есть волны, которые передаются от человека к человеку? Может быть, предчувствие это не суеверие, не предрассудок, а что-то другое?
Я вздрогнул там, на берегу, подумав про отца.
И снова вздрогнул ночью. Меня будто кто-то толкнул, и я проснулся, подумав вдруг, что с отцом случилось несчастье.
В ночной тишине мерно тикали ходики, натопленная, белеющая в темноте печка дышала теплом, а мне было тревожно и неуютно, и никак не шел сон.
Вечером мама наказывала мне, чтобы я больше не ходил на берег, к тупику, чтобы не слушал Вовку Крошкина, если он станет звать меня снова. Мама сердилась, говорила, что Анне Николаевне она скажет сама про такую странную экскурсию, и я не обижался на маму за эти слова.
Она, конечно, рассчитывала, что я ее не пойму, а я прекрасно понимал. Отлично понимал, почему она сердится на Анну Николаевну, на меня, на Вовку, понимал теперь, почему она ни разу не сказала про санитарные эшелоны, про то, что она таскает на носилках раненых, и вот – даже погибших. Теперь мне все было понятно, все до последней капельки.
Мама старалась скрыть от меня войну.
Мама старалась, чтобы я про нее знал поменьше. Ел бы себе завариху, ну, слушал радио, тут никуда не денешься, не заткнешь же мне уши, и бегал бы в школу, учился себе на здоровье!
Смешно просто думала мама… Взрослая, а рассуждала как ребенок… Да разве же скроешь ее, войну, разве упрячешь ее куда-нибудь подальше?
Вот она, вся на виду, правильно говорила Анна Николаевна, – и свечки в классе, и тетрадки из старых газет, а сегодня – это страшное, куда его денешь? Я вспомнил желтые, словно восковые, ноги, изрешеченный осколками вагон, и мне стало горько.
– Гады, – прошептал я, – гады! – И сжал кулаки, вспомнив открытки, полученные от отца, женщину, нарисованную на этих открытках, и слова «Родина-мать зовет!».
Я думал не раз про эти слова, женщина с платком на плечах обращалась ко всем, значит, и ко мне, значит, и меня звала защитить Родину-мать, но я не знал, что мне делать.
Теперь я знал, что делать мне, обыкновенному первоклашке.
Убегать на войну было глупым, смешным, несерьезным – я это понимал. Это все равно что путаться под ногами у взрослых, только отвлекать их и мешать им. Значит, Родине нужно было помогать здесь. Например, шить кисеты, в третьем классе девчонки шили кисеты и вышивали цветными нитками: «Храброму бойцу». Конечно, шить – девчачье дело, но сейчас шла война, и предрассудкам было не место. Шить так шить. Пусть курят бойцы махорочку.
Я ворочался с боку на бок, представлял сшитые мною кисеты, набитые табаком. Много-много кисетов, и на каждом вышито красными нитками – нет, не «Храброму бойцу», это пусть вышивают девчонки из третьего класса, а мои, мной придуманные слова: «Бей врага!» Впрочем, эти слова тоже показались мне слабыми, можно было вышить – «Смерть фашизму!» или «Смерть фашисту!». Так было понятнее, и я, прикрыв глаза, попробовал представить себе фашиста.
Фашист походил на такого, каких рисовали на плакатах, – в рогатой каске, с вытаращенными глазами. Рукава у фашиста были закатаны, в волосатых, как у обезьяны, руках он держал дымящийся автомат.
Фашист был ужасен, отвратителен. Я вздрогнул и сказал громко, отчаянно:
– Гад, гад! – Ведь этот фашист убил бойца, которого несла мама.
На маминой кровати зашелестела простыня.
– Ты что? – спросила она тревожно.
– Гады эти фашисты! – сказал я громко. – Убили того бойца.
Мама помолчала.
– Если бы одного! – сказала она вдруг и, словно спохватившись, добавила: – Ты спи, спи!
– Спи, – обозлился я, вспоминая открытку. – Родина-мать зовет, а я спи!
Мама молчала. Я думал, она станет ругаться, а она молчала.
– Родина-мать зовет взрослых, – сказала мама, стараясь быть спокойной, но голос у нее зазвенел отчего-то. – А ты должен учиться. Ты должен учиться хорошо, гулять и спать, тебя Родина к этому зовет.
Странный человек! Она говорила со мной, как с маленьким. Учиться, гулять, спать!
– Учиться, гулять, спать! – повторил я вслух эти слова и прибавил, снова вспомнив про отца, ведь это его могли нести сегодня в носилках: – Да я их ненавижу! Ненавижу!
Мама мне говорила что-то, требовала, чтобы я спал, а я, сжав зубы, решил, что у меня будет два дела теперь. Я буду шить кисеты. И я буду ненавидеть немцев, этих проклятых гадов.
Ненависть – это не занятие, ненавидеть нельзя специально, как, например, шить кисеты. И кроме того, я ведь не видел живых фашистов.
Но я видел две желтые голые ступни убитого ими бойца.
Я видел страшное, и ненависть была для меня делом, на которое звала меня, первыша, Родина-мать.
* * *
Утром мы вышли пораньше, потому что мама хотела увидеть Анну Николаевну. Я не сопротивлялся, не возражал, ну, пусть поговорит, если хочет, ведь Анна Николаевна ни в чем не виновата. Все равно мы пошли бы к санитарному эшелону, все равно бы Вовка показал мне изрешеченный осколками вагон, в котором выбиты стекла, и Анна Николаевна тут ни при чем.
Было темно и морозно, как каждое утро, скрипел под ногами снег, как всегда. Одно было не как всегда. Я шел с открытыми глазами, шел рядом с мамой, не отставая от нее и не давая ей свою руку.
Мама удивленно поглядывала на меня сверху, но ничего не говорила, и я был благодарен ей, что она меня понимает.
Мы уже подошли к школе, как вдруг я увидел Вовку Крошкина. Небольшой воздушный шар на тонкой подставке летел нам навстречу от школы. Увидев нас, Вовка будто споткнулся и выпалил:
– Уроков не будет! Учительнице похоронка пришла!
– Какая похоронка? – спросил я впустую, зная, догадываясь, понимая, что за похоронку принесла Анне Николаевне почтальонша, и почувствовал, как крепко сжала меня за плечо мама.
– Пойдем! – сказала она глухо. – Пойдем! – И, резко повернувшись, повела меня назад, к дому.