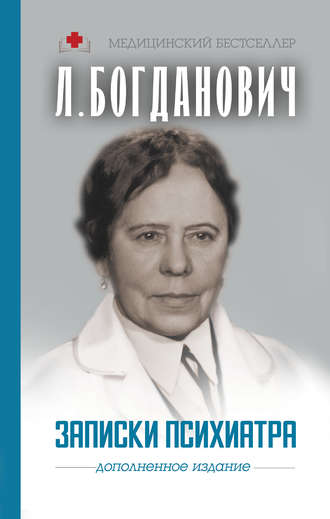
Лидия Анатольевна Богданович
Записки психиатра
Попутчики
Я только что сдала государственные экзамены. Пять лет упорного труда над книгой, в клиниках и лабораториях были позади, оставалась только одна забота: куда же ехать работать врачом? Выбор большой. Глаза разбегаются! Миновали и последние студенческие каникулы, которые я провела у родителей на юге, а теперь возвращалась в Москву.
В вагоне поезда было жарко, за окном мелькали поля спелой ржи. Попутчиков было мало. Скоро, как это бывает в поезде, с ближайшими соседями установились самые дружеские отношения.
В моем купе ехали две женщины. Одна из них врач Анна Петровна, другая – старушка Ольга Ивановна – фельдшерица. Обе направлялись из Таджикистана в Москву.
Кажется, ничего особенного не было в Анне Петровне. Худощавая блондинка с серыми спокойными глазами, с тихим голосом, неторопливыми движениями. И однако хотелось смотреть на нее, слушать ее голос.
– Вы из Таджикистана? Какая даль! – воскликнула я.
– Ну, что за даль… – возразила Анна Петровна. Ее лицо оживилось и разгладилась складка между размашистыми бровями. Старушка заснула, слегка покачиваясь от движения вагона.
– Я много читала и слышала о Таджикистане, – поспешила я предупредить.
– Да, природа и жизнь там особые… – уклончиво заметила попутчица.
– Должно быть, интересно посмотреть на караван верблюдов? – не отвыкшая от девичьего многословия, сказала я. – Они ведь очень важные, степенные; не идут, а выступают. А на шее у каждого, наверное, звенит колокольчик, словно говорит: «Давайте дорогу!» А верблюды глядят гордо, строго, свысока… Очень занятно, правда? – наконец, остановилась я.
– Да, верблюды действительно смотрят свысока, да еще и плюют на нижестоящих.
В спокойных глазах Анны Петровны промелькнула усмешка, а я от всего сердца рассмеялась. – А тигры у вас ведь тоже есть?
– О тиграх что-то не слыхала, разве на границе Афганистана? Дикие козы – джейраны водятся. До чего грациозное животное, изящное и любопытное создание! Едете вы, скажем, на автомобиле, они пугливо пересекут на всем скаку дорогу или обгонят машину, а потом вдруг замрут на месте, как вкопанные, и долго-долго провожают нас взглядом огромных черных глаз. Если джейранов вспугнуть, они, конечно, удерут, но обязательно остановятся опять и снова будут глазеть вам вслед. Любопытство сильнее страха, прямо, как у малых ребят, – улыбнулась Анна Петровна.
– А как живут таджики? Должно быть, сидят у кибиток в шелковых халатах, белых чалмах?
– Мужчины любят проводить свободное время в чайхане (чайной). Они обычно мирно беседуют и пьют кок-чай – зеленый чай.
– Это в пятидесятиградусный зной?!
– Удивляетесь? Я сперва тоже удивлялась, а затем и сама пристрастилась. Зеленый чай лучше всех напитков утоляет жажду.
– Мне рассказывал один человек, – заметила я, – что природа в Таджикистане прекрасная… Я представляю себе вокруг хлопковые поля. Тишина необычайная. Кажется, ни одного живого существа, а присмотришься, и вдруг мелькнет стройная дехканка, заметит вас, улыбнется, показав белые крепкие зубы, обожжет взглядом черных глаз, блеснет серебром сквозь шелк платка, взметнутся длинные смоляные косы, и до свидания! Только ее и видели… А кругом вьется виноград, зреют сочные гранаты… Надоело здесь жить, сел на коня и поехал на «Крышу мира» – на Памир… Вы там были?
– Пришлось… – сдержанно ответила Анна Петровна.
– Представляю себе… Я видела даже фотоснимки. На покатых горах метающий снег, а у подножия яркие цветы, наверное особенно много красных маков. Едешь, тропинка ведет все выше и выше, взглянешь вниз – без привычки, конечно, закружится голова… Страшно, должно быть, если на повороте лошадь неловко шагнет. А на дне пропасти рвется пенистая речка и такой грохот стоит, что не услышишь и попутчика… А то вдруг среди гор откроется глазам зеленая долина, а на ней стадо тучных, таких ленивых овец.
Анна Петровна вдруг рассмеялась тихим, добродушным смехом.
– Вы так рассказываете, словно все это видели своими глазами.
– А разве там иначе?
– Несколько лет тому назад, например, долина Вахш представляла собой безводную пустыню с обитателями: пауками-фалангами, ящерицами и скорпионами…
– Неужели? А теперь что там?
– Прорыли канал, пустили воду из реки Вахш… Теперь не только хлопок, но и виноград растет…
– Ой, как интересно! Анна Петровна, а где вы жили прежде?
– В Москве…
Не зная предела своему любопытству, я спросила:
– А почему теперь в Таджикистане?
– Да, видите ли… перед тем как мне окончить медицинский институт, погиб мой муж… летчик… а скоро и ребенок наш… умер… вот и не могла… все напоминало…
Голос Анны Петровны стал глуше, взгляд строже, а между бровями снова залегла складка. Я заметила, как дрогнули ее бледные губы.
– Анна Петровна! Расскажите о вашем сельском участке, – поправляя свое неуместное любопытство, попросила я.
– Ну, что же, – без улыбки сказала Анна Петровна. – Приехала я в районный центр Файзабад. Запущенный одноэтажный дом с мусором вокруг и представлял собой сельскую амбулаторию.
– И много было там врачей?
– Ни одного… Работали в амбулатории только Ольга Ивановна, медсестра-переводчица Тамара, да две санитарки.
– Наверное, обрадовались вашему приезду?
– Вначале не очень. Встретили с оглядкой… – Анна Петровна вздохнула и продолжала: – В институте меня, видно, как и вас, обучили всем наукам, кроме одной: как обходиться с людьми…
– Да… Этому нас не обучали.
– А вот, слушайте. Начала слишком горячо, требовала я сразу много. Ольга Ивановна крутовата нравом. Вот и нашла коса на камень… Не успела я освоиться, как выяснилось, что в дальнем кишлаке появился один случай оспы. Небывалый уже в те годы случай. Потребовала, чтобы пожилая Ольга Ивановна с санитаркой выехала в горные кишлаки, в селения. Она сказала, что не умеет ездить верхом на лошади. Я сочла это актом непослушания и разгорячилась. Не умея ездить верхом на лошади, я взяла с собой комсомолку-таджичку, санитарок и медицинскую сестру Тамару со всем необходимым для противооспенных прививок.
– Что же было дальше? – торопила я.
– Так все и поехали… Целую неделю проводили прививки. Уже заканчивали работу, когда кто-то распустил слух, что русские прививают смерть… – Анна Петровна откинула за ухо светлый завиток волос. – Плохо нам пришлось… Таджички перед нами захлопывали двери кибиток. В отдельных случаях мы делали прививки с большим трудом, долго приходилось убеждать и уговаривать. Никто не хотел продать лепешку или яблоко. В одном кишлаке после прививок несколько темных личностей проводили нас градом камней… Лошадь захромала от ушиба… Едва ускакали…
– А потом?
– Сколько друзей приобрела я потом в этом кишлаке. Но в тот раз после окончания прививок от непривычки к верховой езде и переживаний я заболела, чувствовала себя разбитой. Два дня не поднималась с постели. А Ольга Ивановна не отходила от меня, а потом во всем заменила мне родную мать. С оспенных прививок и началась для меня врачебная практика.
– И оспы больше не было?
– Нет. А через две недели приехал к нам инспектор министерства с приказом срочно провести прививки населению района, где наблюдался случай оспы… А мы уже провели.
– Вы много больных принимали?
– Конечно, только без учета часов и праздников.
– Как же это так?
– А так, с утра и пока всех не примешь. Ведь не откажешь больному, если он проехал километры. А то привезут роженицу или человека, укушенного скорпионом…
– Наверное повидали разных больных?
Анна Петровна взглянула в окно вагона на плывущую даль степи.
– Пришлось повидать многое… Это, конечно, было до того, как оросили долину реки Вахш. Тогда в Таджикистане еще было мало врачей. У меня на глазах умирал от боли в животе дехканин, а я так и не знала от чего, потому что было похоже и на аппендицит, и на заворот кишок, а может быть, и на перитонит, а около нет не только профессора, а просто врача постарше тебя. Вот тогда и начала мыслить, сопоставлять, осторожно действовать, чтобы не повредить. Много было и бессонных ночей. Не отходила от постели больного. И, представьте, нашла причину болезни, помогла, и дехканин выздоровел. Сама не верила.
– Как хорошо, что вы его сделали здоровым!
– Не одна, а вот с ней и с другими, – кивнула она в сторону дремлющей старушки. – Она опытная – бывшая хирургическая сестра, чудесный человек и хороший помощник. На первых порах именно с ее помощью я начала приобретать опыт. Научилась принимать роды, вправлять вывихи, переливать кровь, делать внутривенные вливания и умела уже многое другое, чему так хорошо учит жизнь, практика… Да разве практика сельского врача только в этом? Он самый беспокойный человек в районе. Если в сельпо продают недоброкачественные продукты, врач запрещает их продавать. Нет на хлопковом поле медицинского пункта – надо его организовать. Сельский врач – это и неотложная помощь, и скорая. Он обязан устранить боль и не допустить безвременную смерть. Вот здесь и началась врачебная практика.
Анна Петровна без улыбки внимательно взглянула на меня и сказала:
– Если вас не утомит, я расскажу один случай…
– Утомит? – Да я готова слушать целую ночь!
– Должна вам заметить, что осень в Таджикистане очаровательна. В это время поспевает хлопок, зреет виноград, наливаются соком гранаты.
– А зима в Таджикистане бывает?
– Конечно… только она особая. Самое неприятное зимой – это ветер! А вот дождь пойдет, так льет, льет недели, даже вспомнить скучно. Снега почти не бывает. Вам не хочется спать?
– Нет, что вы?! – искренно заверила я.
– Однажды… в очень сырой ноябрьский вечер постучала ко мне в амбулаторию старуха-таджичка и объяснила, что у нее умирает внук, сирота Али.
Анна Петровна приподняла брови, как человек, который что-то припоминает, и взглянула в окно на красноватый закат.
– Такие посещения бывали частенько, и мы никогда не отказывали в помощи. Но как раз в этот день сравнялся год, как умер мой сын. Ольга Ивановна, видимо, и не сомневалась, что и на этот раз визит состоится, и стала собираться вместе со мной в путь. Трудно мне было в этот день. – Анна Петровна вздохнула и продолжала – Ольга Ивановна – опытная помощница. Она захватила даже маленькую походную лабораторию и все, что может понадобиться. Мне казалось, что лошадь идет слишком медленно, а кишлак неизмеримо далеко… Под проливным дождем, накрытые брезентом, мы пробирались через ущелье горы и приехали на рассвете. Хрупкий, курчавый мальчик, лет пяти, лежал без чувств. Я с трудом посчитала его слабый пульс, послушала сердце, легкие, прощупала большую плотную селезенку. Картина ясная – тяжелая форма малярии.
По-видимому, он болел давно. Наша походная лаборатория дала нам возможность определить у мальчика тропическую малярию. Мне стало ясно: он умрет, если не применить срочного переливания крови. Пока Ольга Ивановна вводила больному под кожу сердечное средство, я взяла капельку крови из пальца больного и определила группу. Моя кровь – первой группы и ею можно было воспользоваться. Стакан крови для меня особого значения не имел, а мальчика это могло спасти.
Ольга Ивановна расстелила салфетку, обмыла спиртом мою руку и руку мальчика, приготовила инструменты и с ее помощью часть моей крови была перелита мальчику. Когда к нему вернулось сознание, я уехала домой.
Ольга Ивановна осталась выхаживать больного, как выхаживала всех, кто оставался на ее руках. Через несколько дней я снова проведала маленького пациента. Переливание крови и последующее лечение дали ожидаемый эффект.
– И мальчик совсем выздоровел?
– Да. Но малярией болели многие другие, а охватить их всех лечением я была не в состоянии. Вот и пришла мысль организовать малярийную станцию со стационаром.
– И вам пришлось организовать?
– Вы думаете это так просто? – ответила она на вопрос вопросом. – Ведь именно этому ни меня, ни вас не учили. Правда?
– Да, – согласилась я, недоумевая, однако, почему организовать больницу в селе должен сам врач. Мне известно, что больницы открывают различные учреждения, органы здравоохранения, а при чем тут врач, который должен прийти на готовое? В то же время выходит, что именно сельский врач и является главным организатором больничного дела… Непонятно!
Анна Петровна продолжала:
– Эта мысль не давала мне покоя. Вот и стали мы с Ольгой Ивановной частыми посетителями сельсовета, райздрава, а один раз, сытые обещаниями, взяли да и катнули в столичный город Сталинабад, в Министерство здравоохранения. Добились разрешения и назад. Однако здесь трудности и начались… Какая же это малярийная станция – больница, если окна без сеток, а вокруг видимо-невидимо стоячих болот с малярийными личинками комаров. Значит, надо их обезвредить? А для этого где достать парижской зелени или обыкновенной нефти?
Анна Петровна облокотилась на вагонный столик и между ее бровями залегла складка.
– Вот и пошла я на поклон к директору совхоза. Показала ему в цифрах, сколько у нас малярийных больных. Убедила не сразу. Пришлось убеждать через райком партии. Потом дал не только нефти, но и комсомольцев на подмогу. Весь наш персонал нефтевал болота…
– А сетки для окон вам прислали?
– Нет. Мы их нашли в одном соседнем хозяйстве, куда их завезли для оранжереи, да так они и валялись без дела… Долго уламывали председателя колхоза, да так и не уломали, пока он в обмен не получил от нашего сельсовета горбылей для постройки… Только тогда и дал нам сетки, а в придачу овощные лейки, которые мы приспособили для нефтевания. Открыли пункт. Вначале не управлялись, было много больных. Анна Петровна прямо взглянула мне в глаза и сказала: – Но больных становилось все меньше, пока малярию не свели на нет. Нашему опыту приехали поучиться даже научные работники Тропического сталинабадского института. Изучали и проверяли, как мы расправились с малярией.
– А что с тем больным мальчиком?
Анна Петровна вскинула на меня свои серые спокойные глаза.
– Мальчик Али выздоровел. В ту зиму его отец-чабан упал в ущелье и разбился, а единственная родственница – бабка умерла… Ну вот, мы с Ольгой Ивановной и определили его в Суворовскую школу. Теперь учится, постоянно нам пишет… А вот и Ольга Ивановна проснулась, – произнесла рассказчица и ласково взглянула на старушку.
Ольга Ивановна на секунду зажмурила свои темные живые глаза и вдруг улыбнулась. Лицо ее выглядело добрым и немного лукавым. Она поправила выбившиеся пряди седых волос из-под косынки.
– Вишь, сплю без конца, старая, – ворчливо заметила она и бодро, не по летам, поднялась. – Сейчас будем есть дыню! – Ольга Ивановна выкатила из-под сиденья желтую большую дыню.
– Какая огромная! – невольно воскликнула я.
– Это нам в дорогу колхозники наши принесли, – заметила Ольга Ивановна. – Они нынче выращивают такие дыни, что миру на удивление… Нигде таких нет, – говорила она и, разрезав дыню, первый сочный кусок подала мне.
– Кушайте! Жаль, Али полакомиться нельзя, – с сожалением сказала она и смахнула рукой неожиданную слезу.
– Опять за свое?! – словно сердясь, произнесла Анна Петровна.
– Да уж ладно, не буду. Только маловато, родной, у нас погостил и дынь не отведал. Все-таки в Суворовской школе уж очень большие военные строгости. Ну, ладно, не буду. – смолкла Ольга Ивановна и, захватив несколько кусков, пошла угощать попутчиков.
Я поняла, что таджикский мальчик Али, видимо, стал для Анны Петровны вторым сыном.
Поезд прибыл в Москву. Только теперь мои скромные попутчики, врач и фельдшерица, сообщили, что их вызвали в Кремль для получения награды. Я с сожалением рассталась с ними.
Через несколько дней в комиссии по распределению врачей меня спросили:
– Где бы вы хотели работать врачом?
– Хочу в Таджикистан! – ответила я совершенно неожиданно не только для комиссии, но и для себя самой.
Председатель, старый профессор, улыбаясь моей поспешности, сказал:
– В Таджикистане молодому врачу, пожалуй, будет трудновато… Ну, а если бы мы предложили вам поехать на Кавказ, скажем, в места, где в свое время побывали и Пушкин, и Лермонтов? Там сейчас тоже нужны врачи…
Видимо, мой голос и поза были унылы. Председатель комиссии лукаво улыбнулся, тепло пожал мне руку и вручил путевку… в Таджикистан. Я почувствовала облегчение и радость. И теперь спустя много лет я иногда вспоминаю о милых попутчиках моей юности.
Первый урок
13 июля было первым днем моей работы в качестве психиатра.
Я приступила к самостоятельному приему больных в психиатрическом диспансере очень смело. Мне предстояло принять несколько человек. По вполне понятным причинам ни этих, ни других больных не буду называть их настоящими именами.
Двух больных я умудрилась принять очень быстро. И сразу решила, что умею легко и быстро разбираться в людях и болезнях.
Первый мой пациент совсем не считал себя больным, а пришел к врачу, чтобы «излить душу». Он все время благодушно улыбался и заплетающимся языком рассказы: вал о своих тридцатилетней давности успехах в вольтижировке. Врач, который осматривал его до меня, записал в истории болезни: «Органическое слабоумие». Много лет назад, работая жокеем на скачках, этот человек упал с лошади и получил тяжелую травму лобной части. Теперь передо мной сидел слабый хвастливый старичок, нелепо утверждающий свою силу и ловкость. Я долго смотрела на его детски счастливую улыбку…
Другая больная была старой неряшливой женщиной. Всклокоченные космы седых волос спадали на худые, острые, не в меру открытые плечи. Она подмигивала сильно подведенными веками. Смотря на меня черными горящими глазами, больная рассказывала, что «бездельники мужчины» всюду ее преследуют, потому что она красавица, а глаза ее обладают гипнотическим свойством. Больная несла чепуху, а я смотрела на нее и думала: «Разорванная логика… Корригированию – исправлению не поддается… Все совершенно просто и ясно…».
Ее рассказы потешали меня своей дикостью и нелепостью. Я усмехалась… и хорошо, что больная была занята только собой и не замечала этого.
Следующий больной произвел на меня сначала очень хорошее впечатление. На нем была чистая рубашка, тщательно выутюженный костюм, начищенные ботинки. Даже причесан он был как-то особенно гладко – каждый волос на своем месте. Лицо у него было приятное, правильное, взгляд карих глаз мягкий. Он вынул чистый носовой платок, не торопясь разостлал его на стуле и только тогда сел. Никакой суетливости, нервности в его движениях не замечалось. Наоборот, он казался, пожалуй, излишне степенным и медлительным. Достав из кармана объемистую тетрадь, обернутую чистой бумагой, больной положил ее перед собой.
– Вы, наверное, аккуратный человек? – спросила я больного.
– Да, я люблю, чтобы у каждой вещи было свое место. У меня папаша и мамаша тоже были хозяйственные.
В истории болезни стоял диагноз: «Эпилептическое слабоумие», т. е. ослабление функций мозга в связи с эпилепсией.
«Что за нелепость, – подумала я, – наверное, ошибка». Больной вовсе не производил впечатления слабоумного. Более того, он казался человеком разумным, сдержанным и деликатным.
В истории болезни я прочитала, что его отец плотник, был горьким пьяницей и «припадочным». Сам больной с детства был приучен к плотничанью. Затем окончил курсы счетоводов. После десяти лет работы его обвинили в умышленном недописывании цифр в денежных документах и привлекли к судебной ответственности. Счетовод заявил, что страдает припадками. Следователь направил его на экспертизу в Институт судебной психиатрии. Оказалось, что больной действительно страдает припадками. После непродолжительного лечения больной снова стал работать. Сослуживцы и начальство относились к нему недоверчиво; когда ошибки повторились, ему предложили подать заявление об уходе с работы по собственному желанию. Счетовод раскричался и бросил в начальника счеты. Его хотели судить за хулиганство, но психиатрическая экспертиза снова признала его больным. Счетовод был уволен и поступил на новое место. Здесь тоже в подсчетах продолжал делать ошибки. Стал несколько рассеян, забывчив. С работы его уволили по сокращению штатов. Он долго судился и доказывал свою правоту. От постоянных волнений у него участились припадки и ухудшилась память. Умственная работа стала не под силу. Взялся за свою старую профессию плотника. Нелегко и не сразу снова привык он к этой работе.
– Когда у вас был последний припадок? – спросила я.
– Разрешите, драгоценный доктор, рассказать следующее, – начал посетитель с приятнейшей улыбкой на лице и заглянул в объемистую тетрадь.
– Что это вы читаете?
– Забываю, доктор. Память никуда, – словно оправдываясь, пояснил он.
– Ну, рассказывайте, – предложила я и приготовилась слушать.
Больной заговорил монотонно:
– Вчера я направился в гости. По дороге зашел в магазин купить что-нибудь к ужину… Я, видите ли, человек холостой и, естественно, должен о себе заботиться, потому что женской заботы не имею…
– И никогда не были женаты?
– Нет. Болезнь мешала. За мной мамаша присматривает. Он заглянул в тетрадь и продолжал прерванную мысль.
– Да, зашел я в магазин и все купил. Мне хотелось пройтись пешком, но стал накрапывать дождь и я поехал трамваем…
– И здесь с вами случился припадок?
– Сию минуточку, – улыбнулся моей поспешности больной, и я увидела его мелкие редковатые зубы.
– Да… Так вот, когда я ехал в трамвае, у меня схватило живот. С предупредительной целью я сошел у Арбата. Там, знаете ли, есть общественное место…
– Здесь и случился припадок? – снова перебила я.
– Сию минуточку, дорогой доктор, – произнес он, входя во вкус рассказа, и, действительно, красочно описал посещение «общественного места».
«Да ведь он притворяется! – мелькнула у меня мысль, – он просто симулянт, который сумел обмануть не только суд, но и врачей. Да, он в самом деле симулянт!»
– Потом я направился по Гоголевскому бульвару… – больной заглянул в тетрадь. – Нет, простите, драгоценный доктор, я пошел по Арбату.
– Это же не имеет никакого значения.
– Как не имеет значения? – удивленно сверкнул блестящими карими глазами «симулянт».
Взгляд его был так невинен, а вопрос так искренен, что мысль о симуляции мгновенно рассеялась.
Вспомнилось, что в специальной литературе отмечается особый блеск глаз у эпилептиков. Только теперь стало понятно, что если даже я буду очень разъяснять больному его ошибки, то он все равно не поймет. Когда я его перебивала, он внимательно и вежливо смотрел мне в лицо, словно вдумываясь в каждое слово. Однако на вопрос не отвечал, а, подумав, продолжал рассказывать свое. Каждая его фраза казалась до того взвешенной и томительной, что появлялось чувство облегчения, когда он ее кончал.
Стараясь припомнить мельчайшие детали своего путешествия по Арбату, он уже не обращал внимания на мои вопросы, на попытки остановить его.
– Затем у Серебряного переулка я зашел в аптеку купить мыло. У самых дверей какая-то гражданка меня толкнула и не извинилась. Меня это взорвало, и я, естественно, стал требовать извинения. Гражданка посмела назвать меня дураком…
И он продолжал рассказывать о том, как гражданку повели в милицию, где был составлен протокол, как он остался недоволен протоколом и решил жаловаться.
– Я вас прошу рассказать о последнем припадке. Все эти подробности не нужны, – не выдержала я.
Больной внимательно выслушал меня и словно ни в чем не бывало продолжал свой бесконечный рассказ..
– Мы выпили чаю, а Ирина Семеновна заявила, что чай не настоящий, пахнет грушами. Я стал доказывать… Неправды не люблю. У меня и мамаша с папашей…
Опять мучительный вопрос встал передо мной: симулянт он все-таки или больной? И главное – как его остановить?
Я пасовала перед его упорной настойчивостью. И вдруг неожиданно для себя сказала:
– Довольно о чае с грушами. Расскажите о припадке. Тяжелым взглядом больной посмотрел на меня и с достоинством произнес:
– Во-первых, чай был не с грушами, а настоящий. Ирина Семеновна напрасно меня обидела. Я, конечно, всегда буду помнить об этом. А что касается припадка, то вы, доктор, так бы и сказали, а обижаться нечего.
«Такой нелепый ответ может дать только больной», – решила я и облегченно вздохнула. Однако он снова раскрыл свою толстую тетрадь и объяснил, что в ней записаны все его припадки за шестнадцать лет.
Наконец, я встала и твердо заявила, что прием окончен. Если он хочет подробно ознакомить меня со своими припадками, пусть оставит тетрадь.
Тетради своей он не дал, а сказал, что в следующий раз придет и расскажет все до конца. Невыносимо медленно складывая носовой платок, он укоризненно заметил:
– Напрасно, доктор, вы так спешите. Больного узнать надо. Я этого так не могу оставить. Поставлю в известность вашу администрацию…
Больной представлял собой живую иллюстрацию того, что в психиатрии именуется генуинной, врожденной, эпилепсией. Главный признак этой психической болезни – судорожный припадок. Но есть формы эпилепсии, когда припадков не бывает, а вместо них – выключение сознания на секунды, упадок настроения, тоска, беспричинная озлобленность, стремление бить, крушить все, что попадается под руку. Постепенно все резче изменяется характер. У больного нарастают эгоизм, педантичность, себялюбие, мелочность, слабеют память и другие функции мозга. Но, конечно, это бывает не всегда и не у всех и зависит от многих условий.
Оставалось совсем мало времени для приема остальных больных.
От первоначального моего задора и смелости не осталось и следа. Было тупое равнодушие. Даже сообщение медицинской сестры о том, что пациент пишет жалобу (это в первый день работы!) меня не тронуло. Я еще не полностью отрешилась от мысли, что это симулянт.
Вошел санитар и сообщил, что с каким-то больным плохо. Выбежав из кабинета, я увидела, как рухнул на пол тот, кого я считала «симулянтом»…
По книгам и небольшой студенческой практике мне был хорошо знаком весь механизм припадка. Однако то, что я увидела, мне показалось необычным, опасным. Он лежал с красным перекошенным лицом и остекленевшим взглядом. Мелькнули белки закатившихся глаз. Тело больного вытянулось, окаменело, а лицо посинело. Запрокинутую голову потянуло в сторону, и тело стало ритмично, с невероятной силой, биться о пол. В горле у него заклокотало, захрипело, и сквозь стиснутые зубы показалась кровавая пена.
– Ложку! – закричала я и дрожащими руками пыталась вставить поданную мне ложку между судорожно сжатыми зубами. Ложка, наконец, была вставлена, но поздно: язык больного был прикушен и кровоточил.
Я открыла веки больного и заглянула в зрачки. Они были расширены и не реагировали на свет.
Мне показалось, что он умирает, и, растерявшись, я крикнула:
– Санитар! Сестра! Немедленно перенесите его в кабинет!
– Сейчас, доктор, перенесем… Пусть здесь полежит немного, – вежливо ответила старшая медицинская сестра и подложила под голову больного подушку.
Ее спокойный голос сразу отрезвил меня, и я поняла, что так и надо. А сестра неторопливо стала делать то, о чем я и не подумала: она ловко развязала галстук, расстегнула ворот рубахи и пояс брюк. Больной сразу задышал ровнее, лицо его порозовело. Наверное, в тот момент я в первый раз в жизни ощутила настоящую радость. Затем моего пациента уложили на кушетку. Он долго спал, а я сидела рядом, внимательно прислушиваясь к его ровному дыханию.
Пожалуй никакой учебник не дал мне столько, сколько один день самостоятельного приема больных.
Древняя медицина учила: «Не вреди!». Теперь, мне казалось, я поняла значение этих слов. Больному можно повредить не только неправильным советом, лекарством, но и личным отношением к нему.



