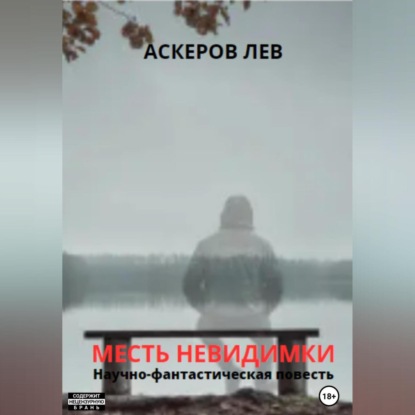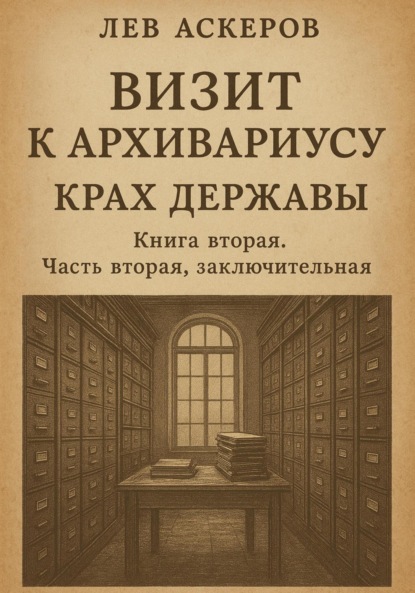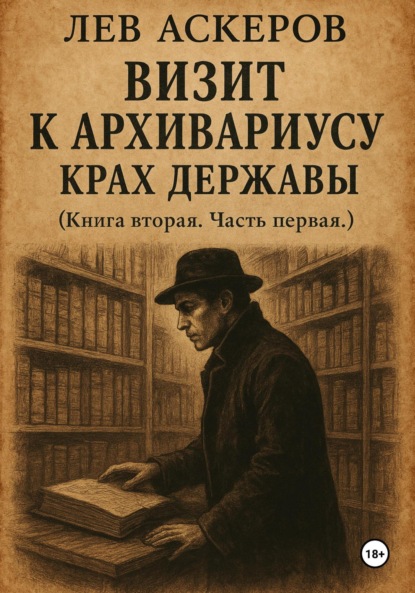Полная версия:
Лев Аскеров Из жизни у моря
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Лев Аскеров
Из жизни у моря
ЖИЗНЬ, КОТОРУЮ НЕ ЗНАЕШЬ…
Она каждое утро приходила сюда, на эту скалу, где я ловил бычков. Приходила с больным мальчиком. Он иногда до посинения закашливался. А когда приступ кашля прекращался, тихо просил:
– Ма, сказку…
Они были одна лучше другой. Я таких не слыхал. И не встречал в книжках. А может, просто у меня не было таких книг.
Я люблю сказки. Слушать бы да слушать их. С утра до утра. Не ел бы и не пил. А это необыкновенно красивая женщина, одетая в синее-синее платье, не рассказывала их – она их словно показывала. Я видел все своими глазами. Был в них сам.
Конечно она была феей. Потому что обыкновенные люди так рассказывать не могут и потому, что она не была островитянкой. Здесь я знал всех, а ее – нет. И никто сюда в эти дни не приезжал… Не сезон… Тогда откуда она?
– Ма, сказку, – всхлипнул мальчик.
– В некотором царстве, в тридевятом государстве, жили-были…
Накаты засыпающей под солнцем зыби и отражавшаяся от нее на песчаное дно моря радужная солнечная сеть, звенела хрустальной ломкостью и становились голосом той дивной женщины. Плескучим он был. Мелодичным.
Малыш затих. Над удочкой замер и я. Крупный белоносик осторожно взял насадку. Шпагат натянулся. Можно было подсекать. Но я не хотел вспугивать сказки. Я ждал чуда. А оно не произошло….
Внезапно по-сумашедшему затарахтевшая моторная лодка, что покачивалась неподалеку, прижавшись к соседней скале, шугнула сказку, как птицу с камня. Возившемуся в ней человеку, наконец, удалось завести мотор. И теперь широко осклабившись и подбоченясь он победно и счастливо смотрел на меня.
Толстый белоносик плюнул насадку и шмыгнул под зеленый камень. Шпагат ослаб. Я обернулся. Женщины на месте не было. Подхватив на руки больного малыша, она легко и быстро взбиралась к розовому шару солнца, который далеко за островом уже по пояс окунулся в море. Пронзительно синее платье, словно сшитое из лоскута омытого дождем неба, еще долго трепетало в розовом золоте уходящего дня.
Я смотрел и смотрел. А мотор как забулдыга на тихой улице, распаляясь, буянил и буянил. Рыбак обнимал его, гладил, смеялся…То была его любовь. То была его радость…
– Полощи горло, милый. Полощи… Чуть свет – в море, – говорил он, плевавшемуся черной гарью, мотору.
… Мне в ту пору было пятнадцать лет. Я любил сказки. Я верил в чудо. Я любил жизнь, которую придумал, и которой не знал.
Мне теперь под шестьдесят. Но до сих пор люблю я сказки. И до сих пор я верю в чудо. И жизнь люблю, которую когда-то придумал, и которой опять-таки не знаю. И понял я одно, что любишь всегда то, что не понимаешь и видишь его, как тебе хочется. Как ты придумал.
март 1979 г.
КАЗНЬ
Вытянув ноги, Колчак, прислонившись затылком к стене, сидел на полу… И оттуда, от стены, с отстраненной неприязнью смотрел на обрызганные сукровицей голенища своих хромовых сапог. Посасывая разбитую губу, он языком невольно задевал болтавшийся в десне зуб и морщился. Морщился и едва слышно себе под нос напевал:
– Солдатушки, браво, ребятушки!
Где же ваша хата?
Наша хата – лагерь супостата!
Вот где наша хата!..
И опять распахнулась дверь, а он, продолжая бурчать песенку, пустым взглядом посмотрел на появившегося в её проёме человека в длиннополой шинели. Вскинув руку к странному, но весьма симпатичному головному убору с шишаком на макушке, вошедший, по-военному представился:
– Член Реввоенсовета Езерский Николай Ильич.
– Бог мой! Мы удостоились чести, адмирал, – сказал он самому себе по-французски и как мог живо поднялся на ноги.
Труднее было поднять вывихнутую руку и приложить к брови два пальца.
– Честь имею! – ответил он с достоинством.
– Вас били, адмирал? – на чистом французском и не без озабоченности спросил Езерский.
Глаза Колчака на какую-то долю секунды выбластнули изумлением – мол, посочувствовал, но в следующее мгновенье оно погасло. Не это главное было сейчас. Сочувствие – всегда ерунда. Всегда пустая вежливость. Но вежливость. «Что ещё нужно в моем положении?» – подумал он, и вспухшие его губы скривились в улыбке.
– Солдаты не бьют. Солдаты – вымещают, Николай Ильич, – четко произнес он.
– Было за что? – не без иронии и уже на русском спросил Езерский.
– А как же, голубчик! – подхватил Колчак и неожиданно спросил:
– Господин член Реввоенсовета, Вы знаете, что такое победа?
Езерский опешил. Но Колчак ответил на свой вопрос сам:
– Это когда военачальник меньше всего ценит чужую жизнь. Поражение наоборот. Когда он ее начинает ценить… Первых, оставшиеся в живых, прощают и славят. Вторых – ненавидят. И на них вымещают… Генералы это знают. Не могут не знать. А значит, должны с достоинством принимать и то и другое.
– Ну, если это как-то утешает вас, – развел руками Езерский.
– Такова жизнь, мой дорогой, – с трудом грассируя разбитым ртом, улыбнулся Колчак.
– Может быть… Может быть… – отзывается Езерский.
– Голубчик, я присяду, с вашего разрешения.
– Сделайте одолжение, Александр Васильевич.
Сев за стол, адмирал, сказав «Простите», приоткрыл рот и, резким движением руки вырвав болтавшийся во рту зуб, бросил его как раскаленный уголек в пепельницу.
– Ых-х, его мать, – по-окопному смачно выругался Колчак.
На ресницы накатились слезы, но он не плакал.
– Еще раз простите, Николай Ильич, – прикладывая платок к разбитым губам, сказал он.
– Александр Васильевич, я пришел сообщить вам… – начал было Езерский, но адмирал властно поднял руку.
– Не надо! Знаю.
И будто невпопад спросил:
– Мундир дадите?
– Зачем он вам? – вскинул брови Езерский.
– Я адмирал русского флота. Придет время, и кто-нибудь из тех солдат, – он кивнул на дверь, – станет генералом. Военачальником русской армии… Им надо знать, как должно умирать генералам.
– Вы получите мундир, – после недолгого раздумья, пообещал член Реввоенсовета.
– Спасибо, голубчик. Кто будет шлёпать?..
– Красноармеец Свиньин.
Колчак разочарованно хмыкнул.
– Свиньин генералом не станет.
– Как знать.
– Надеюсь, дискутировать не станем? – мягко, по-французски спросил он.
– Не станем, адмирал.
– Отменно. Скажите, любезный, большевики не отменили последнее слово и последнее желание?
– Нет, Александр Васильевич. Что вы хотите?
– Последнее слово я сказал. Осталось желание… Солдатскую кружку водки, мою гитару и – папиросу.
Вынув из кармана коробок дорогих папирос, Езерский, не оборачиваясь к двери, крикнул:
– Жуков! Ко мне!
Тот словно ждал за дверью.
– Товарищ член Реввоенсовета, начальник караула Жуков по вашему приказанию прибыл.
– Адмиралу парадный мундир, его гитару и кружку водки!
Полкружки водки Колчак выпил сразу же. Видимо, чтобы унять зубную боль. И закурил тоже при всех. Сделав несколько затяжек, он потянулся за гитарой.
– Господин Езерский, – снова перешел на французский Колчак,– могли бы вы оставить меня одного. С гитарой, остатком водочки и жизни… Пожалуйста…
Езерский замялся. Колчак понял.
– Не оскорбляйте меня подозрением, Николай Ильич.
– Хорошо,– согласился член Реввоенсовета, приказав всем покинуть комнату.
– Рядовой Свиньин! – окликнул красноармейца адмирал.
– Не промажь родимый. Одним выстрелом.
– Есть, ваше высокородие! – гаркнул красноармеец и смутился, глядя на скуксившихся товарищей.
– И вы ступайте, Николай Ильич,– попросил адмирал. – Вы поймете, когда надо будет запускать его,– демонстративно сев спиной к двери, адмирал подушечками каждого пальца нежно тронул струны.
Езерский прикрыл за собой дверь.
Переборы струн, доносившиеся из комнаты, сложились в мелодию светлой печали, и вдруг из переливов рокотавшей гитары вырвался и потёк красивый бархатный баритон адмирала:
Гори, гори, моя звезда…
Гори, звезда приветная.
Ты у меня одна, заветная,
Другой не будет никогда…
Караул онемел. Адмирал пел. Романс звучал волшебно. К месту. На излёте жизни. Езерский отвернулся. Прошибла слеза…
Жуков шикнул на хохотнувшего красноармейца. Шикнул и застыл, делая вид, что рассматривает что-то под ногами, чего не было.
Езерский про себя повторял за адмиралом слова романса. Он знал их наизусть. И вот последняя строфа:
Твоих лучей небесной силою
Вся жизнь моя озарена.
Умру ли я, и над могилою
Гори – сияй моя звезда…
Гитара еще вибрировала. Голос еще не истаял. Езерский не поворачивая головы, скомандовал:
– Свиньин! Пшёл!
* * *
Прошли годы. Капитан Свиньин в подвале на Лубянке приводил в исполнение приговор «тройки». Он расстреливал командарма Езерского. Капитан не узнал в нем бывшего члена Реввоенсовета. Лицо его было донельзя измочалено. Наверное, подумал Свиньин, долго был «в непризнавалке»…
Командарм зашевелил губами.
– Шо?! Шо гриш? – спросил он, и ему показалось, что командарм промычал: "Гори, гори…"
Свиньин повернул его к себе затылком и, приставив пистолет, нажал на курок.
– Гори сам, сучья вражина,– пнув сапогом дергавшееся тело, смачно сплюнул капитан.
* * *
А Жуков стал генералом победы. И в военных кампаниях никогда не разлучался с гармоникой, на которой, подобрав, иногда наигрывал романс "Гори, гори моя звезда…"
январь, 2000 год
ЛЮБОВЬ ВЕЛИКОГО ФИЗИКА
– Гони на Карантинную! – с сорвавшимся на фальцет голосом крикнул юноша.
Наверное, поэтому этот приказ не вызвал в вознице должной реакции. Обычно ушлые местные извозчики, заслышав – «Гони!»– отчаянно срывали с места лошадей и с неистовым безумством гнали их по узким улочкам Баку. Фаэтонщик медлил. Очень уж медлил. И тут мальчика окликнули.
– Львуша, ты куда? Живо домой! Через час поезд.
– Через час… Но навсегда, папа.
– Навсегда…
Дебелый и черный, как ворон, фаэтонщик наконец повернулся к своему седоку.
– Тибе отес завьёт, малчик, – осклабился фаэтонщик.
– Всё пройдёт, сынок, – стаскивая его с повозки, добавил отец.
…И прошло время. И тот мальчик стал выдающимся физиком. Лауреатом Нобелевской премии. И имя ему было Лев Давидович Ландау. А в день, когда стукнуло ровно 45 лет, как семья Ландау покинула Баку, в Москве произошла автокатастрофа, потрясшая весь мир. Машина, в которой ехал академик, в один миг превратилась в груду дымящегося железа…
Его извлек оттуда лейтенант ГАИ. Ландау открыл замутившиеся глаза и, глядя в упор на милиционера, сорвавшимся на фальцет голосом выкрикнул:
– Гони, проклятый ворон!… Гони на Карантинную!
Позже один из родственников пролил свет на странную просьбу умиравшего учёного.
– Это он о Баку. Там на улице Карантинной жила первая Львушина любовь…
Лучшие светила медицины вернули академика к жизни. Чуть ли не заново сшили. И каково же было их удивление, когда, придя в себя, он сказал:
– Зачем?.. Мне было там хорошо…
МИСТИФИКАТОРЫ
– Пётр Иванович, – явно чем-то раздосадованный, говорил Киров, – донимает меня наш друг – подавай ему Персию, и всё тут. Он же – из другого мира, где не знают, что есть такие штучки, как политика, формальности… Жизнь для него – Божья песня. А это по твоей части. У меня своих забот хватает…
– Если позволите, Сергей Миронович, – по-заговорщецки, вполголоса сказал Чагин, – я организую ему персидскую сказку. Тут же кругом Персия!
И Чагин в подробностях изложил, как он намерен это сделать.
– Ну, и когда вы собираетесь отправиться туда? – спросил он
– Можно даже сегодня в полночь. От клуба моряков. Там сейчас в честь него банкет.
– Поедете на моей машине, – распорядился Киров. – Так мне будет спокойней. Шофёра о маршруте проинструктирую сам.
Много времени ушло на разговоры и уточнения деталей в Театре русской драмы. Многое зависело от мастерства актеров, которым идея понравилась, и они тут же выдавали импровизации и сыпали экспромты. Развернувшееся действо так увлекло Чагина, что он едва поспел к концу банкета, где в здании бывшего дворянского собрания чествовали поэта…
– Петя, ждём только тебя! – завидев вошедшего друга, вскричал на весь зал Есенин.
Он был в изрядном подпитии.
– Вставай, Сережа, – зашептал он ему на ухо. – Едем в Персию. Прямо сейчас. Нелегально.
Выезжали из города через ущелье Волчьих Ворот. Здорово трясло. Прильнув к холодному стеклу, Есенин во все глаза смотрел в темноту.
– Камни… Камни… Да сухие дерева, – с тоскою в голосе сказал он и уснул.
В пятом часу утра, после долгих изнурительных кругов по окраинам города, когда машина выехала на более или мене накатанную дорогу, ведущую в Мардакяны, их остановили «пограничники». После долгих препирательств с Чагиным к рыжеусому майору, пошатываясь, вывалился Есенин.
– В кои времена, служивый, русский поэт собрался в Персию, а ты не пускаешь.
Рыжеусый козырнул и, обернувшись к солдатам скомандовал:
– Открыть шлагбаум! Это – Сергей Есенин!
– Петька! – по-детски радостно голосил он. – И здесь, на краю света, меня, рязанского парня, знают. А тебя, редактора «Бакинского рабочего», – знать не хотят.
В «Хорасане» Сергей чуть было не полез в драку с «чайханщиком», который не допускал свою «сестру» Лалу к их столу и на своём непонятом для Есенина языке, ругал её. Сценка была сыграна так мастерски, что он, обернувшись к Чагину, крикнул: «Петя, у персюков всё не по нашенски, не по русски!»…
Вышла и накладка. Сломалась машина. Пришлось на два дня задержались в апшеронском глухом селе Шаганы. Туда приехали поздно ночью. На веранде дома, закутанная в цветастый платок-келагай, стояла изображавшая сельчанку актриса по имени Сона… Ночь была дивной. И село, облитое золотом луны, казалось сказочным. И сказочно красивой была Сона.
– Как зовут эту красоту? – выдохнул Сережа.
– Шаганы, – ответила девушка, полагая, что он интересуется названием села.
И влюбился он. И пролилась любовь его бессмертными стихами. И хотя «персиянка», нареченная им Шаганэ, не разделила с ним любви, он всё равно был счастлив…
А «по возвращении» Сергей много дней провел в Мардакянах, на чагинской даче. И там он прочел «Прощай, Баку…» Одна из строф его выгравирована на памятнике поэту, стоящим ныне в самом центре Мардакян:
Прощай,Баку! Прощай, как песнь простая!
В последний раз я друга обниму…
Чтоб голова его, как роза золотая,
Кивала нежно мне в сиреневом дыму…
РАССТРЕЛЯННЫЙ ДВАЖДЫ
– Милая, меня не казнят. Москва не сдаст. Кроме того, вспомни, что я рассказывал тебе, – крепко обняв жену, прошептал он.
Серые глаза его светились озорным смехом. Ничего так гипнотически на нее не действовало, как эти глаза. Она им верила больше, чем какой-то мифической Москве, ее большевикам и мерзкому начальнику тюрьмы, прошипевшему: «Иди, прощайся с мужем…»
И еще она верила в то, что с Рихардом произошло в детстве.
…Однажды на бакинских промыслах близ Сабунчей, прямо посреди вышек люди увидели цыганские шатры. «Пришел табор… Жди убийств и воровства», – ворчали обуянные страхом обыватели. Детям строго-настрого запрещалось не то, что заговаривать, даже подходить к цыганам.
А вскоре сабучинцы обмерли от невероятной вести. Средь бела дня со двора дома, где жили семьи начальствующего состава, пропал малыш инженера Зорге – Рихард. Обыскали весь поселок, но мальчонка нигде не было. Тогда отцу посоветовали поискать его в цыганских шатрах. Там он его и нашел. Малыш спал на руках старой цыганки.
– Его здесь, среди вышек нашли. Умаялся, бедняжка,– глядя на безмятежно посапывающего сорванца, сказала цыганка.
Зорге вынул кошелек.
– Не надо! – решительно отодвинув его руку, сердито буркнула старуха.
– Как же так?! – растерялся инженер.
– Дорогой, то, что он вышел на табор – судьба. То не моя заслуга, то Божья воля … Я возьму с тебя если ты попросишь меня погадать. А скажу я тебе всю правду.
– Ну, если правду…– усмехнулся Зорге, протягивая цыганке трехрублевую купюру.
– Всю-всю, сердечный мой…– заверила она.
И таборная провидица, бормоча что-то невнятное, наклонилась к его ладони. Говорила и о прошлом и о будущем. Сказала, что в скором времени его с семьей ждет дальняя дорога. Уедут они к себе, в Германию…
Как в воду глядела. Спустя месяц с небольшим так оно и случилось.
Отец много раз припоминал тот эпизод и всегда, передразнивая цыганку, говорил:
– Но по поводу тебя, Рихард, она явно наврала. Ты вот-вот станешь дипломированным философом а она нашамкала Бог весть что!.. Будто ты станешь военным, тебя дважды будут убивать, но, вопреки всему, ты жить будешь очень долго…
…Пролетели годы. И в ночь на 20 января 1990 года по центру оледеневшего от ужаса Баку, под канонаду флотских пушек и визг трассирующих пуль шла, лязгая гусеницами, колонна танков. На их бортах мерцали красные звезды, а у башен, с автоматами наперевес, стояли бравые советские солдаты.
– Замыкающий! – раздалось в наушниках командира последней машины. – Смотри налево. Там вокруг какого-то памятника куча черножопых. Пальни по ним!
И они пальнули…
– Кто-нибудь сбегайте, гляньте – что это за надгробье, – приказал командир. – Может, заодно снесем и его.
И один из них спрыгнул. И переступив через тела убитых, засветил фонарь. И глянуло на него могильной чернотой каменное лицо незнакомца… «Благодарные земляки, – читая, кричал он в грохочущую ночь, – Герою Советского Союза Рихарду Зорге».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.