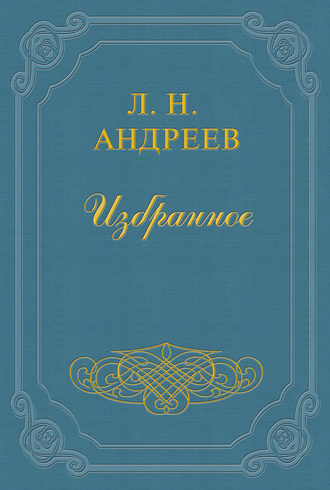
Леонид Андреев
Милые призраки
Действие третье
Осенний темный вечер.
В доме благополучие: Горожанкин пришел трезвый и полностью принес жалованье: по этому случаю был обед с гостями, а после обеда Елизавета Семеновна устроила стуколку. Играют на орехи. Стол придвинут, ввиду недостатка стульев, к кровати Горожанкина, на которой сидит он сам и льнущий к нему счастливый Сеничка. Горожанкинв вицмундире, галстух ему повязывала Елизавета Семеновна, и вообще видом он чист и праздничен, но в хитрых глазах и выражении ширококостного, мясистого, красного лица таится вражда и презрение ко всему этому благополучию и благородному фасону: всей душой хотел бы он оказаться в кабаке, за шкаликом. Елизавета Семеновна одета также празднично, для гостей, в кружевной наколке; похудела и кашляет еще больше. Таня – все та же. Из гостей присутствуют: Монастырский, капитан Прелестнов, Паулина и старичок из богадельни, Яков Иванович; играть он, по слепоте и глухоте, в сущности, не может, но тоже – держит карты. Посередине стола всякое угощение: пастила, пряники, леденцы и даже яблоки. Таежниковне играет и лежит у себя на постели, за полуотдернутым занавесом. Лежит он на спине, с открытыми глазами, руки закинуты за голову – не то прислушивается, не то думает упорно о своем. Исхудал, и бородка кажется еще чернее. При открытии занавеса за столом общий смех. Смеются над Яковом Ивановичем, перепутавшим карты.
Паулина. Он думаль, что это дама!.. Фи, это король!
Сеня (хлопает в ладоши), Вот так дама! С бородкою! Папа, Яков Иваныч думал, что это дама!
Таня. Тише, тише, Сеня, Яков Иваныч ошибся.
Горожанкин. Не толкайся, Семен. – Ты что же это, Яков Иваныч, за дамами приволакивать? А еще в богадельне живешь – не знал я, что у тебя такая слабость к дамскому полу!
Сеня (в восторге). Яков Иваныч дам любит!
Прелестнов. Этаким манером, сударь мой, вы и меня при всех моих регалиях за даму почтете – кхе… кхе!
Сеня (в еще большем восторге). Капитан – дама!
Горожанкин. Я тебе говорю, не толкайся!
Елизавета Семеновна (строго.) Перестань, Сеня…ты и папе мешаешь. Чему тут смеяться? Яков Иваныч слепенький, он в богадельне живет, и тут вовсе не над чем смеяться. (Громко.) Яков Иваныч! Правда, какие глупые: смеются!
Яков Иванович. Перепутал, матушка, перепутал. Показалось мне, что это юбка, а бороды-то и не приметил, да.
Сеня. Юбка!
Яков Иванович смеется вместе со всеми.
Яков Иванович. Бороды-то, да.
Монастырский. Бывает… Гавриил, погляди пока мои карты, а я побренчу. (Наигрывает тихо на гитаре и иногда так же тихо подпевает.)
Одну минуту все, перестав играть, слушают его.
Прелестнов. Пасс!
Паулина. Стучу.
Елизавета Семеновна. Втемную. Яков Иваныч, пастилы не хотите? Пастилы, я говорю, пастилы! Кушайте, пожалуйста, я вас очень прошу… Таня, подвинь же к Якову Иванычу пастилу, положи ему на блюдечко. Мне четыре карты. Кушайте, Яков Иваныч! Сегодня моему Тимофею Аристарховичу генерал обещал награду…
Таня опускает глаза, сам Горожанкин быстро и глумливо взглядывает на жену и принимает серьезный вид.
…да, небольшую пока, но потом обещали еще: генерал его так любит. Вот мне и захотелось доставить себе небольшое развлечение, мы живем так замкнуто… Поправь галстух, Тимофей Аристархович.
Горожанкин (сдерживаясь). Надоели вы мне с этим галстухом, Елизавета Семеновна. Ведь хорошо же.
Елизавета Семеновна (строго). Дай, я сама поправлю… подержи карты, Сеничка. (Поправляет.)
Горожанкин (сдерживаясь). Ну вот… ладно, ладно.
Сеня (громким шепотом). Мама, у тебя туз!
Горожанкин (строго). Этого нельзя говорить вслух, что ты, не знаешь?
Разыгрывают.
Паулина. Опять Елизавет Семеновна все взятки взяль. А я опять ремиз ставиль!
Прелестнов. Запишите ремизик и за мною.
Елизавета Семеновна (взволнованная и покрасневшая). Мне всегда так везет, даже неловко! Сколько там орехов?
Сеня. Мама всегда втемную и всегда выигрывает! Папочка, играй и ты втемную.
Горожанкин. Не лезь, тебя не спрашивают.
Сеня. Я так сказал.
Горожанкин. А так, так лучше молчи. (Презрительно.) Чепуха какая, эти орехи!
Таня. Отчего же, папа? Всем весело.
Горожанкин (фальшиво улыбаясь). Да я не спорю, а так… играть так играть.
Елизавета Семеновна. Ты лучше яблочка скушай, Тимофей Аристархович, ты их любишь, я как раз по твоему вкусу выбрала: немного с кваском.
Горожанкин. Не люблю я яблоки… ну, давайте. (Ест.) Ничего!
Прелестнов. Пес! С кислинкой-то хорошо для закуски… (Спохватившись.) Вам сколько прикажете карт, Елизавета Семеновна?
Елизавета Семеновна. Четыре.
Паулина. Мне одну, хорошую.
Прелестнов. Не везет мне сегодня… Егор, иди-ка посиди, а я ноги разомну, отсидел. Да и к студенту нашему загляну, что-то он все…
Горожанкин. У них головка болит.
Таня. Да, голова болит… пойдите к нему, капитан, посидите.
Монастырский. Иди, Гаврюша. Ну-с, теперь я с вами расправлюсь, Полина Ивановна. Стучу!!
Играют. Капитан идет к Таежникову и садится возле постели на стул. В течение их дальнейшего разговора со стороны играющих доносятся возгласы: «пасс!», «стучу!» Изредка громкий смех Паулины и Сени.
Прелестнов. Ну, как, брат Миша? Голова болит?
Таежников (не меняя позы). Нет. А ты что же бросил игру?
Прелестнов. Игру? Позволь тебе заметить, юноша, что старого воробья на мякине не проведешь. По-твоему, это игра… в орехи! – а я, извини, называю это идиллией в прозе. Человека, который в одну ночь просаживал по сотне рублей казенных, посадить за этакое упра-жне-ние – это даже оскорбительно. Пастила, яблочки, орехи! Ты любишь идиллии в прозе, Миша?
Таежников. Люблю.
Прелестнов. Извини, Миша, но не верю: мы слишком схожи с тобою характерами, чтобы ты мог преклоняться перед такою… преснятиной. Яблочки! (Наклоняется к студенту и смеется, подмаргивая.) А Тимофей Аристархович-то? Чиновник-то?
Таежников. Ну? Что Тимофей Аристархович?
Прелестнов (надувая щеки). О водочке – ни-ни! А? Чистенький-то какой?
Таежников. Ну?
Прелестнов. А сам так в лес и смотрит, в глазах этакий блуждающий огонек! Принес жалованье домой, а теперь кается, да поздно, брат, – по себе знаю это подлое состояние, испытал!
Таежников. Что же тут смешного?
Прелестнов. Смешно! Кровопиющему тигру – и вдруг яблочка! Пастилы! Орешки!
Таежников. Глупо, капитан.
Прелестнов. Да? Извини, Миша, – глупо, да. Тут идиллия, тут, можно сказать, человеческие сердца отдыхают, а я… Эх, Миша, да разве я сам этому подлецу, этому мерзавцу, этому безнравственнейшему алкоголику не завидую? Завидую. Окружен почтением и лаской, жена то и се, яблочки, наконец – пастила! А моих домашних знаешь? Жену, мамашу и трех своячениц, весь тот мой зловредный гарем? Враги человеку, самые жестокие и даже беспощадные! Я женщин боюсь, Миша. Почему я брожу, как Вечный жид в сочинении господина Евгения Сю[22]? Не осуждать ты должен, Миша, а протянуть руку сострадания и помощи!
Таежников. Да я и не осуждаю.
Прелестнов. И понимаешь: ни копейки! Хранилища пусты, как лопнувшая банкирская контора. Но – бросим эту гнуснейшую прозу, я ведь знаю, что и твои хранилища пусты, иначе – ни сантима? Ну, конечно, разве бывают у благородных людей деньги! Но не беспокойся обо мне, я как-нибудь устроюсь. (Наклоняясь, внушительно.) А скажи, Миша, как это у тебя… вообще, твои идеи, а?
Таежников. Ничего, все так же.
Прелестнов (значительно). Все так же? Да, да, брат, идеи это, брат, не кот наплакал. Ты у нас умница, мы тебя выведем в люди! А этого… сочинения твои?.. Не берут?..
Таежников. Не берут.
Прелестнов. Подлецы!
Елизавета Семеновна. Капитан, что же вы скрылись? Без вас дамы скучают, идите, пожалуйста!
Монастырский (басом). Капитан! Прелестнов!
Прелестнов. Сию минуту-с, хочу немного отдохнуть от возбуждения… (Вдумчиво.) Миша, может быть, тебе бумагу переменить надо… не та бумага, а?
Таежников. Ну что ты глупости говоришь!
Прелестнов. Нет, Миша, ты не прав: бумага имеет большое значение, поверь моему опыту. Пишешь ты, скажем, прошение, и одно, брат, дело, когда бумага глянцевая! приятная! внушающая доверие! или… Ну, ну, очень возможно, что я и неправ. Действительно: при чем тут бумага, когда сама душа человеческая!.. Слыхал я от Егора, что ты дошел, в некотором роде, до отчаяния и даже намерен прибегнуть к чернорабочему труду. Неужели это правда, Миша?
Таежников (хмуро). Врет Монастырский.
Прелестнов. Нельзя! Нельзя, Миша! Как можно допустить, чтобы благородный человек и вдруг так унизился. Скажу о себе…
Среди играющих движение и спор.
Горожанкин. Нет, я лучше сюда пересяду. Пусти, Татьяна. Ремиз за ремизом, это ты меня, Семену подводишь.
Сеня (сквозь слезы). Я только смотрю.
Горожанкин. И смотреть нечего, а надо спать, вот что! Удивляюсь вам, Елизавета Семеновна, что вы до сих пор не кладете мальчишку спать!
Таня. Он никому не мешает, папа.
Елизавета Семеновна. Да, лучше бы ты шея спать, Сеня: воспитанные дети…
Сеня (плача). Я не буду.
Горожанкин. Ну, заревел! Маленький! Плакса!
Паулина. Иди ко мне, Сеничка. Пусть мои карты смотрит, он счастливый.
Елизавета Семеновна. Он еще немного посидит; Тимофей Аристархович. Сиди, Сеня, но только не мешай.
Горожанкин (садясь на новое место). Пусть сидят, мне-то что! Игра… Что ж капитан ваш не идет?..
Монастырский. Не волнуйтесь, Тимофей Аристархович, сейчас пришлю капитана. Сдавайте пока, карты стасованы. (Входит за перегородку и за рукав поднимает капитана со стула.) Иди, Гавриил. Ну?
Прелестнов. Не хочется мне, Егор.
Монастырский. Иди, иди, нечего!
Капитан присоединяется к играющим, его встречают возгласами: «сюда, капитан, сюда!» – «возле меня!» Монастырский закуривает папиросу.
Таежников (не меняя позы). Что ты там болтаешь про меня капитану?
Монастырский. Что такое? Ничего я не говорил, просто сочиняет, лысый черт. Михаил, пошел бы ты к нам, посидел, все веселее, честное слово! Не хочешь?
Таежников. Нет.
Монастырский. Татьяна Тимофеевна очень о тебе беспокоится. Несчастные они люди, Миша, душа надрывается на них смотреть: и за что такое бывает с людьми? Мы еще молоды с тобою, у нас есть еще будущее…
Таежников (иронически). Будущее?
Монастырский (грустно). Знаю, что ты не веришь уже и в будущее, Михаил, но позволь мне остаться при моем убеждении: рассеются тучи, и взойдет солнце и своими лучами разгонит мрак твоей души. А эти? Этот горбатенький и слабый Сеня, радующийся малейшему лучу света! Как он любит своего недостойного отца и как груб с ним этот краснорожий мерзавец! А Елизавета Семеновна в своем праздничном виде?.. Сейчас закашлялась она, гляжу я, а платок-то у нее в крови – ты понимаешь зловещее значение этого признака, Миша?
Таежников. Она еще раньше с ума сойдет. Еще раз увидит своего Тимофея Аристарховича пьяным…
Монастырский. Да, этого и Татьяна Тимофеевна боится. А ты знаешь, что мы с Татьяной Тимофеевной уже два дня, как сыщики, за ним ходим? И все-таки чуть-чуть не прозевали: каким-то задним ходом пробрался, уж на самом пороге кабака настигли его и таки привели домой. Вся улица на нас смотрела, как мы его заклинали… алкоголик безнадежнейший и мерзавец! Мертвые люди!
Таежников. Да, мертвые.
Монастырский (вздыхая). Миша, голубчик, пойдем туда, встань хоть ты, смотреть я на тебя не могу: так ты исхудал и побледнел… Миша.
Таежников. Нет.
Монастырский (горько). Так и будешь лежать?
Таежников. Ослабел я, Егор. Мертвый и я.
Монастырский. Вижу я! Вижу, что ослабел, оттого так и страшусь я за тебя, мой друг. Татьяна Тимофеевна сказывала мне, что вот уже неделю ты предаешься этому ужасному занятию людей отчаявшихся: почти не двигаясь, лежишь на своей постели и молчишь. Мне страшно вымолвить это слово, но подобием гроба становится твоя бедная и жесткая кровать. Двигайся, Миша, хоть как-нибудь; хоть куда-нибудь, но двигайся, Миша: вместе с движением, как тебе известно, кончается и жизнь!
Таежников (угрюмо). Мне некуда идти. Я – жду.
Монастырский. Но чего?
Таежников. Солнца, про которое ты говорил только что, или… смерти. У меня нет сил бороться дольше. Да и во имя чего стал бы я бороться, подумай? Во имя таланта? Но у меня его нет, я в этом твердо убедился после всех моих смешных и жалких попыток создать что-то замечательное… Бездарен, бессилен!
Монастырский. Живут же люди и без таланта, Миша. Талант – дар случайный, над которым мы не властны, но есть другое, к чему зовет нас наша совесть и ум: любовь к людям, несчастным и обездоленным. Разве для этого не стоит жить?
Таежников. Сказать ли тебе странную вещь? Я их не люблю.
Монастырский. Не может быть! Ты клевещешь на себя.
Таежников. Думай как хочешь. Была, пожалуй, и любовь, но словно выгорела она в огне моих страданий. Нет, никого не люблю, пусто и мертвенно во мне, как в могиле. А ты также думаешь, что у меня нет таланта?
Монастырский (смущаясь). Если хочешь полной и откровенной правды, то… сомневаюсь я, Михаил! Мне лично твои произведения кажутся достойными самой высокой похвалы, и Татьяна Тимофеевна также…
Таежников (садясь на постели). Да, да, я понимаю. Впрочем, это и не важно, и просто я несколько устал и поддался ипохондрии. Пустяки, Егорушка, пустяки, и спасибо тебе… за откровенность. Надо двигаться, это верно. Завтра же сажусь за переводы, которые ты мне принес, и…
Монастырский. Ты обещаешь мне это?
Таежников. Да, да. Пойди к ним, а сейчас и я…
Монастырский. Ты придешь? Вот я хвалю, Михаил, тут я узнаю тебя. Голубчик, ведь ты же сильнее всех нас, вместе взятых; и вдруг этот одр!.. Чепухенция, Миша!
Таежников. Да, да, иди. Я только волосы причешу.
Монастырский, веселый, выходит к играющим, делает ободрительные знаки Тане. Таежников, после его ухода, бросается лицом вниз, на подушку, и так несколько мгновений лежит в мертвой мучительной неподвижности. Потом встает, поправляет волосы и Дергает лицом, как бы приучая его к улыбке. Монастырского весело встречают.
Прелестнов. Егор! Сюда, садись и помогай – заклевали меня эти дамы.
Паулина. Нет, ко мне, Егор Иваныч, вы такой счастливый. Я уже гривенник проиграль!
Елизавета Семеновна. Егор Иваныч сядет возле меня. Садитесь, Егор Иваныч, здесь такой азарт… наш милейший капитан бьет нас, как своих турок. Немножко поиграем еще, а потом я попрошу всех закусить чем Бог послал.
Прелестнов. Не откажусь. Ваша сдача, Татьяна Тимофеевна.
Сеня. Егор Иваныч, Яков Иваныч опять даму с королем спутал! (Хохочет.)
Елизавета Семеновна. Сеня! – Стучу!
Таня. Кто еще? Ты, папа?
Входит Таежников, его встречают восклицаниями.
Прелестнов. Сюда, Миша, на выручку.
Елизавета Семеновна. Садитесь, Михаил Федорович, мы сейчас сдадим снова.
Таежников (улыбаясь). Нет, я пока посмотрю. Я тут сяду.
Таня (тихо). Голова еще болит, Михаил Федорович? Вы немного бледны.
Таежников. Нет, лучше стало. Мы с Сеничкой посидим, ладно, Сеня? Ну как, капитан? (Садится возле Сени, осторожно обнимая его поверх горба. Улыбается.)
Прелестнов. Да что, Миша, – ни в каком словаре не найдешь таких слов, чтобы описать коварство этих дам! Подсиживают со всех сторон. Зная мой пылкий темперамент.
Елизавета Семеновна. А вы не зарывайтесь, капитан. Нельзя же все втемную да втемную.
Сеня. Ты сама втемную, мама!
Елизавета Семеновна. Молчи, Сеня! Мне очень везет, и оттого я позволяю себе рисковать, а капитан… (Взволнованно.) Вот: и опять стучу!.. Посмотри, Танечка, что у меня. Видишь, а?
Горожанкин (фальшиво). А вы что же не поиграете, господин студент? Хотя, конечно, на орехи, но игра интересная… для препровождения времени?
Таежников (сухо). Не в настроении-с. Тебе удобно, Сеничка?
Монастырский. Стучу и я… эх, где наша не пропадала!
Прелестнов. А я пас. Ну и карта – шеперка на шеперке.
Яков Иванович. И я стучу. (Стучит.)
Сеня (в восторге). Яков Иваныч стучит!
Общий смех, смеется и Яков Иванович.
Паулина. Вам сколько карт? Две? А вам?
В молчании разыгрывают. Таня украдкой смотрит на Таежникова, тот хмуро избегает ее взгляда.
Открывается дверь, и в подвал входят два господина: один, барственного вида, в цилиндре и дорогой николаевской шинели; второй одет попроще, в накидке и кашне, мягкая шляпа, длинные прямые волосы, вид человека радостно взволнованного, полного нетерпения что-то выразить. Быстро сдергивает шляпу почти на самом пороге, тогда как первый еще некоторое время остается в цилиндре и внимательно оглядывается. В первое мгновение их не замечают.
Незабытов (барственного вида). Извините… но скажите, пожалуйста, не здесь ли квартира чиновника Горожанкина? Мне сказали, что вторая лестница вниз, со двора?
Все в смущении вскакивают.
Горожанкин. Да, здесь.
Елизавета Семеновна (краснея). Извините, здесь такой беспорядок… это мой муж, чиновник Горожанкин.
Незабытов. Не беспокойтесь, сударыня. Нам, собственно, нужен не сам господин Горожанкин, а… кажется, у вас должен жить бывший студент Михаил Федорович Таежников? В адресе не совсем ясно указано…
Григорий Аполлонович (шепчет взволнованно). Да вот он, Иван Алексеевич! Это он.
Незабытов. Погодите, Григорий Аполлонович. Я говорю: бывший студент Михаил Федорович Таежников…
Таежников (выступая). Это я.
На него все смотрят, даже свои.
Монастырский (трясясь от страха, капитану). Стой… ты знаешь, кто это? Портреты вспомни.
Прелестнов (вытаращив глаза). Ей-Богу, они! Егор!..
Незабытов. Вы-с? Тогда позвольте познакомиться…
Таежников (слегка дрожит). Я… знаю… (Григорию Аполлоновичу.) И вас знаю.
Григорий Аполлонович (порываясь вперед). Голубчик, мы с Иваном Алексеевичем…
Незабытов. Погодите, Григорий Аполлонович. Мы извиняемся, что так поздно ворвались и, быть может, помешали…
Монастырский (не удержавшись). Да что вы! Помешали!
Прелестнов (испуганно). Егор, я удираю.
Григорий Аполлонович. Ну что вы так медленно, Иван Алексеевич, ей-Богу! Мы с Иваном Алексеевичем…
Незабытов. Но нам хотелось бы наедине, если возможно, поговорить с господином Таежниковым… и вот… (Оглядывается, ища, куда пойти.)
Таежников смотрит вбок, хмурясь и бледнея, говорит крайне тихим голосом.
Таежников. Извините, у меня нет особой комнаты. (Решительно.) Я снимаю угол у господина Горожанкина.
Григорий Аполлонович. Да, конечно, пустяки. Мы и тут можем – правда, Иван Алексеевич, мы и тут можем?
Все уходят во внутреннюю комнату; один Яков Иванович, не совсем поняв, в чем дело, продолжает скромно сидеть на своем месте.
Елизавета Семеновна. Пожалуйста, господа, прошу вас… Да идите же, Яков Иваныч, ах какой вы мучительный! (С отчаянием.) Таня, а карты?!
Таня. Ничего, мамочка… (Увлекает ее, что-то шепча.)
В дверях еще на мгновение заминка с Яковом Ивановичем – и затем в комнате остаются трое: Незабытов, Григорий Апполонович и Таежников. Минута некоторой неловкости.
Григорий Аполлонович (смущенно улыбаясь). Вот мы их и разогнали, и как это неловко вышло. Старичок этот!..
Незабытов. Скажите… Михаил Федорович, мы хотели бы удостовериться: это вы автор сочинения «Повесть в письмах», представленного в редакцию нашего журнала?
Таежников (глядя в сторону). Да-с, я. Это мое сочинение. Я… (Умолкает.)
Незабытов. Видите ли, ваше сочинение принято к напечатанию и… да, оно нам очень понравилось. И… (Молчание Таежникова смущает его.) Но вы молчите? Позвольте, куда вы?..
Таежников (быстро повернувшись, чтобы куда-то бежать, останавливается). Я… (Смотрит прямо горящими глазами.) Этого не может быть! Я… Нет, лучше я пойду… Я…
Григорий Аполлонович. Михаил Федорович! Голубчик! Да вы…
Бросается к Таежникову и начинает его целовать в лоб, в глаза, волосы. Испуганный Таежников сперва отстраняется, ничего не понимая, потом безвольно, с бледным и искаженным лицом, поддается поцелуям. Незабытов также, протянув обе руки, делает шаг к студенту. Григорий Аполлонович невнятно бормочет, целуя студента и плача, потом выделяются слова.
Григорий Аполлонович. Он сомневается, Боже мой, Боже мой, он сомневается! Человек мой, человечек, что написал, что написал! Дай тебе Бог и!.. Бледный, бледный-то какой… человек, человечек мой…
Незабытов. Позвольте и мне поцеловать вас… вы такое, батенька, написали, что!..
Григорий Аполлонович (смеясь, восторженно). Вот и он, ну да! Мы вдвоем, мы… ночью, бегом бежали… извозчика нет… Бледный, бледный-то какой, голубчик мой! Вы не смотрите на него, что он так, Иван Алексеевич всегда так, это у него цилиндр и перчатки, а душа у него, в душе-то он еще больше плачет, чем я! Я что! Правда, Иван Алексеевич, скажите ему?!
Незабытов. Правда, вы такое написали, что…
Григорий Аполлонович. Ну да, а он сомневается. Да как же ты можешь сомневаться, когда в тебе – Бог. Ты не смеешь сомневаться, Богом ты избран на великий, великий, но тяжкий, тяжкий путь! Ты, брат, не радуйся, ты не думай, что это так уж легко… нет, это тяжкий, брат, тяжкий путь, тут терновым венцом, тут крестными страданиями пахнет! Бледней, ничего, бледней! ты человек, ты должен бледнеть, иначе кто ты, если не побледнеешь?.. Но что я, о черт я какой! Да разве ты сам не знаешь? Да разве, не бледнея и не плача кровавыми слезами, пишут такие вещи! Поцелуйте его, поцелуйте его, Иван Алексеевич, смотрите, какой он бледненький, человек, человечек мой!
Таежников. Я…
Умолкает. Глаза его расширены и горят. Неловко, как бы совершая какой-то Не вполне ему знакомый обряд, крепко целует в губы Григория Аполлоновича, потом так же прямо и крепко целует Незабытова. Потом так же прямо, точно и здесь совершая необходимое, отходит к стене и прижимается к ней лицом: так стоит.
Григорий Аполлонович (провожая его такими же горящими глазами). Смотрите, Иван Алексеевич, смотрите, что он…
Незабытов (тихо). Да тише вы, тише… нельзя же так!..
Григорий Аполлонович (смущенно). А что? Разве я опять что-нибудь? Да, да, конечно… (Вскрикивает.) Но он сомневается!
Незабытов. Погодите, погодите, Григорий Аполлонович. Так вот, Михаил Федорович, значит, мы пришли к вам… боюсь, однако, что это вышло несколько сразу и ошеломительно, но, знаете, вы такое написали… Правда, Григорий Аполлонович человек восторженный…
Григорий Аполлонович. А вы сами? Кто сказал: поедем сейчас же? Я? Извините, Иван Алексеевич, но…
Незабытов (улыбаясь). Я, я сказал, ну, а кто вперед побежал?
Таежников обернулся и со странной улыбкой слушает, не слыша разговор.
А кто всю дорогу меня за шинель тащил? А кто доказывал, что вовсе еще не поздно, что совсем еще рано, что…
Григорий Аполлонович (смеясь). Не слушайте его, Михаил Федорович, это хладнокровие у него от цилиндра, он нарочно цилиндр для хладнокровия носит… Но только доложу вам, что если он утверждает, что хорошо, то это уже значит действительно прекрасно! Я что!..
Незабытов. Первая повесть, Михаил Федорович?
Таежников. Я… Нет, не первая. Но… (улыбается счастливо) не печатали.
Незабытов. Да, да, конечно…
Таежников (улыбается). Я еще рассказы писал… плохие!!
Григорий Аполлонович (решительно). Нам надо ужасно много говорить.
Незабытов. Погодите же, Григорий Аполлонович, дайте же нам хоть немного толком…
Григорий Аполлонович (вспыхивая, презрительно). Толком! А, по моему мнению, это и есть бестолковщина, ваш толк. Позвольте вас еще раз спросить, Иван Алексеевич: каким образом такое произведение могло лежать у нас три месяца, а мы преспокойнейшим образом обедали, спали…
Незабытов…ходили гулять…
Григорий Аполлонович (сердито). Да-с, и ходили гулять. Я не щучу, Иван Алексеевич: нам надо изменить этот порядок! Ваша контора позволяет себе черт знает что! (Внезапно улыбаясь светлейшей улыбкой, похлопывая Незабытова по плечу, Таежникову.) Какой сухарь, а? Черствейший эгоист! Нет, нам надо ужасно много говорить!
Незабытов. И поговорим, и поговорим… но только не сегодня, сегодня поздно.
Григорий Аполлонович (снова хмурясь). Какое еще поздно?
Незабытов (значительно). Да, да, поздно. Да и Михаилу Федоровичу надо немного отдохнуть от неожиданных впечатлений, а вот уже завтра – мы начнем!
Григорий Аполлонович. Вы утром приходите к нам, мы рано встаем.
Таежников. Хорошо, я приду. (Внезапно хмурясь.) А вы не шутите… нет-с, я так. (Снова раскрываясь улыбкой.) Правда, я немного взволновался и… Вот видите!
Незабытов. Конечно, конечно, да как и не взволноваться? Вдруг нагрянули ночью и сразу… Это квартира чиновника Горожанкина? И давно здесь изволите проживать, Михаил Федорович?
Таежников. Давно, год. Они очень хорошие люди. Только он пьяница. А Елизавета Семеновна чахоточная, скоро умрет. У них еще сын, Сеня, горбатенький… (Внезапно губы его вздрагивают и на глазах показываются слезы – первые слезы.) Они очень бедные люди.
Незабытов (как бы не замечая его волнения). Да, обстановочка… (Оглядывается.) Год, значит, изволили прожить.
Таежников. Да, год, собственно, одиннадцать месяцев. Раньше я у тетки жил, генеральши, но они такие… (Опять вздрагивают губы и на глазах слезы.) У меня отец и мать… мама… умерли…
Незабытов. Один, значит? Так, так. А что у них сегодня – именины?
Таежников (улыбаясь). Нет. Сегодня Горожанкин получил жалованье и совершенно трезвый, совершенно! Вот Елизавета Семеновна и устроила, она немного сумасшедшая, у нее странности… впрочем, совсем немного. В стуколку на орехи играли… тут еще капитан один. Они вас по портретам узнали и испугались… я тоже по портрету узнал.
Незабытов. Дела-то у вас, вероятно, плохи?
Таежников (улыбаясь). Нет, ничего. Да, плохи.
Григорий Аполлонович (дергая Незабытова за рукав, шепчет). Иван Алексеевич!..
Незабытов (отнимая рукав). Оставьте меня, Григорий Аполлонович. Итак, милый вы мой Михаил Федорович…
Таежников (хмурясь и как бы начиная что-то сознавать). Извините, я не вполне точно, кажется… (Хмурясь больше.) Правда, здесь очень бедно и даже как будто не на чем сесть…
Григорий Аполлонович. Да сидим же мы, ах, Господи!







