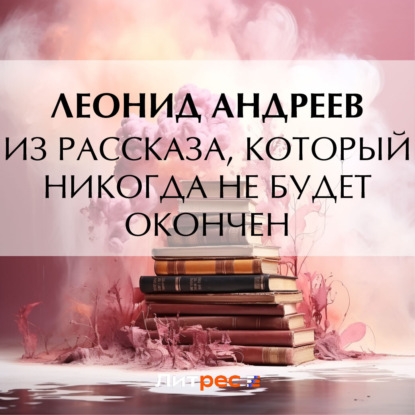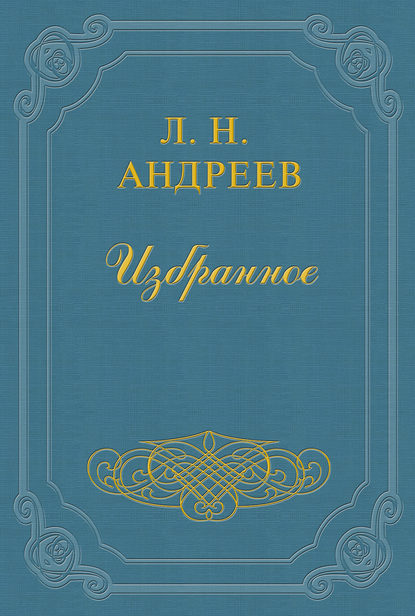 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Леонид Николаевич Андреев Ипатов
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Леонид Николаевич Андреев
Ипатов
Жил в Москве богатый купец – Ипатов, Николай Павлович, человек самый обыкновенный, ни грехами какими-нибудь особенными, ни добродетелью не отличался. Был только доверчив, да и то по-купечески, с оглядкой. Дело он вел большое и запутанное, допускал кредит и имел много должников. Была у него и семья, сыновья и дочери, какие-то племянницы и племянники, жившие при доме. Большая семья, а появилась незаметно, выросла как шерсть на коже: и тепло от нее, и страшно за нее. А она тоже себе живет.
И было все так обыкновенно, и вдруг произошло необыкновенное и поистине страшное, не имеющее разумного объяснения.
Разорился Ипатов. Сперва ему по нескольким векселям не заплатили и сильно его подвели, а потом он не заплатил, и дошло дело до судебного пристава. Но к тому времени Ипатов ослабел, впал в мрачное равнодушие и решил: пусть описывают, пусть продают, никого видеть не хочу. И уехал на два дня к Троице, где были у него знакомые монахи: не то отмолиться, не то просто отсидеться думал.
Но столичные адвокаты – народ хитрый. Было это под Рождество, и как раз в канун, в самый сочельник, приехал адвокат с судебным приставом и сказал:
– Мы его не по карману, а мы его по самолюбию купеческому ударим, – вот как!
И не стал разыскивать ни золотых брошек, ни толстых дутых купеческих браслетов, – охота трудиться и вступать в спор с женщинами! – а велел обвязать толстою веревкой рояль и наложить печать. Таким же образом обвязал и припечатал люстру, что над самым обеденным столом, и уехал, – оглянуться не успели. И всего пробыл пять минут, а наделал такого, что вся купеческая семья от мала до велика ревом взревела. Стыд! Завтра Рождество, сколько народу будет, дочки танцевать собирались, а тут веревки да печати, – и веревки-то корявые, в узлах, от груза в сарае валялись.
Вернулся Николай Иванович из монастыря, взглянул на люстру и спрашивает, как будто не понял ничего:
– Это что?
А жена плачет и говорит:
– Нет, ты в залу поди и глянь, что с твоим роялем сделали.
Уже к полуночи разыскал Ипатов пристава, – а пристав с женою в церковь собирался, – и насилу, насилу-то умолил его деньги взять и поехать снять печати.
– Да вы сами их снимите, – возражал пристав, одетый по-праздничному. – Я вам удостоверение дам.
– Нет уж, Христом-Богом молю, поедемте со мною, Я теперь всего боюсь, – умолял Ипатов.
– Да я вам божусь…
– Нет уж, не откажите. Я вас отблагодарю, не пожалеете!
Поехал-таки пристав и сам в присутствии дворника снял печати и развязал корявые веревки.
Так вышел Ипатов из своего мрачного равнодушия; и еще целых два года после этого он суетился до истомы, подпирал плечом падающее, ловил пальцами воздух; как баба после пожара, копался на пожарище, угадывал, где что сгорело. И тут все еще не было ничего необыкновенного: в те тяжелые годы много народу поразорилось, и кто поправился, а кто и совсем обнищал, – таких, как Ипатов, в одной Москве насчитывалось десятки. Да и не так уже плохо обстояло у Ипатова: по окончании всех дел остался у него двухэтажный дом на Зацепе и тысяч пятнадцать чистого капитала, – при бодром расположении хоть снова дело начинай. Он и начал бы, так как при своих годах и седине телом был крепче сыновей и племянников, – не порази его душевная болезнь.
Вот эта болезнь и есть то необыкновенное, что отличило его от всех людей его положения, сделало его судьбу замечательною и поистине страшной. Есть мера греху и возмездию, и над жизнью всех людей и судьбою ихнею зрится дух справедливости, но от жизни Ипатова отошел дух справедливости, безмерность страданий кощунственно превысила меру греха, и стал человек как бы игрушкою в руках свирепого беззакония.
Началась болезнь с молчания и слез. То, что говорил Ипатов, не было неразумно и не обнаруживало больного ума; но все меньше он говорил, а молчать начал часами. И, оставаясь молчаливым, не жалуясь и не ропща, он вздыхал протяжно и так горестно, что как бы последним, как у умирающего, являлось каждое дыхание его. Но не было оно последним, как у умирающего, и, в себе самом черпая горькую силу, возрастало оно до степени воздушного крика, бессловесного стенания. Уже весь дом смолкал, внимая стенаниям, а они все продолжались и вдруг заглушались тишиною; и тогда можно было видеть, заглянув в щелку двери, что Ипатов сидит, склонившись над столом, положив руку на деревяшки счетов, и горестно плачет, каплет слезы и на руку, и на счеты.
И в начале болезни своей Ипатов стеснялся не только плакать, но и молчать на людях: то ли улыбнется, то ли скажет пустяк, незаметно поднимется и уйдет к себе в комнату за своим горьким делом. Но уже вскоре пропали люди из глаз его, и везде стал он один; и уже случалось: ведет его жена по улице, а он плачет, лицо мокрое; утирается рукавом, словно малое дитя. И такую тоску стал он наводить на здоровых, что даже в церковь его допускали неохотно; а под конец и совсем запретили. Приходский батюшка, выслушав много жалоб, не совсем по совести порешил:
– Дом Божий – дом радости, а не стенаний, каким место только в аду. И если уж при виде святых угодников и Царицы Небесной не просветляется его дух, то и нет ему места перед ликом их чистым. Почем я знаю его грехи? Он уже три года не был у меня на исповеди.
– Нет у него грехов, я знаю, – возразила жена.
– А я знаю, что есть! Открой его грех, я тогда перед всем народом на поучение его поставлю, тебя не спрошу, а теперь от него один соблазн и тревога. Веди-ка его домой, а сама приходи молиться, – авось тебя Бог услышит.
Хоть и гордым голосом, но не по совести были сказаны эти слова: будучи уж весьма не молод, батюшка все еще не окреп в вере, страдал сомнениями, терзался тайно. Доходило даже до того, что, стоя в самом алтаре, на мысленной молитве, он вдруг впадал в отчаяние и шептал чужим голосом: «Несть Бог!» – и в безумном извращении видимого благолепный храм со всеми предстоящими казался ему домом для умалишенных. И, признай он, что Ипатов страдает безвинно, лишился бы он и последней веры, благостного сомнения в неверии своем.
Так кривдою слабого ума был отторгнут Ипатов от церкви, но не почувствовал лишения, объятый несказанной и все растущей горестью. Допытывалась жена узнать, о чем его слезы и стенания, но не могла; допрашивали о том же и знакомые троицкие монахи, и приглашенные врачи, но не было и им ответа. Может быть, и хотел страдалец ответить, но не успевало первое слово родиться на устах его, как переходило оно в бессильное дрожание губ, срывалось дыхание, и в тесноте груди, сдавленной жерновами, замирала человеческая речь. Раз только на вопрос жены: «Тебе больно?» – он явственно сказал:
– Больно.
Но и только всего сказал он, ни слова не прибавил, так-таки и не открыл тайны страдающего сердца. Да и была ли тайна? Не вся ли жизнь его была доподлинно известна, и не было в ней сокрытого, не было тайного и в темноте своей порочного.
Около года провел в таком состоянии душевнобольной; и не было за год времени даже часа, когда отдохнул бы он от слез: не высыхали глаза и уже начали гноиться, предвещая слепоту. Но голос стенаний оставался чистым, и даже появилась в нем особая мягкость, как в голосе женщины или еще невинного подростка. Из дальней комнаты порою чудилось, что это ребенок плачет, а не пожилой, стареющий мужчина. И ночь не освобождала страдальца: лежал он, покорный, и во сне мучился так же безысходно, как и наяву, мочил седую бороду в неистощимых слезах. Придет жена со свечкою, постоит, посмотрит, – то ли это муж ее, с которым в согласии прожила двадцать лет, то ли совсем чужой, неведомый и страшный человек… Двоится в глазах, деваться некуда, только одно спасение и есть что смерть.
И другой от таких страданий давно наложил бы на себя руки, но либо потерял Ипатов соображение, либо перешли мучения ту грань, за которою не властен человек поднять руку даже на себя. Очертило его своим кругом страдание, и стал он всему миру чужд и как бы неприкосновенен. Так было год, а по прошествии года прибавилась некоторая новая черта, завершившая все еще незавершенное и придавшая жизни Ипатова последний и окончательный вид.
Существовал в доме под лестницей темный чуланчик, где спал один из племянников, незадолго перед тем умерший от чахотки. Вот в этот без света чуланчик на охолодавшую кровать и залег однажды Ипатов, чтобы не выходить уж больше и не видеть света. Вначале пробовала жена отвести его в спальню, на собственную роскошную, купеческую кровать, но снова и снова уходил Ипатов в чуланчик, – там его, наконец, и оставили. Там он и жил, не видя свету, еще целых двенадцать лет.
И двенадцать лет, не смолкая, неслись из чуланчика стенания, и двенадцать лет, не осушая глаз, плакал от неведомого, ужасного горя несчастный купец. Вечный сумрак крыл его черты, и это было благом для людей, так как не мог бы человеческий взор вынести душепротивного зрелища столь ужасных страданий, не имеющих корня ни в божеской, ни в человеческой справедливости. Гнильем и затхлостью пахло из чуланчика, тяжелой человечиной пахло; как старый пень в сыром и темном овраге, медленно изгнивал купец, взбухший, тяжелый и трухлявый. Словно мох, расползлась по всему лицу борода, полезла из ноздрей, застлала уши, подобралась к самым глазам, – а глаза-то вытекли, а глаза-то вытекли, а глаза-то вытекли у купца, вытекли! Но что же это за горе такое, которому нет конца и предела, которое не насыщается ни временем, ни слезами, которое не спит и не дремлет, а бодрствует в ночи, которое не приходит и не отходит, а стоит вечно, не имеет над собою закона, – что же это за страдание такое?
Волоклись годы, как грабли, и выгребали сорное; кто из детей Ипатова умер, кто поженился и завел свой дом; второй сын, Василий, открыл свое дело, стал твердо, приобрел немалую силу и совсем отошел от отца и матери. Переменились и соседи, другие фамилии стали у домов, и уже мало кто помнил и знал Ипатова. Умер и приходский батюшка, к концу дней своих обретший веру и успокоение, и только с несчастным купцом оставалось без перемен: как лежал в чуланчике, так и лежит, не живет и не умирает, а только стонет по-прежнему и прегорько рыдает.
Не изменила и верная жена, Настасья Григорьевна. Другая бы как поступила? Отдала бы старика в богадельню или в сумасшедший дом, а сама к женатому сыну пошла бы, внуков нянчила, пользовалась бы разными старушечьими радостями, – никто и не осудил бы ее. Была она к тому же привычна к роскошной жизни, избаловалась достатком, в молодости любила удовольствия: и танцы, и приятный разговор, и театр по праздникам. Но, против всякого ожидания, не оставила она больного мужа, несчастного старика своего, как верная подруга, добровольно разделила его горькую и необыкновенную судьбу. Помочь нельзя было, так она ухаживала за страдальцем: кормила его с ложки, как младенца, меняла белье, водила по нужде и в затхлый маленький чуланчик старалась напустить свежего воздуху, а в остальное время раскладывала пасьянс либо беспредметно и молча по нескольку раз обходила пустые комнаты, чистила, прибирала, сама подметала и мыла пол. Только нечего было и чистить, так как некому было и сорить. Напрасно и сын Василий увещевал ее, тянул к себе под разными предлогами.
– Папаша все равно человек конченый, – говорил он, – а у меня сынок-младенец без присмотру, большое хозяйство. Катя моя молода, любит удовольствия и за всем уследить не может. Прошу вас, мамаша, переезжайте ко мне, а папашу я устрою сообразно его положению.
Был у него при этом и свой расчет: продать ненужный дом и деньги пустить в оборот, но, кроме того, он и сердечно жалел измученную мать. Но и против сына отстояла свое право Настасья Григорьевна и лишь в утешение ему, понимая его тайные расчеты, вывесила на воротах билетик о продаже дома. Мало, однако, находилось покупателей, да и тех искусно отводила Настасья Григорьевна, назначая невыгодные условия, пока, наконец, разбогатевший Василий не решил оставить ее в покое: недолго уж и до смерти оставалось.
И года за два до смерти Настасьи Григорьевны, лишь на несколько дней опередившей кончину несчастного мужа, зашли как-то случайно покупатели: один был комиссионер и переводчик Никитин, другой – иностранец, по фамилии Гартмут, ничего не говоривший по-русски. Немало печального видел по своей профессии Никитин, но и тот расстроился, как увидел пустые комнаты, чистоту ветхой мебели, пожелтевшие кисейные занавески; страхами зимы, бесприюта и одиночества повеяло на него от блестящих крашеных полов, отражавших оконные переплеты и имевших такой вид, как будто по ним никогда не ступала человеческая нога. Иностранец же, который не ожидал ничего такого, совсем потерялся; а когда снизу, откуда-то из-под лестницы, донесся тихий, но явственный стон, – схватил Никитина за руку и почти что закричал на своем языке:
– Что здесь такое?
Но комиссионер и сам толком не знал. Тогда расспросили Настасью Григорьевну, и она совсем по виду как бы равнодушно рассказала о необыкновенной болезни Ипатова.
– И давно это продолжается? – спрашивал немец через переводчика: от волнения он был совсем красный и давно уж, забыв о покупке, хотел уйти, но не знал, как это сделать.
– Тринадцать лет, – ответила Настасья Григорьевна.
– И так он все время и плачет? А ночью он тоже плачет?
– Да, тоже и ночью.
Сама она как будто и не слыхала неумолкавших стонов; стояла, покорно сложив руки, и смотрела покупателю прямо в глаза. Но вдруг ей стало совестно, что она обманывает продажей деловых людей, и предложила им чаю.
– Не откушаете ли чаю?
Отказаться от чаю показалось невозможным, и оба остались. Целый час возилась в кухне старуха, разводя самовар, и этот ужасный час показался полным годом чувствительному и добросердечному иностранцу. Он никак не мог примириться с тем, что далекие стоны не прекращаются, и сперва хотел заглушить их разговором о других продажных домах, а потом и Никитину велел замолчать и только слушал.
– Нет, это невозможно? – говорил немец и чуть не плакал, хотя был совсем посторонний человек и провел в несчастном доме не больше часу.
– Ужасно! – отвечал уже успокоившийся комиссионер, обдумывая новые планы.
Немец с ненавистью посмотрел на его равнодушное лицо и вдруг сердито сказал:
– И с вами то же будет.
– За что? – удивился и даже усмехнулся Никитин. – Я ничего такого не сделал.
– А он сделал?
Тут оба они, при этих простых словах, вдруг поняли и почувствовали, что не нужно человеку вины, чтобы на всю жизнь стать несчастным и без меры наказанным. И, поняв это, ощутили столь сильный страх за себя и своих близких, что не могли ни одной минуты долее оставаться в этом доме, и поднялись, чтобы уходить. Но уже вносила чай Настасья Григорьевна, и опять не хватило сил уйти. Когда же, слушая далекие стоны, пил немец горячий чай с вареньем, то думал, что нет на свете ничего страшнее, как вкус горячего чая и варенья из черной смородины.
С улицы они еще раз взглянули на дом Ипатова и поспешно разъехались по домам, так как каждому казалось, что дома без него произошло несчастье.
1911