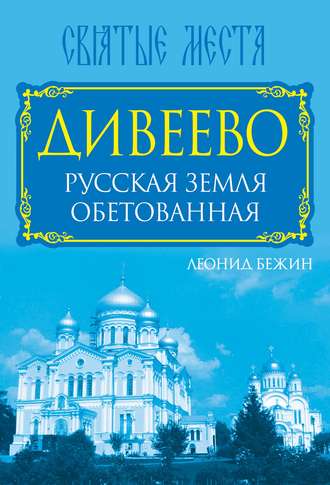
Леонид Бежин
Дивеево. Русская земля обетованная
© Бежин Л.Е., 2014
Часть I. Два чуда
Глава первая. Осиянный нездешней радостью
Способны ли мы до конца осознать, что такое Серафим для России? «И когда на другой день понесли вокруг церкви гробницу святого Серафима, и полетели над толпой к этой гробнице перебрасываемые холсты и представились мне руки, сеявшие и дергавшие лен по всей России, и прявшие и ткавшие его по темным избам по всей России, и глаза, не знавшие иной надежды сквозь слезы бабьей доли, – то поняла я, что такое Серафим для всей России». Так пишет Маргарита Сабашникова в своей книге о преподобном: вот ей приоткрылось… и она поняла… И все-таки вопрос остается, – во всяком случае, для нас. Да, мы чтим преподобного Серафима, мы совершаем к нему благочестивые паломничества, прикладываемся к мощам, вновь обретенным в 1991 году, просим о помощи и заступничестве, но – осознаем ли? Именно мы, живущие в XXI столетии, ведь нас отделяет от него почти два века? И отделяет, и отдаляет, и в этом мы уступаем тем, кто был ближе, внимал народной молве о подвигах старца, возможно ездил к нему за советом, терпеливо дожидаясь у кельи его выхода, просил об исцелении или даже пользовался доверительным расположением, как верный служка Мотовилов.
Так, может, они, ближние, по-настоящему осознавали?
Нет, они благоговели, дивились, изумлялись, страшились совершаемых им чудес и завороженно внимали предсказаниям, но осознание все же дано нам, дальним, свидетелям того, как сбылось. Сбылось многое из предсказанного преподобным, воплотилось, приобрело рельефные очертания – Крымская война, октябрьский переворот, гонения на церковь, Гулаг, страдания и мучения миллионов узников. Да и о чудесах-то в полной мере узнали уже после смерти Серафима, поскольку при жизни он о многом заповедовал не разглашать, молчать до поры до времени.
И как Богоматерь ему являлась, и как на камне тысячу один день и тысячу одну ночь молился, как медведя кормил – после, после…
Таким образом, мы – дальние, и у нас – перспектива. Мы словно бы стоим на вершине горы, и перед нами, как облака, проплывает минувшее: месяцы, годы, столетия. Но, в то же время, как не позавидовать белой завистью тем, кто был рядом с преподобным Серафима, слышал голос, чувствовал прикосновение благословляющей руки, получал в подарок сухарики или частицы просфоры! Это, пожалуй, в чем-то дороже перспективы, теплее, интимнее, одухотвореннее, и этого нам будет отчаянно не хватать. Поэтому взамен мы должны попытаться воссоздать утраченный земной образ преподобного Серафима, чтобы дивный старец возник перед нами как живой со всеми его излюбленными словечками, прибаутками, движениями, жестами.
Серафим и такой – сохранился.
Сохранился во многом благодаря прекрасной русской книге – «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря», написанной священномучеником Серафима Чичаговым. В нее включены живые свидетельства, простые, бесхитростные, со всеми особенностями устной речи рассказы тех, кто лично знал старца, – подлинные сокровища, жемчуг духовный, как говаривали когда-то. И нам остается лишь выбрать самое живое и характерное.
Но что же, что же выбрать, чтобы сразу возник образ? Может быть, Серафимовы приветствия – «Радость моя!», «Сокровище мое!» или «Ваше Боголюбие!» – с коими встречал он всех своих гостей? Да, пожалуй, тут мы сразу слышим голос Серафима, как и в многочисленных свидетельствах о нем тех, кто бывал у него со своими просьбами, жалобами, надеждами: «Я все плакала, да и пошла к батюшке Серафиму; все ему рассказала. Сама плачу, стою перед ним на коленях. А он смеется, да так ручками и сшибается (т. е. хлопает рука об руку» (рассказ старицы Варвары Ильиничны).

Сшибается ручками – какой точно подмеченный жест, какая выразительная деталь! Но, может, лучше всего обрисован Серафим в рассказе дивеевской сестры Капитолины: «А как батюшка-то любил нас, просто ужас да и только, и рассказать-то уж я не умею. Бывало, придешь это к нему, а я, знаешь, всегда эдакая суровая, серьезная была, ну, вот и приду, а он уставится на меня, да и скажет: «Что ж это, матушка, к кому это ты пришла-то?» – «К вам, батюшка», – отвечу я. «Ко мне, – скажет он, – да и стоишь, как чужая, ко мне-то, к отцу, что ты, что ты, матушка!» – «Да как же, батюшка, – бывало скажу я, как же». – «А ты приди, да обними, да поцелуй меня, да не один, а десять раз поцелуй-то, матушка!» – ответит он. Бывало и скажешь: «Ах, да как же это, батюшка, да разве я смею!» – «Да как же не смеешь-то; ведь не к чужому, ко мне пришла, радость моя, эдак к родному не ходят, да где бы это ни было, да при ком бы ни было, хотя бы тысяча тут была, должна придти и поцеловать, а то, что стоишь, как чужая!»
Ну, не подлинное ли чудо этот рассказ?! Мы словно заглянули в окошко Саровской кельи и увидели двоих: одна суровая и серьезная, наверное и губы поджаты, и брови сдвинуты, будто и впрямь чужая, а другой – весь сияет, лучится, сама доброта и отцовская любовь. Десять раз его поцеловать, ведь он родной, роднее не бывает! Такой рассказ не придумать, не сочинить – только наспех записать, чтобы ни словечка не пропало. Да, пожалуй, как нигде мы видим здесь, распознаем, угадываем живого Серафима.
И все же, все же… Пожалуй, для меня Серафим – в одной фразе, встречающейся у многих рассказчиков, повторяемой как рефрен, поэтому я и приведу ее не по одному конкретному месту из «Летописи», а обобщенно. Батюшке Серафиму была свойственна особого рода восторженность. Восторженность сродни той, с которой библейский царь Давид плясал перед ковчегом. Вот и Серафим… нет, не плясал, но, как передают о нем: «Во, во, матушка! Так и будет! – повторял Серафим, скача от восторга».
Скакал от восторга, осиянный нездешней радостью. Поистине в этом весь Серафим.
Глава вторая. Машнины
И жили рядом с храмом, и думали только о нем, и так хотелось в будущее заглянуть, хотя бы одним глазком высмотреть, каким он будет, когда, наконец, достроят.
Вот об этом-то и без конца спрашивали, пытали друг друга, особенно дети – те аж заходились от жгучего любопытства, от азартных своих фантазий. Заберутся на печку, подбородок в острые кулачки упрут и ну расписывать. Чего им только ни чудилось, ни блазнилось. Хотя что спрашивать-то, если ответ заранее известен (так рассуждали старшие). А таким наверняка и будет, каким изобразил его на рисунках и чертежах столичный архитектор, важный господин с голым черепом, обтянутым морщинистой кожей, сырым, помятым лицом и неестественно большим расстоянием от носа до тонких, по-бабьи поджатых губ – один из учеников знаменитого Растрелли, которому заказали проект. Исидор Иванович сам ездил заказывать, долго разыскивал дом на Невском проспекте, стучал в дверь с медной табличкой. И, смущенно покашливая в кулак, разглаживая бороду, от имени всех горожан просил уважить, постараться, чтобы храм был не хуже столичных (столичным-то уже успел надивиться, задирая голову, – только шапку держи, чтоб не упала). Пообещал, что в долгу не останутся, сунул руку за пазуху и выложил на подзеркальник пухлый, перевязанный бечевкой конверт:
– Извольте, не побрезгайте – авансец.
И снова смущенно кашлянул, даже слегка зарделся.
– Деньгами не брезгаем. Напротив даже. – Ловким щелчком господин отправил конверт в выдвижной ящик подзеркальника. Отправил и непринужденно задвинул: – Благодарим-с. – Из вежливости счел нужным осведомиться: – Как вам Петербург?
Гостю оставалось лишь развести руками в немом изумлении перед Петербургом и произнести сакраментальное:
– Столица!
Тот осклабился в любезной улыбке.
Через месяц принимали архитектора у себя в Курске. Водили, показывали место, под постройку отведенное, благо вот оно, рядом, в двух шагах от дома. Он осматривал, вымеривал шагами, что-то черкал в записную книжку, соображал. Потом удовлетворенно карандашом по обложке постукивал, на солнце рассеянно жмурился, что-то напевал: расчеты завершены, кончена работа.
– Пожалуйте отобедать. На воздухе-то, чай, проголодались?
– Что ж, охотно.
Попотчевали его курником, поросенком с гречневой кашей, заливным из осетрины, водками и наливками: все-таки столичный фрукт, надо уважить.
Довольный уехал, попросив три месяца сроку, и в положенное время прислал курьера с готовым проектом. Если их разложить, эти чертежи и рисунки, всмотреться в них, то будущий храм словно сойдет с бумаги и повиснет в воздухе, сотканный из струйчатых переливов: легкий, изящный и то же время исполненный державной мощи, с восьмискатным куполом, синяя глава, усыпанная золотыми звездами, на четырехсветном фонаре, стройная трехъярусная колокольня. А изнутри украсят росписями, царские врата позолотят, иконы в резных окладах повесят. Ох, и красив будет храм – из всех курских-то самый красивый, пышный и великолепный. Как запылают жарко свечи, польется с колокольни тихий благовест, воскурят ладан в паникадилах, душа и возрадуется, возликует и к горним высям воспарит…
Конечно же, и все разговоры в семье Машинных были о храме.
Вот наступало время обеда, все собирались к столу, звали из дальней комнаты бабушку Феодосию Наумовну, мать Исидора Ивановича, согбенную, иссохшую, с лицом цвета печеного яблока, но ясную умом и глаза ястребиные, зоркие, все примечают. Встречали ее у порога, придерживая под руки, помогали дойти до стола, усаживали в глубокое кресло, укутывали ноги пуховой шалью (если хворала, посылали ей обед с прислугой). Перекрестившись на темные лики икон, покрытых белоснежными рушниками, сами чинно садились за стол; Исидор Иванович наставительно кивал старшей:
– Читай.
Параскева, выпрямившись, оправив на плечах малиновое платье с оборками, перекинув на грудь иссиня-черную косу, прочитывала вслух «Отче наш», после чего все снова крестились и дружно брались за ложки. Но, не успев зачерпнуть из тарелки, Исидор Иванович мнительно прислушивался к стуку молотков за окнами, досадливо морщился, словно над ним назойливо зудела злая муха, и с сомнением покачивал чубатой головой:
– Ох, боюсь, перекосят шельмы. Снова не по отвесу прибьют. Не раз уж такое бывало.
И – за всем догляд нужен – порывался выбежать, проследить и если что – отчитать за нерадивость, дать хорошую выволочку.
Агафья Фотиевна его мягко останавливала:
– Да ты поешь. Остынет.
Но сама не выдерживала и, тихонько выскользнув за дверь, смотрела, как прибивают, и, лишь убедившись, что муж опасается понапрасну, никакого перекоса нет, все по отвесу, возвращалась на место. Он, глядя на нее, понемногу тоже успокаивался, прояснялся, мягчел.
Дальше мирно обедали, тихонько говорили о подводах с кирпичом, о настилке полов, о резных наличниках для окон, кровельном железе и сусальном золоте. И дети чутко ловили каждое слово – только бы не пропустить что-то важное, а затем, после обеда тоже шушукались в уголке, обсуждали.

Сергиево-Казанский кафедральный собор в Курске возводился стараниями курского купца Исидора Машнина – отца будущего преподобного Серафима Саровского
– Подвода одна застряла, слыхали? Ось-то сломалась, и она набок завалилась. Но кирпичи целы…
– Слыхали, слыхали. Кучер сплоховал. Может, пьяный был.
– Пьяницу батюшка держать бы не стало. На солнышке кучер перегрелся – вот в глазах-то и потемнело, повело. Или заснул…
– Днем-то спать…
– Но! Заснешь, если до этого всю ночь напролет работал по батюшкину приказу.
Детей у Машинных трое: помимо самой старшей из всех Параскевы еще средний по возрасту сын Алексей и младший Прохор. Братья похожи на отца, рослые, крепкие, как боровики, русоволосые, с прямыми носами, глаза словно синькой тронуты, хотя у Прохора – больше в голубизну. Да, такие глаза, словно отражение весеннего неба в них застыло. А Параскева – в мать: темненькая, зеленоглазая, с толстой косой вдоль спины и пушистыми ресницами. Она за братьями смотрит, о них заботится, учит уму-разуму. Псалтырь с ними читает, раз у отца и матери не всегда выпадает на то лишний часок. Исидор Иванович и Агафья Фотиевна хоть и любят детей, но порою кажется, что самое любимое, дорогое сердцу чадо для них – храм, посвященный преподобному Сергию Радонежскому, который они вот уже который год кропотливо, усердно возводят…
Старый деревянный недавно сгорел – весь, без остатка, лишь чудом сохранилась от огня икона Казанской Божьей Матери. Среди головешек и тлеющих углей – цела-невредима. Значит, сама Богородица велела назвать будущий храм Сергиево-Казанским и отстроить его на славу, всем на удивление. Вот и тянулись, поскрипывая, подводы с кирпичом, стучали топоры, сыпали свежими опилками пилы: поднимался храм стараниями Исидора Ивановича, самими горожанами поставленного во главе святого дела, и его верной супруги.
Он-то с чертежами все и сверял и ни малейшего упущения не спускал, артель свою держал круто. Деньги же на храм – от щедрот своих – пожертвовал почетный горожанин Карп Ефремович Первышев. Да, именно он, во всем аккуратный, прилежный, основательный, с закрывающими лысину редкими прядями и надушенными носовыми клетчатыми платками (уголки украшены вышитой монограммой). И другие достойные люди добавили, как пустили шапку по кругу. Чин освящения места закладки будущего храма совершал святитель Белгородский Иоасаф – с зычным голосом, острым кадыком и развевающейся по ветру моисеевой бородой.
Словом, Богородица велела, Карп Ефремович пожертвовал, Иоасаф освятил – не подкачайте, Исидор и Агафья!..
Глава третья. В столярне
Июньский полдень, все сомлело, истомилось от небывалой жары; пылающее солнце в лилово-сиреневом мареве зноя, ни тенечка. Лишь иногда повеет – ветерком не ветерком, а накатит теплыми воздушными волнами, словно паром от вскипевшего молока. И то кажется, будто чуток полегчало, посвежело… Наверное, будет гроза.
– Проша, спустись-ка в ледник, зачерпни кваску холодненького ковшик да снеси отцу. Жара-то какая! Уф, и я-то запарилась! Не расплескай только.
Агафья Фотиевна со двора заглядывает в открытое окно дома, положив загорелые локти на беленый подоконник. И, пока глаза после яркого солнца привыкают к сумраку, в глубине комнаты едва различает фигурку сына, который сидит за столом с книгой, подложив под себя ногу, уж утомился, наверное (и нога затекла): третий час, не разгибаясь. До ученья на редкость охоч, как иные до игр и гулянья. Все это хорошо, конечно, но лишь бы здоров был, не хворал – об этом ее неусыпная материнская забота.
Поэтому тайный замысел ее таков: пусть и отца кваском порадует, и сам разомнется, на солнышке хотя бы чуток побудет, по травке босиком походит, воздухом свежим подышит.
– Хорошо, матушка. Сейчас. Только страничку дочитаю, всего одна осталась…
– Ну, если одна, дочитай, сынок… только не более. Не зачитывайся так, ладно?
– Обещаю, матушка. Не буду.
Дочитав положенную страницу, Прохор послушно закрывает Апостола (по Апостолу учится грамоте у приходского дьячка, подслеповатого, вечно сонного, с редкой рыжей бородкой) и встает из-за стола. Вот он уже на крыльце: наполовину в тени от навеса, наполовину выхвачен солнцем, русые волосы кажутся белей белого, аж глаза слепит. Вот откидывает крышку ледника (слышен скрип несмазанных петель), спускается по приставной лестнице вниз, снова исчезая в темноте, и с ковшом, наполненным квасом, поднимается наверх. Слишком много зачерпнул – чтобы не расплескалось, приходится самому немного отпить. Сладок квас, с изюминкой, и холодный со льда – аж зубы ломит.
Теперь стоит лишь толкнуть низенькую калитку, и он на стройке. Несмотря на жару и палящее солнце, работа споро движется, ладится, кипит. Голые по пояс, взмокшие мужики, натужно выгнув спину, откинувшись назад, носят «козы» с кирпичами, в воздухе висит белая пыль от тесаного камня и носится тополиный пух. Машут хвостами запряженные в подводы битюги, отгоняя слепней и оводов, а уж те кровопийцы – кружат, липнут и молниеносно жалят. Загорелые до черноты землекопы – что твои арапы, хоть и крещеные – размечают яму для отливки первого колокола, прикидывают на глаз, вбивают колышки.
И тут же кудахчут шальные куры, забежавшие со скотного двора, стреноженная лошадь щиплет траву у забора, пчелы кружатся над алыми головками цветов. И рыжий пес Полкан с глухим грохотом волочит цепь по дощатому полу своей будки, все никак не уляжется, язык свисает, жарко и ему, бедолаге…
И в этой толчее Прохору не сразу удается отыскать отца. Смотрит по сторонам, подолом рубашки закрывая и от солнца, и от пыли ковшик с квасом. Вот он, отец, среди мастеровых, тыльной стороной ладони, откинув чуб, вытирает пот со лба и лица, отдает распоряжения, с кем-то спорит, что-то свое доказывает, сердится.
– Батюшка, я вам попить принес. Вот квас холодный, из погреба… – Прохор протягивает ему ковшик.
Отец доволен.
– Ах ты, мой хороший, мой славный! Вот спасибо-то! Угодил! – Отпив немного и утерев губы, Исидор Иванович передает ковш стоящим рядом мастеровым.
Те тоже пьют и чинно, с достоинством благодарят.
– Вот уж уважил, так уважил. И тебе спасибо, и матушке от нас поклонись.
Возвращают ему ковшик, но Прохору уже не хочется уходить со стройки, тем более что и брат его Алексей тоже здесь. Он тянет Прохора за руку в нижний придел – посмотреть, как белят стены под будущую роспись. Там на лесах Параскева, обмотав вокруг головы и забрав под платок косу, ловко орудует то кистью, то мастерком. Помогает малярам, и видно, что гордится собой. Довольна, что получается. Только в окно посматривает: кажется, сверкнуло, к грозе, уж очень парит с утра…
Затем Прохор и Алексей – в столярне, где пахнет свежими стружками, сметенными под верстак, весь пол усыпан мягкими желтыми опилками. На верстаке – два новеньких заморских рубанка, молоток, топорик и пила. В банке – застывший клей с увязшей одним крылышком мухой. Мутное оконце сверху затянуто паутиной, и в паутине – высохшая золотистая, с черными ободками по тельцу оса.
Прохора тянет к столярным инструментам, он любит бывать у вихрастого, по-цыгански смуглого, со шнурком на лбу и карандашиком за ухом столяра Наумки, который учит его строгать, пилить, забивать гвозди с двух ударов по самую шляпку, но усерднее всего – работать топориком. Наумка на это мастер, и призванный, и признанный: во всей округе один такой. Про него говорят, что одним топориком дом целиком срубит – со стульями, лавками и всею утварью. К тому же он шутник и весельчак, охотник побалагурить. Прохора, хозяйского сына, важную птицу, как всегда приветствует словами:
– Вот и Прохор-апостол к нам пожаловал! Нижайшее ему от нас почтение.
И отвешивает поклон.

В столярной мастерской
Алексей за младшего брата привычно вступается, возражает.
– Он не апостол. Тоже мне! Его в честь апостола Прохора лишь нарекли по святцам…
– Раз нарекли, то не зря. Со смыслом. Значит, сам в апостолы выбьется.
– Какие же сейчас апостолы!.. Это когда ж было!..
– А такие, – не унимается Наумка, – что среди столяров он будет апостол, а среди апостолов – столяр.
Вдалеке невнятно, глухо ворчит гром, и край неба постепенно мутнеет, темнеет, из голубого становится иссиня-черным (как коса у Параскевы), с оловянным отливом. Наумка смеется своей излюбленной шутке про апостола, показывая ровные, крепкие зубы (только один щербатый: на спор проволоку перекусывал и сломал); и Алексей с Прохором тоже улыбаются. Им беспричинно весело и так несказанно хорошо, светло и радостно от мысли, что будет гроза и после нее посвежеет, станет прохладнее, что есть Наумка с его топориком и вечными шутками, есть эта пропахшая стружкой столярня и есть храм, который с каждым днем все выше поднимается к небу.
Глава четвертая. Небесный лучик
В доме Машниных бывает самый разный народ, и гостям здесь всегда рады. Рады и званым, по особому, торжественному случаю (крестины или именины) приглашенным, и тем, кто хоть и не зван, но сам, бывает, заглянет, как из-под земли выскочит и гостем назовется. Так соседи иной раз по нужде, по надобности, с просьбой какой в окошко постучат – и Марфа, жена кузнеца, и Акулина, вдова солдатская, и старуха Макарьевна, грибница и ягодница, вечно с туеском или лукошком, комарами покусанная, кончики пальцев от раздавленной брусники все синие. По надобности, с просьбой, но предложишь чаю – никто не откажется, выпьют по чашке, еще нальют, а потом добавят, так, что в жар бросит, упарятся, ворот расстегнут и полотенцем лицо утрут.
И за разговорами просидят часок-другой: время пролетит – и не заметишь. И хотя хозяевам вечно недосуг, дел невпроворот, заботы одолевают, никогда искоса на ходики не посмотрят, не кашлянут, намекая, что засиделись, не кольнут досадливым взглядом, не обидят молчаливым укором.
Потому и славятся своим радушием и хлебосольством, потому и тянутся к ним люди…
Кроме соседей по слободке батюшки из приходской Ильинской церкви – частые гости Машниных. Охотно навещают их, особенно по двунадесятым праздникам или после воскресной обедни, поздравляют, благословляют, на Пасху, разгладив бороды, христосуются, и их тоже без чая (а то и вишневую наливку в граненой бутыли из буфета выставишь), без угощения и без степенной беседы не отпустишь. Так же странников с посохами и заплечными котомками, паломников, нищих скитальцев, калик перехожих, на которых издавна так щедра Русь, Машнины всегда принимают. Святое дело! По обычаю благочестивых купеческих семейств даже угол для них выделили со столиком, лавкой и иконкой: утрудились от дальней дороги – вот пускай и отдохнут, сил наберутся, и о святых местах, глухих монастырях, чудотворных иконах на сон грядущий хозяевам поведают. Да и так поведают, что детей соберешь, рядом посадишь, к себе прижмешь и заслушаешься. Любят у Машинных такие рассказы: от них на душе отрада и так манит вольный простор, что впору самому брать посох и отправляться в дорогу.
В Лавру – к Сергию, в Киев – к Антонию и Феодосию, а то и на Соловки – к Зосиме и Савватию.
Брат Исидора Ивановича Антон с женой Варварой запросто, по-родственному к Машинным заходят – либо одни, либо с сыном своим Петром, чуть постарше Прохора, побойчее, порасторопнее. И, поскольку апостол Прохор, как о том в календаре церковном писано, всегда апостолу Петру служил и помогал, то и Прохор у Петра – в добровольных помощниках, слушается, а тот верховодит. Алексей же, похоже, ревнует и букой на обоих смотрит (но об этом взрослые тихонько, промеж себя шепчутся, чтобы до детей не доносилось).
Да и всякий прочий люд к Машинным наведывается, в двери стучится, по горницам толчется: степенные мастера-строители и просто жилистые работяги, заезжие купцы, предлагающие свой товар, – болты крепежные, скобы, изразцы, доски. Приказчики с заводов хоть сейчас телегу нужного товара пригонят, сами разгрузят и задешево отдадут. И Машнины на каждого находят время, чтобы протолковать, сговориться о важном деле или отказать в чем-либо, но уважительно, с лаской – так, чтобы обиды не оставалось.
– И рады бы, но уж не обессудьте. Видит Бог, сейчас никак не можем. Но при первом же удобном случае – вам первому, по полной мерке, с лихвой отсыплем, не сомневайтесь.
– Да уж какие сомнения, увольте! А то мы вас не знаем! Не раз выручали.
– Вот и дайте срок – снова выручим. За нами не станет.
Все им любы, и им от всех уважение, и прежде всего за груды их праведные по возведению храма. Каждый видит, что себя не берегут, стараются так, что невольно скажешь: не зря их куряне избрали, они – достойны. Исидор Иванович в Курске человек известный – и по купеческому званию своему, и по достатку (владеет кирпичными заводами), и по той основательности, безупречной честности, верности слову, с которой берется за любое дело. Смело заключай с ним сделку – не подведет. Чужого в карман не положит, но и своего даром не отдаст: все должно быть честно, по совести, по справедливости.
Усердный прихожанин – воскресной обедни не пропустит, на общую свечу пожертвует. Нищему, не скупясь, подаст, кошелек развяжет, да и дома весь угол в образах, и лампады у ликов теплятся – что твоя церковь. На службе хору подпевает, иной раз строго нахмурится, если рядом перешептываются, шушукаются (вот праздные языки!), а иной – как истинный ценитель красоты, благолепия церковного в сердечном умилении смахнет с глаз слезу.
Поэтому охотнее всего Исидор Машнин берет подряды на постройку храмов. У него и опыт, сноровка в этом деле, и душа к нему льнет, а без души камень на камень не положишь (если и положишь, то недолго удержится).
Агафью Фотиевну тоже в Курске хорошо знали и за набожность ее, радение о церкви, и за попечение о девушках-сиротах. Их Агафья Фотиевна растила, учила грамоте и рукоделию, в строгости воспитывала, а затем, обеспечив им приданое, выдавала замуж. Замуж за достойного жениха, но при этом такого, чтобы и люб был, по сердцу. Свадьбы играли на Красную горку веселые, с гармонью и балалайками. «Горько!» – кричали так, что стекла звенели.
И все были счастливы, жених с невестой, и гости, и сама Агафья Фотиевна – даже на радостях рюмку вишневой настойки себе позволяла, а потом ее об пол, вдребезги. Гулять так гулять…
Только последнее время счастья словно поубавилось: Исидор Иванович на беду стал прихварывать. Иной раз отойдет с солнцепека в тенечек, присядет, прислонится спиной к штабелю досок, возьмется за сердце, глаза закроет, словно прихватило его, а иной – и вовсе сляжет, неделю промается в постели, но, превозмогая немощь, вновь заставит себя подняться: нельзя оставить стройку без хозяйского глаза. К врачам обращался, но они, пощупав пульс, простучав грудь и спину, руками разводили, толком не ведали, от чего лечить. Загадка! И лишь Агафья Фотиевна мужу верный диагноз поставила: надорвался сердешный на непосильной работе, всего себя растратил, без остатка ей отдал.
А раз так, то долго ему не протянуть. Как ни горестно это признать, не жилец он на свете.
И едва только освятили нижний, Сергиев храм, Исидор Иванович и отошел ко Господу. Отпели его неподалеку, в Ильинской церкви, усердным прихожанином которой он был. Агафья Фотиевна поцеловала покойного в лоб, дети, утирая слезы, бросили на крышку гроба по горсти сырой, с ниточками травяных корешков земли. И похоронили Исидора Ивановича на церковном кладбище, под раскидистым, узловатым дубом, рядом с осевшими могилами предков. Поставили крест деревянный и высекли на мраморной плите его имя, дату рождения и смерти: сорок три года всего и пожил-то, даже чуб не успел поседеть.
Что ж, нового подрядчика теперь искать для храма? Нет, Агафья Фотиевна не позволит отдать дело в чужие руки. Сама завершит, как мужем завещано, перед смертью наказано. Да и не одна она: Феодосия Наумовна иногда чего мудрого подскажет, вразумит, да и дети помогут. Старшей Параскеве уже шестнадцать, девица разумная, хваткая, расторопная, все в руках горит. Сыночки же хотя и малы еще (младшему-то Прохору всего восемь), но тоже в помощники просятся, рвутся, поручений ждут. Поэтому на семейном совете так и решили: справятся, начатое не бросят, доведут до конца. А где самим силенок не хватит, там Царица Небесная поможет, заступится, подсобит…

В Прохоре угадывался некий особый дар, что-то нездешнее осеняло его…
– Ну что, одолеем? Как думаете? – Агафья Фотиевна обводит взглядом всех сидящих за столом и не смотрит лить на Феодосию Наумовну, словно ей этого вопроса можно не задавать: ответ и так известен.
Но дети не решаются ничего сказать, пока не заговорит бабушка.
– Что ж молчите? Носы повесили? Одолеем или нет?
– Должны… – произносит Параскева, но глаз не поднимает, словно отвечает за всех, а сама выделяться не хочет.
– А ты, Алексей?
– Справимся. – Он по-отцовски сдвигает к переносице брови.
– А ты, Прохор? Помогать будешь? – спрашивает Агафья Фотиевна и с такой любовью, нежностью и затаенной надеждой смотрит на сына, словно главное для нее, чтобы он просто был рядом с нею, и не нужно ей никакого ответа.
И все потекло, как при жизни Исидора Ивановича, словно он тут был, рядом. И голос его слышался, как будто он, живой, по-прежнему всем распоряжался. Агафье Фотиевне оставалось иногда лишь молча на что-то указать, поправить, поторопить или, наоборот, осадить самых ретивых и нетерпеливых, чтоб не зарывались, слишком не гнали, а так все катилось по проложенной колее. И, конечно, Царица Небесная им благоволила, Свой незримый покров над ними простирала. Да, над ними всеми, и особенно – над маленьким Прохором, словно чем-то он Ей угодил, Ее ублажил, к себе расположил.
Чем именно – гадать не приходилось. Другие дети на церковной службе утомляются, скучают, куксятся, думают о брошенных играх и обещанных сладостях, Прохора же она никогда не тянула за руку в храм. Он сам в радостном нетерпении бежал впереди да ее торопил, оглядывался: «Скорее!» И ведь не на фокусников и скоморохов спешил, а боялся, что обедню пропустит, что начнут без него, а такого перенести не мог. Неутолимая жажда влекла его в храм – он словно пил, по жаре припав к лесному роднику, и не мог напиться. Все службы выстаивал неподвижно, не переминаясь с ноги на ногу и не глядя по сторонам. Весь был погружен в молитву – до самозабвения.
Откуда в нем это? Конечно, семья у них набожная, благочестивая, и ему многое передалось – и от бабушки, и от отца, и от матери. Да и сестра Параскева с детских лет его вразумляла, о божественном, о церковном с ним толковала. Но только воспитанием, благотворным влиянием старших всего не объяснить. В Прохоре угадывается некий особый дар, что-то нездешнее осеняет его, и словно лучик небесный на него падает. Лучик, похожий на тот, что первым проскальзывает между грузных и рыхлых, с желтизною по краям туч после долгого осеннего ненастья, когда их медленно оттягивает ветром за горизонт. Хорошо тогда из-под козырька ладони озирать с холма окутанную мглистым туманом равнину и светлеющее небо.
А дом Машинных – на холме, и Прохор любит подолгу, словно зачарованный смотреть вдаль… И падает на него лучик. Падает и будто указует: этому назначено себя не пожалеть, Всевышнему послужить. А раз назначено – послужит.







