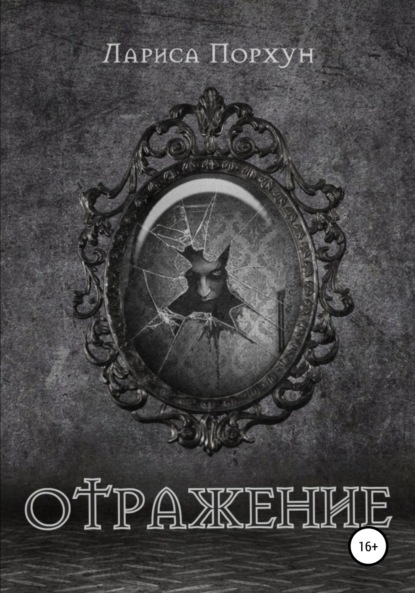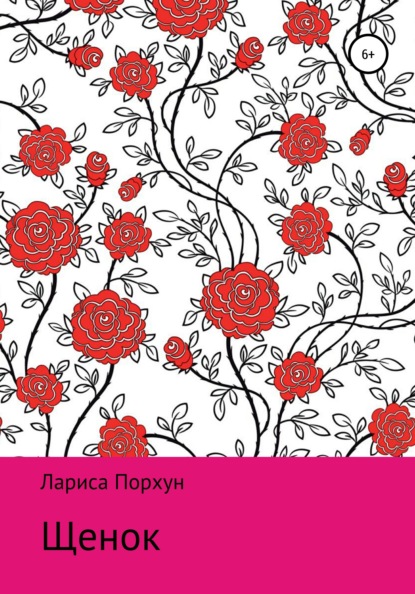
Полная версия:
Лариса Порхун Щенок
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Лариса Порхун
Щенок
Алька ворочалась на чужой, непривычно и излишне мягкой постели, и никак не могла уснуть. Такое за её тринадцать с половиной лет случилось едва ли не впервые. Возможно, это было связано с тем, что Алька очень редко ночевала где-нибудь за пределами их уютной, двухкомнатной квартиры. А даже если такое и имело место, например, когда они приезжали летом к бабушке, или на море, то родители и брат всё равно находились где-то рядом. То есть не были удалены от Альки географически. Раньше она не думала, что это для неё важно. Наоборот, сколько себя помнит, она всегда стремилась к автономности. Альку до сих пор ужасно расстраивало, что ей приходилось делить комнату со своим младшим братом. Иногда она всерьёз полагала, что этот мальчишка появился на свет исключительно для того, чтобы отравлять ей жизнь. И, к слову, оснований для этого у Альки было предостаточно. Хотя справедливости ради необходимо отметить, что и у её младшего брата Ромки по отношению к старшей сестре их насчитывалось не меньше.
В самом начале, когда она только легла на высокую, железную, с круглыми набалдашниками кровать, в нос ударил незнакомый, душный запах перьевой громадной подушки. А сразу после она почувствовала неприятную тягучую мягкость комковатой перины, которая будто ожившая зыбкая топь, вздохнув, медленно, но неуклонно принялась всасывать в себя длинное и худое Алькино тело, начиная с середины позвоночника. Девочка неподвижно вытянулась и старалась дышать неглубоко и как можно реже. В тот момент, когда Альке почти удалось убедить себя, что медленное и тошнотворное погружение завершено и коварно-обманчивая постельная мягкость не грозит ей неминуемым удушением, как только она уснёт, в комнате раздался оглушительный бой старых, как и почти всё остальное в этом доме, настенных часов. Странное дело, вечером, когда мама её привезла сюда, часы тоже били, Алька отлично это помнила, но тогда звучали они совершенно по-другому: осторожно, вкрадчиво и деликатно, как будто между прочим, словно опасались ненароком помешать людям своим неуместным боем вести их важные дела и разговоры. Сейчас же били они с таким яростным наслаждением, будто всё это натужно-сдерживаемое дневное время только и мечтали об этом, набираясь сил, накапливая ядерную мощь и аккумулируя до поры нервное напряжение и энергетику, чтобы бить в ночи каждый час с пушечным грохотом в оглушительной тональности. После каждого удара, часы на пару секунд в экстазиционном ликующем полуобмороке затихали, как бы прислушиваясь с неослабевающим восторгом к собственному звучанию, и не дождавшись завершения упругого, плотного, будто материального отзвука, с дребезжащей пульсацией отскакивающего от головного мозга и барабанных перепонок к стенам и окнам, с торжественно-упоительным наваждением выдавали новый залп, пока не отбив положенное количество раз, наконец, не умолкали, опустошённые и пристыженные в многократном оргазмическом изнеможении. Часы били нестерпимо долго, набатным, издевательским гулом отдаваясь в голове у Альки. Она была совершенно уверена, что сейчас же в комнату явится вся семья дяди Коли, включая, недавно ощенившуюся милейшую собачку Дайну, а может даже прибегут близлежащие соседи. Ведь нельзя же, в самом деле, как ни в чём ни бывало продолжать спать и делать вид, что ничего не случилось, когда в доме стоит такой невообразимый, адский грохот, производимый абсолютно и окончательно слетевшими с катушек часами. Но ничего подобного не случилось. В доме стояла полнейшая тишина. Всё ещё оглушённая, с бешено колотящимся сердцем, и как будто слегка контуженная, Алька посмотрела на мирно сопящую Галку, младшую дочку тёти Ани и дяди Коли, с которой они завтра отправляются в лагерь: та спала на правом боку, а значит лицом к Альке, сильно запрокинув голову и приоткрыв рот. От светившего на противоположной стороне улицы тускло-жёлтым светом фонаря, очертания предметов и людей в комнате обозначались с горчично-перламутровым оттенком. Умиротворённо-безмятежный вид Галки подействовал быстро и качественно, как проверенный и надёжный седативный препарат. Прерывисто вздохнув, Алька перевела взгляд на новенький, специально для поездки в лагерь приобретённый чемоданчик, с серой тканевой крышкой, со светло-коричневыми боковинами, с залихватской, блестящей пряжкой, венчающей того же, золотистого оттенка ремень, берущий своё начало под тугой, лакированной ручкой и опоясывающий его ровно посередине. Налюбовавшись вдоволь на тщательно упакованный заботливыми мамиными руками чемодан, Алька откинулась на подушку и начала думать о том, что её ждёт в лагере. Но это не очень-то получалось, хотя бы потому, что опыта пребывания в таком месте, да ещё и расположенном в придачу, не тут же за их маленьким, провинциальным, южно-захолустным городком, а на самом берегу Чёрного моря, у неё до сих пор не было. Мысли путались, лихорадочно наскакивали одна на другую, изредка, на доли секунды группировались, чтобы тотчас же снова отскочить и разбежаться по сторонам, кардинально меняя направление. К тому же сосредоточиться мешало то Галкино протяжное сопение, иногда перемежающееся лёгким стоном или невнятным бормотанием, то тоскливым предчувствием нового оглушающе-невыносимого боя часов. Самой Альке поведение её мыслей напоминало хаотично-радостные метания собаки Дайны, которая сегодня днём восторженно носилась от Альки к Галке и обратно, а от них судорожно бросалась к своим четверым новорождённым кутятам, и сожаление, с которым она оставляла девочек, повинуясь материнскому инстинкту и чувству долга, на мгновение проступало на её длинной умной мордочке, безошибочно определяемом Алькой по тому, как вдруг навостряла Дайна уши, и какими скорбными и печальными делались в этот момент её крупные, оливково-блестящие глаза. Здесь Алькины мысли потекли стройно, плавно и совсем в другом направлении. Думать о щенках было легко и приятно. Они с Галкой доставали их из старой, деревянной будки одного за другим, внимательно осматривали поскуливающие, шерстяные валики, и когда Галка с видом умудрённого многолетним опытом ветеринара, небрежно глядя на исполненные природой в пастельных тонах пятнистые, нежные пузики, называла пол кутёнка, под присмотром беспокойно снующей тут же матери, тыкающейся влажным хлопочущим носом, то в руки девочек, то в собственных детей, осторожно возвращали щенков на место. Когда Алька держала в руках этот упитанный тёплый комочек, ей хотелось плакать от переполняющей её любви и умиления.
Выходящий из сарая дядя Коля, наблюдая за сидящими на корточках возле будки девчонками, усмехнувшись, бросил через плечо: «Вот вернёшься из лагеря, Алиска, и возьмёшь себе одного, если мамка разрешит, конешно… Будет как раз ко времени, а сейчас уйдите оттуда… Слышь, Галка, разве не видишь, как матерь трясётся ихняя, того и гляди окочурится, чего тогда с ими делать?!» Не помня себя от радости, Алька помчалась к маме и, найдя её в летней кухне, где она сидела вместе с Галкиной матерью, едва переведя дух, сбивчиво, волнуясь и перебивая саму себя, рассказала о том, какие чудесные щеночки родились у собаки Дайны, и как бы ей хотелось взять одного, самого малипусенького и толстенького, с чёрной полосой на спинке, нежно-розовым пузиком в коричневых веснушках и рыжими боками. Мать натянуто улыбнулась и выразительно посмотрела на дочку. Альке хорошо был известен этот взгляд. Более того, она могла бы прямо сейчас, не сходя с места перевести его, так сказать, в вербальный формат. Означал он буквально следующее: «Какого чёрта ты устраиваешь в чужом доме, при посторонних людях этот спектакль, основное действие которого снова разворачивается вокруг этой осточертевшей собачьей темы? Ты что специально это делаешь, пользуясь тем, что мы не у себя дома? Можешь даже не надеяться на то, что тебе сойдёт с рук эта манипуляция. Если бы ты меньше думала о щенках, а больше, например, об учёбе, у тебя не стояла бы за год позорная тройка по математике». Но вместо этого мать, продолжая неестественно улыбаться, в совершенно не свойственной ей фальшиво-ласковой манере, вкрадчиво произнесла:
– Алисонька, милая, – Альку стало подташнивать. Это случалось с ней, когда ей что-то очень сильно не нравилось, и она это что-то активно не принимала. То есть почти всегда. Наиболее остро эта физиологическая особенность проявлялась, когда Алька сталкивалась с нечестностью, притворством и увиливанием. Например, матери в жизни не прийдёт в голову в обычной ситуации обращаться к дочери подобным образом. Мама у неё вообще не очень-то ласковая, хотя добрая и любящая. А ещё она честная и открытая, Алька это знает абсолютно точно, и потому ей особенно неприятна эта приторно-демонстративная показуха, рассчитанная больше для посторонних ушей. К тому же Алька терпеть не может своего полного имени – Алиса, особенно, после того, как двоечник Костюченко в прошлом году при виде её тут же начинал противно-визгливым голосом декламировать перелицованный им стишок из детского мультика: «Жила на свете крыса по имени Алиса». Слава богу, что противный одноклассник, как и тот учебный год, остались в прошлом. Год просто закончился и Костюченко тоже. Его перевели в спортивный класс, чтобы он не портил успеваемость, а играл себе в свой дурацкий футбол и молчал в тряпочку.
– Ты ведь понимаешь, что собака – это живое существо? – интонация матери была как будто вопросительная, тем не менее, всем, в том числе и тёте Ане, было совершенно понятно, что никакого ответа не требуется. Алька знала, что такие вопросы называются риторическими, у неё по русскому языку и по литературе всегда были твёрдые пятёрки, в отличие от ненавистной математики, за которую Альку только ленивый не тыкал носом. Заступалась за Альку одна тётя Люба, мамина подруга, она так и говорила, когда мать жаловалась на полнейшую математическую тупость дочери: «Отстаньте вы от ребёнка, у девочки гуманитарный склад ума, сдалась ей триста лет ваша математика!» Алька слышала это своими ушами и тётя Люба стала ей нравиться ещё больше, хотя слово «гуманитарный» было и не очень понятно, но Алька догадывалась, что это нечто противоположное точным наукам, а значит, уже заранее для неё имеющее неоспоримое и стопроцентное преимущество. Когда тётя Люба увидела, что Алька опять вошла в кухню, она быстро потушила сигарету, изящно закинула ногу на ногу, и, как ни в чем, ни бывало, продолжила:
– Главное для женщины, что? – задала она риторический вопрос (одно время эти самые риторические вопросы Альку просто-напросто преследовали, попадаясь буквально на каждом шагу), – Правильно, – сказала тётя Люба, хотя ни мать, ни тем более, Алька ничего не отвечали, несмотря на то, что прекрасно знали, на что она намекает, – Главное для женщины – выйти удачно замуж. Тётя Люба подмигнула Альке, – Вот ты думаешь, как расшифровывается слово ВУЗ? – она засмеялась красивым грудным смехом, демонстрируя безупречные зубы, – Выйти Удачно Замуж! Вот так, поняла теперь? – спросила она презрительно фыркнувшую Альку, – А ты как думала? Честно говоря, Алька на эту тему вообще пока ничего не думала, а судя по тому, что сама тёть Люба недавно подала на развод, в тот вуз, который ею имелся в виду, она явно не попала.
–… собаку нельзя будет, как надоевшую игрушку выбросить, или положить в кладовку на верхнюю полку, – мать всё это время говорила, но всё так же, скорее для тёти Ани, чем для дочери, произнося слова нарочито уставшим, монотонным голосом. При этом её лицо с приклеенной улыбкой было застывшее и словно отяжелевшее, так что у Альки промелькнула мысль, что матери, наверное, трудно удерживать это выражение и что если она посидит с этой маской ещё некоторое время, то у неё может свести судорогой мышцы лица. И неизвестно ещё, к чему это приведёт. А что, и очень даже запросто. У Альки таких примеров сколько хочешь. Вот в конце третьей четверти у них был открытый урок по географии, так как учительница сдавала на разряд. И к ним пришли кроме их завуча и другой географички, ещё пять человек из департамента образования и даже, говорили, из министерства. Шесть женщин и один мужик, в очках и костюме торжественно прошли в конец класса мимо их бледной учительницы, которая неподвижно стояла у стола вот с такой же, как у матери, приклеенной улыбкой, и расселись на приготовленных заранее стульях. А вскоре после этого, их учительница попала в больницу и целый месяц у них география проводилась через пень-колоду, то совместно с «ашниками», то вообще не было, то вместо географии была сдвоенная математика (а это всегда приводило Альку в состояние близкое к ступору) или история, а то и вовсе классный час. Так вот, когда географичка всё-таки вышла, наконец, на работу, все заметили, что она изменилась и очень сильно. Похудела, и, как будто уменьшилась ростом. А ещё говорила медленно и тихо, иногда с трудом подбирая слова, будто всё время опасалась, что громкая, слишком быстрая или неосторожная фраза может причинить боль. Иногда Альке казалось, что учительница просто забывает не только специальные термины, но и самые обычные слова. Наверное, именно поэтому она в таких случаях отчаянно морщила лоб и, глядя на класс с виновато-растерянной улыбкой, кое-как заменяла утраченное понятие близким по значению. А ещё стало видно, что она очень пожилая. Хотя раньше этот факт так не бросался в глаза. Но самое главное, у неё что-то произошло с лицом. Взгляд стал тусклым, бегающим и невыразительным. А левый угол рта всегда был опущен вниз, как будто она постоянно чему-то горько усмехалась. Ирка Денисова, у которой мама работала в этой же школе медсестрой, и по этой причине она уже с первого класса любила продемонстрировать свою осведомлённость во врачебном деле и блеснуть чуть что знанием медицинской терминологии, гордо произнесла, прямо-таки смакуя каждое слово, что это последствия инсульта. Да, она прямо так и сообщила с важным видом в раздевалке после физкультуры, – Это, девочки, последствия инсульта. И потом ещё раз повторила тоже самое, но уже мальчишкам только, понятно, опустив обращение «девочки», когда Сашка Локтев и Тёма Никитин после урока географии отпустили какую-то гадкую шутку про съехавший набок училкин рот. Но Алька была уверена, что начало, которое привело к такому печальному результату, было положено тем самым звонком на её открытый урок, когда она стояла бледная с вымученной улыбкой у своего стола. Так что фальшивым радушием вкупе с приторно-ласковыми словами Альку не проведёшь. Однажды, когда они ещё учились в третьем классе, их учительница Галина Кирилловна опаздывала на первый урок и они, видимо, так расстроились все из-за этого обстоятельства, что их услышала даже завуч, находящаяся в другом конце коридора. Успокоив их немедленно одним только взглядом прищуренных, цепких глаз,она тихим голосом, который, однако, был прекрасно слышен на самой последней парте в дальнем углу кабинета, поинтересовалась, в чём дело. Бесхитростный и наивный Вовка Васильев радостно сообщил, что Галина Кирилловна не пришла. Завуч, немигающим взором уставилась сначала на него, а затем, оглядывая примолкший класс, велела им всем открыть учебники и читать следующий параграф. И вдобавок к этому, очень настоятельно посоветовала им сидеть тихо до получения следующих указаний и, поджав губы, вышла из класса. Ещё через десять минут в класс влетела красная, запыхавшаяся, своим маленьким ростом и коренастым прямоугольным сложением напоминающая тумбочку, Галина Кирилловна. Немного отдышавшись, она непривычно ласковым, и до отвращения елейным голосом, но отстранённо, как будто ответ её не так уж сильно и волнует, спросила, кто из них сказал, что её нет в школе. Алька, в этом смысле, отлично подкованная с раннего детства,благодаря пройденному полному циклу обучения и воспитанияв семье и в дошкольном учреждении, выполненному в лучших традициях советской педагогики, ещё до этого вопроса сразу поняла, две вещи, вернее, даже три. Номер один: их учительница и завуч встретились в школьном коридоре. Номер два: какой бы диалог не произошёл между ними, не стоит ждать ничего хорошего, если человек вдруг начинает разговаривать подобным голосом. Номер три: и совсем уж ни к чему высовываться, тем более, если конкретно к тебе не обращаются. Точка. Но простодушный дурачок Васильев, взметнул вверх свою правую руку и, размахивая ею, как стягом, полным энтузиазма голосом звонко выкрикнул: «Я!» Алька низко опустила голову над партой и зажмурилась, дальнейшая метаморфоза, которая тогда немедленно произошла с Галиной Кирилловной, была ей заранее известна.
…– завела свою пластинку снова, – прошипела мать, когда тёть Аня вышла с миской оставшейся после ужина еды, добавив туда дополнительные куски хлеба, чтобы покормить Дайну и оставить курам на утро. Алька проводила её грустным взглядом, ей хотелось кинуться следом и поучаствовать хотя бы в качестве стороннего наблюдателя за собачьим ужином, но пока мама говорила, об этом не могло быть и речи, -… не дочь, а собачница какая-то! – между тем, сердито отчитывала Альку мать, – Какая собака?! Кто с ней возиться будет – кормить, гулять? Ты что ли? Да ты даже мусорное ведро после третьего напоминания только выносишь. Вас с Ромкой и в своей-то комнате не заставишь убирать, а тут щенок, который будет пачкать ковёр, оставлять, где попало лужи, и скулить по ночам… Мать встала и, отвернувшись к окну, совсем тихо добавила:
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.