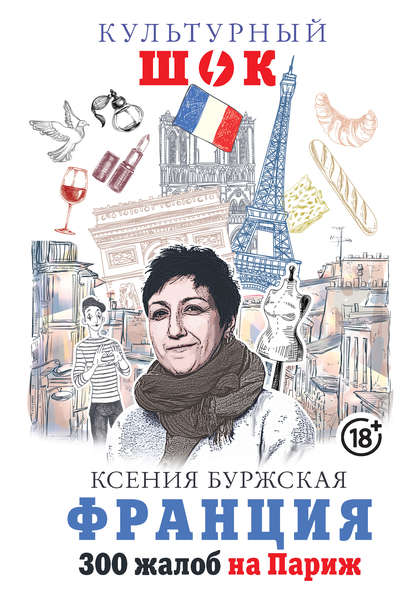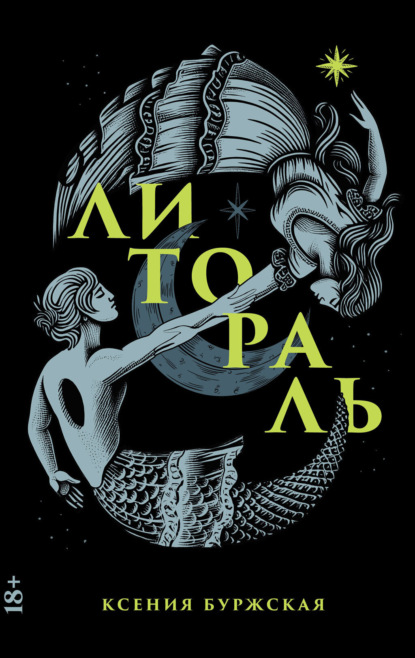Полная версия:
Ксения Буржская Зверобой
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт
– Иди сюда, – позвала Марьяна отца.
Но волны шумели, проглатывая ее голос. Она махнула рукой.
Вот пошел он к синему морю; видит, – море слегка разыгралось. На глубине его сидит Посейдон, пьет кофе, в котором слышно песок, который пахнет, как весенние костры в лесах. Посейдон недоволен, он выталкивает гневно рыб со дна, поднимает мутные волны – те выбрасываются на землю и лежат там, сжавшись от страха. Посейдон говорит: Нет. Нет прощения тебе, Алкиной. И русалки разбегаются кругами, как от брошенного случайно слова.
Отец подходит к воде. Берет камень, кидает его – плоско, с пошлым шлепком, камень прыгает по поверхности, как лягушка. Под ногами скользкие валуны и липкий, чуть теплый песок – тоже камни, если подумать. Между ними застряли раковины в зеленых нитках водорослей: была жизнь и вышла, осушила, ослабила хватку, теперь этим можно мыться – ноги три тщательнее, возьми вот, говорила бабушка и бросала между занавесками желтый сухой комок – теперь это не морское, земное лишь – губка Боб, квадратные штаны, телеканал Никелодион.
Лето катилось в осень, намеренно разлилось дождями на самом пороге августа, чтобы дороже стали эти дни, чтобы запоминалось ярче: как сидят они, например, в сердцевине плоского поля, как окружили это поле седые солдаты гор, как борщевик вымахал выше дома, как мальчишки сказали, что он ядовитый: если дотронуться, вырастут лишние пальцы – на руках или ногах, Марьяна не знает, но лишние они были ей не нужны.
Отец достает бутылку от «Спрайта», в которой дымится теплое, сонное, тягучее молоко из-под рыжей, ребристой коровы. Уставший, ложится в траву и дальше – уходит под землю, как время и все, что здесь с ними будет: минута, минута, еще.
«Посейдон, – говорит отец, как будто зовет; и вода приливает к ногам, бьется в сбитые носы ботинок, лижет их, как конфету на палочке. – Посейдон однажды увидел на берегу острова Наксос прекрасную богиню Амфитриту, дочь морского старца Нерея, который знает все тайны будущего».
«Все-все тайны будущего? Даже может сказать, что будет, когда я вырасту?»
Как будто это какой-то секрет – все знают, что будет, когда ты вырастешь, Марьяна, не только Нерей. А будет вот что: любит или не любит? Почему не пишет? Куда отправить ребенка на лето? Где жить? Доллар вырос, рубль упал. Болит спина. Покалывает то там, то здесь. Холодно заходить в утреннюю воду. Работа не та, о которой мечталось. На что я трачу свою бесценную жизнь? Снова вечер, и нужно убрать посуду – хотя бы сложить в машину, а остальное помыть, иначе утром на кухне будет противно. Голова болит от неудобной подушки. Из окна тянет холодом, лето в этом году никак не наступит. Здесь душно, и скучно, и надо купить мясо на шашлыки, скажи, ты можешь сделать это сам? Ее муж (допустим) выходит из дома, садится в машину, едет в «Ашан».
«Сразу полюбил Посейдон прекрасную Амфитриту и захотел увезти ее на своей колеснице, – продолжает отец, и солнце катится к Олимпу, чтобы приблизить обед. – Но Амфитрита испугалась и спряталась в глубокой пещере на дне у титана Атланта».
Долго искал Посейдон Амфитриту и не мог отыскать ее. Подобно огненному смерчу, носился он по морским просторам: все это время буря не утихала. Следы видны до сих пор: если пройти чуть дальше по берегу, туда, где мало людей и можно купаться голым, случайно окажешься на ржаво-кирпичной поверхности Марса земного: так отражается, должно быть, одна планета в другой. Подводная жизнь, выброшенная в тот самый день, заброшенная желанием, когда-то рвалась, пробиралась к городу, но не смогла, не хватило сил, и обратно – никак не вышло. Так и стоят эти брызги, временем схваченные, остановленные в моменте, как старое пожелтевшее фото.
Потом, сказал отец, дельфин Посейдону помог. Он нашел пещеру, в которой пряталась Амфитрита, и привел к ней Бога.
«За это Посейдон поместил его среди созвездий в небе, а сейчас ты должна съесть бутерброд с сыром, а то мне придется отложить рассказ о том, что случилось дальше». – «А что там случилось дальше, скажи, скажи». – «Если коротко – то любовь».
Вечером вернулись к реке.
Грубый ветер с Тихого океана, перешагнувший, не споткнувшись, через Сихотэ-Алинь, гнал их в спину всю обратную дорогу в Уссурийск, раскачивая «буханку» на дырявой дороге. Село Раздольное, где они провели дождливые две недели, мирно дрыхло под полной луной.
Марьяна вышла на балкон – с одной стороны чернели сопки, с другой – тянулась вдоль реки дорога на Владивосток, врастая на горизонте в долину. А за ней – заливной луг с редкими деревьями, разбросанными как в африканской саванне. И все это вдруг проявилось, как в фотолаборатории – из-под воды.
Марьяна легла на скрипящую кушетку, с которой даже у нее, не очень высокого подростка, свисали ноги. Натянула до подбородка клетчатое колючее одеяло, завернутое в скользкую простыню. Долго смотрела, как по стене пляшут волны теней – от воды, от шелестящего патрульного автомобиля, от фонаря, в который со звоном врезались спешащие к реке плавунцы. Звук, с которым они бились о стекла – витрины продуктового, газетный киоск и застекленные лоджии, – напоминал крупный град или мелкие камни, которые взлетали из-под колес на грунтовке и ударялись о днище.
Вдруг она вскрикнула, и ее горячей волной окатил ужас: на стене возвышалось огромное, воздевающее лапищи к небу чудовище – тараканище, пришедшее за ней. Отец прибежал на ее крик – сонный, еще не до конца очнувшийся, он спрашивал: что, что? И рассмеялся, глядя на стену.
На балконных перилах, покачиваясь, сидел богомол. Его страшная тень в луче фонаря ходуном ходила по стене над головой Марьяны.
– Убери его, – попросила она, всхлипывая и вытирая лицо простыней. – Я хочу домой.
– Завтра уже поедем, – сказал отец и весь как-то осунулся. – Между прочим, богомол умеет поворачивать голову почти на сто восемьдесят градусов. Хочешь посмотреть?
– Не хочу, – сказала Марьяна и отвернулась. – Убери.
Отец вышел на балкон – к потолку взлетела прозрачная полоска тюля, – накрыл богомола банкой и исчез с ним в проеме кухни.
– И у него всего одно ухо, – крикнул он ей оттуда.
Но Марьяна уже заснула – неспокойным, тревожным сном, каким всегда засыпаешь перед долгой дорогой домой.
На следующий день, когда наконец вышло солнце, они проснулись в блочной пятиэтажке на краю села, выглянули в окно, а мимо черной хичкоковской стаей летели они – алкинои, расправив крылья на восемьдесят шесть миллиметров как минимум (так сказал отец, не приходя в сознание от восторга).
– Куда они летят, пап? – спросила Марьяна, прижавшись носом к окну.
– К реке, – сказал отец. – Кажется, пришло время.
И Марьяна не поняла, для чего это время пришло.
Отец выбежал из дома и помчался к реке, а вернувшись, протянул ладонь – без слов, часто дыша, как будто сдал норматив и схватил медаль – в ней огромным черным пятном лежала бабочка, и ее длинные хвосты, подрагивая, горели красным.
И Марьяна вдруг засмеялась, переняв у него эту радость, почувствовала себя счастливой – ни почему, – как будто бы все удалось.
– Примерно то же самое я почему-то испытала на фестивале, – подытожила Марьяна. – И больше мы с отцом никуда уже не ездили.
– Тут где-то пора появиться Ольге.
– Так и случилось.
– И как же?
– Когда я была на фестивале, она написала, что я ей нужна.
– Конечно нужны. Но это не значит, что она вас любит. Не так ли?
– Как-то так.
– Но вы-то решили иначе, – качает головой Валерия. – Кстати, хотите молочный коктейль?
Детям – мороженое.
Она кричит ассистентке за перегородкой, и та приносит высокий плотный бокал. В коктейле лопаются еще не остывшие пенные пузыри. Он ванильный на вкус. Монахи в средневековых монастырях такими вещами не злоупотребляли: ваниль – один из самых быстро растворимых в организме афродизиаков.
Марьяна сообщает об этом Валерии.
– Откуда вы все это знаете? – спрашивает та. – Кстати, я поняла, что мне напоминает ваша одержимость. Вы как те застывшие брызги песка на берегу.
– И что мне делать? – спрашивает Марьяна из-за белых сексуально активных пузырей.
Попробуй выгрести или катись к хуям.
– Ничего, – говорит Валерия. – Вам придется найти своего алкиноя. А пока попейте магний В6.
Магний. Пособник превращения триптофана в серотонин. В гормон счастья.
Забудьте все, что вы когда-либо думали по этому поводу: счастье – это всего лишь повышенный уровень магния в организме.
Для справки: магний есть в миндале, шоколаде, морепродуктах.
Магний – это батарейка для чувств.
Но лучшие батарейки по традиции – японские.
В сое и имбире – в том, что подается к роллам, – кроме магния есть бета-каротин, витамин С, железо, цинк, марганец, кальций и фитоэстрогены.
Заказывайте роллы и просите: мне имбиря побольше.
Не жалейте соевого соуса. Пейте его из горла.
Кажется, время пришло.
24. Ковчег
К смерти отца Марьяна оказалась не готова. Да и как вообще к этому можно подготовиться? Он не позвонил ей из больницы, позвонила его коллега. Мол, вы должны, вы обязаны, вам нужно. Марьяна не сразу поняла, что от нее требуют – она не может вылететь в ту же минуту, а даже если вылетит, это девять часов пути. «Свяжитесь с главврачом! Организуйте транспортировку! – орала на том конце провода женщина, которую Марьяна даже никогда не видела. – У вас же есть связи, вы журналист!» Есть ли у нее подобного рода связи, Марьяна не знала, да и что толку от связей – если отца, как ей сообщили в справочной, забрали на экстренную операцию, и прогноз – ей так и сказали, прежде чем бросить трубку, – неблагоприятный.
Прогноз оправдался.
Тогда Марьяна не плакала. Злилась, что он ей ничего не сказал. Два дня лежал в больнице и даже не сообщил. Думала о хрупкости жизни, о том, как гуманна, должно быть, для окружающих длительная неизлечимая болезнь, когда есть время и принять, и подготовиться, и поверить, что это неизбежно.
Почему-то сразу испугалась за Ольгу. Хотя отец и был старше Ольги на добрые пятнадцать лет, а все же был молодым – время нынче двигалось медленнее, растягивалось, обещало затяжной прыжок из юности в старость – через горы, через реки, через поля.
Больше всего расстроилась почему-то за дочерей. Марьяна прочла перед сном им обеим книжку про смерть. Там за смешными картинками со скелетами в розах говорилось, что теперь все ушедшие на небе, смотрят вниз и качают ножками. Марьяна не знала сама, верить в это или нет, но лучше бы, конечно, верить. Однажды она слышала историю пожилой американки, которая взошла по ступеням в красивый и светлый мир, увидела своих родителей, ощутила абсолютное счастье. И вдруг услышала голос: «Еще не пора!» Потом как щелчок и изгнание – проснулась в палате. Кто знает, чем на самом деле окажутся эти воспоминания переживших клиническую смерть, может быть, просто фантазией, защитным механизмом, кайфом от анестезии.
Как бы там ни было, после книжки Марьяна объяснила, что дедушка умер, он больше не приедет на Рождество, не привезет подарков (от этого почему-то стало особенно больно – Марьяне), не позвонит по видеозвонку. Вы понимаете?
Дети растерянно кивнули.
Когда они заснули, Марьяна собрала по всему дому игрушки, которые дарил дедушка, и внимательно рассмотрела, не сломаны ли они. Она понимала, что, скорее всего, все равно не удастся их сохранить, но стоило попытаться. Дело было, конечно, не в подарках как таковых, не в предметах, не в деньгах, на них потраченных, а в том, что в этом был он – выбирал их, привозил, раскрывал коробки. И в том, что ни о чем, кроме этого, они уже много лет не разговаривали. «Что привезти Аське? Что сейчас любит Марта?»
Утром Ася нашла свою любимую заводную пчелу в странном месте – почему-то на высокой полке в родительской гардеробной. Притащила стул, влезла и достала. А потом побежала на улицу, пиная ее перед собой, как мяч, и радуясь пластиковому треску.
Проснувшись, Марьяна набрала Ольгу по видеосвязи. Та, удивившись, ответила. «Скажи, что у тебя все нормально», – попросила Марьяна.
Скажи, что ты счастлива.
Скажи, что ты не жалеешь, что мы провели все эти годы отдельно и еще бог знает сколько проведем.
Скажи, что ты по мне не скучаешь.
Скажи, что мне следовало полюбить кого-то другого.
Скажи, что ты никогда не представляешь нас вместе.
Скажи.
«Нормально, – кивнула Ольга. – Что случилось?»
У меня умер отец. Он был совсем молодой. Я подумала о том, как он прожил жизнь. Это была жизнь без любви. Сколько можно жить без любви?
«Ничего, – Марьяна не могла выдавить ни слова, слезы наступали. – Я тебе перезвоню».
Потом написала, конечно. Ольга сказала: «Ты не виновата».
Но Марьяна была виновата – перед детьми, перед Демьяном, перед отцом.
«Я ужасно тебя люблю», – написала она Ольге.
«Ты просто очень расстроена», – ответила та.
Ну конечно. Разве могут быть другие причины любить тебя?
Разве есть хоть одна причина, по которой ты выберешь что угодно, лишь бы не сесть в мой отплывающий в будущее корабль?
В детстве Марьяна часто играла с отцом в Ноев ковчег. Обычно она садилась рядом с его рабочим столом, а он спрашивал:
– Ну что? Кого возьмем с собой на ковчег?
– Лошадку.
– И лошадку.
– Кошку.
– И кошку.
– Кенгуру.
– Хорошо.
– Мышку. Собачку. Хомячка Чипа. Рыбу-меч. Гориллу. Коалу.
– И, конечно же, алкиноя?
– Куда ж без него.
Продолжать можно было бесконечно. Они перебирали и перебирали всех возможных животных, а когда те заканчивались, доставали Красную книгу, и Марьяна наугад открывала ее, чтобы добавить на борт очередного пассажира.
Куда плыл этот корабль?
Они это никогда не обсуждали. После того как перечислять становилось скучно, отец предлагал Марьяне этот ковчег нарисовать, и та долго пыталась вместить на палубу альбомного листа сто сорок наименований живых существ. Как выглядят некоторые из них, ей было неведомо, поэтому она рисовала их так, как представляла: подковонос Мегели был у нее красным и длинным, как крокодил, на носу – подкова, остроухая ночница – черной птицей с ушами, как у добермана, а тарбаган – фиолетовым слоном с полосками.
Эту часть игры отец обожал: он рассматривал рисунок, спрашивал: а это кто? А это кто? И хохотал: вот же не повезло сурку! Вот же досталось мыши!
Он и сам знал не всех животных, но с Красной книгой был хорошо знаком. Иногда он выписывал их названия в свой блокнот – то ли чтобы запомнить, то ли чтобы прочесть о них подробнее.
Что же касалось насекомых, Марьяна переняла отцовскую страсть: она могла часами сидеть с лупой над картонной коробкой из-под маминых туфель для театра, внутри которой копошились муравьи или бодались два жука-пожарника, а свои наблюдения записывала в тетрадь. Она играла в «ученого», надевала белую мамину сорочку и писала в своем дневнике:
«Утро. Жук вышел на тропу войны.
Далее. Жук столкнулся с препятствием.
Далее. Жук пошел в атаку.
Далее. От обеда жук отказался.
Далее. Жук совершил попытку сбежать, но перевернулся».
Отец с серьезным лицом читал эти наблюдения, кивал, сверялся с происходящим в коробке, говорил:
– Ну да, Рысь, отлично. Надо бы еще поисследовать.
Однажды они отправились в экспедицию – наблюдать за исчезающей степной дыбкой, кривоногим кузнечиком, похожим на экскаватор. И ей на футболку прыгнул какой-то чужой – черный, с огромными усами и крыльями, он был похож одновременно на таракана и рогатого жука.
– Сними, папа, сними его! – верещала Марьяна.
Отец достал фотоаппарат:
– Снимаю! Снимаю!
Они смеялись до слез, жук улетел.
Потом ночевали в палатке.
25. Амфитеатр
Валерия всматривалась в экран.
– Где это вы? В палатке?
Марьяна засмеялась:
– Это я в кафе. На веранде.
Она сидела под навесом, закутавшись в любезно предоставленный официантом плед. Сразу за навесом плотной стеной стоял дождь, он лил так отчаянно, что не было видно вывесок на соседнем доме. Перед Марьяной стояла чашка кофе, белая и хрупкая, почти как слоновая кость, с высохшим следом на ободке, обветренный круассан и бокал мартини.
Она много раз обещала себе не пить в обед, но перед таким разговором стоило выпить. Ей нравилась Валерия и нравилось, что та ее слушает как безумное радио – всегда в ожидании сумасшедшего поворота. Ей нравилось поражать ее воображение, так она казалась себе особенной.
– Расскажите, что произошло в тот день?
– В какой из дней?
– Вы мне скажите. Вы как-то обмолвились, что с Ольгой все было более-менее в рамках, пока вы не встретились с ней в последней поездке.
– А, да.
Марьяна глотнула мартини, и Валерия тут же воткнулась в экран:
– Вы что это, выпиваете днем?
– Осуждаете? – спросила Марьяна, в очередной раз довольная своей уникальностью.
– Нисколько. Вы взрослая.
Опять эта «взрослая».Имаго. Валерия так часто напоминала Марьяне, что она взрослая, как будто Марьяна никак не могла взять это в толк.
– Это было на следующий день после похорон отца. Мне было плохо, я попросила Ольгу о встрече. Сами похороны я помню смутно: толпа каких-то его коллег, нелепые речи у гроба, он сам – ни на кого не похожий, особенно на себя. Я смотрела и думала только о том, что ему нацепили галстук – еще такой яркий, красный, аляповатый, а он никогда галстуков не носил, вообще ненавидел их. Погода – насмешкой – стояла отличная. Солнце сияло, птицы пели, это было нелепо. Я проводила мать на вокзале, пошла в отель, по пути позвонила Ольге. Была готова к тому, что она откажется – придумает какой-нибудь повод.
– Душ Шарко, ангина, война?
– Типа того. Но она пришла. Мы договорились встретиться в музее, ну то есть это она сказала: пойдем в музей, просто чтобы отвлечься. Мне было приятно, что она взяла это в свои руки – я тогда ничего не могла придумать.
Официант пришел и поинтересовался, нужно ли повторить. Нужно: махнула рукой Марьяна и продолжила:
– В этом музее необычно: все залы расположены вокруг одной вавилонской лестницы, а сама эта лестница – как бы гигантский амфитеатр.
Официант притащил еще один бокал, и Марьяна нырнула в него пальцами, чтобы достать оливку.
– Я была очень красивой и очень живой. Она как будто вернула меня в жизнь – уже тем, что согласилась прийти.
– Не сомневаюсь.
Валерия улыбалась, показалось, что снисходительно, но это было не важно.
– Она приехала за полчаса до меня – случайно, просто раньше освободилась со встречи, сказала, что будет ждать меня внутри. От метро я бежала почти бегом, вошла и увидела ее: она сидела одна в абсолютно пустом амфитеатре. Это было так красиво! Она не читала книжку, не листала журнал, не смотрела в телефон. Она просто меня ждала.
Марьяне отчаянно захотелось заплакать, но она задержала дыхание, а потом запила слезы, как горькую таблетку, глотком мартини, откинув голову назад.
Валерия сделала вид, что не заметила.
– И что потом?
– Я ее обняла. Я так давно ее не видела, хотелось обнять. Ну это было еще нормально. Дружески.
Марьяна засмеялась, но ее смех тут же смыло дождем. Валерии показалось, что она под душем.
– Хотя кого я обманываю. Она засмеялась, что я вся мокрая, и вытерла капли ладонью с моей щеки, потому что на улице поливало – ну вот как сейчас у меня, – Марьяна повернула камеру, и Валерия почувствовала, как мокрые струи летят за шиворот.
– Она стояла совсем рядом, почти вплотную, и я не нарочно, правда, инстинктивно, поцеловала ее, просто потому что она почти касалась щекой моей щеки.
– Как вы решились на это?
– Я не решалась. Это было естественно. Как будто единственно правильное движение, понимаете? Я не знаю, как объяснить. Но когда она рядом, я на полном автомате беру ее за руку, целую, глажу по спине, как будто так было всегда, и только так и должно быть. Она моя, для меня, и я ничего никогда не смогу с этим сделать.
– И вы подумали?..
– И я подумала, что никого так не любила. Что глупо делать вид, будто мы чужие или для нас обеих это что-то необыкновенное. Все дело, кажется, в том, что для нас обеих только это как будто и нормально.
– И что было потом?
– Ничего. Мы пошли на выставку, а на следующий день расстались – она попросила дать ей паузу и с тех пор не разговаривает со мной. Но то мгновение… когда она сидела и ждала меня, распороло меня изнутри.
– Вы сфотографировали ее? Как она там сидит?
– Нет.
– Почему? Ведь это было красиво?
Марьяна вздохнула. Валерии иногда приходилось объяснять совершенно бестолковые вещи.
– Это было невозможно. Первой моей мыслью было, конечно, сфотографировать ее. С художественной точки зрения все идеально. Но я не могла. Я не могла разрушить это хрупкое ощущение, такое случайное и редкое – что она меня ждет. Если бы я достала телефон и начала целиться, все тут же пропало бы. Человек перед камерой уязвим, а она и так была уязвима. Я не могла и не хотела требовать от нее еще больше.
Валерия вздохнула и опрокинулась куда-то из кадра. Наверное, сидела на диване.
– Вы у нее в ловушке, – сказала она откуда-то из глубины диалогового окна.
– В ловушке Барбера, – улыбнулась Марьяна.
– Что?
– Мы с отцом часто ставили такие ловушки.
– Как они работают?
– Очень просто. Вкапываете в землю ведерко, и насекомые в него падают.
– И вы упали?
Марьяна залпом допила мартини и махнула официанту, чтобы он посчитал. Дождь все еще не закончился, но было приятно дышать сырым почвенным воздухом, смешанным с теплым дыханием креозота из разинутой пасти метро.
– И я упала, – согласилась Марьяна. – И мне не выбраться никогда.
…В музее в тот час было мрачно и пусто. Пол трещал, как еловые ветки в камине, отзываясь на каждый шаг. Ольга спросила:
– Если бы можно было выбирать, какую картину ты бы повесила дома?
– Мондриана, – не задумываясь ответила Марьяна.
– Забавно, – сказала Ольга. – А я его и повесила. Но на работе.
Сине-желто-красные квадраты – никакого намека на чувства. Все как в приемной платной клиники.
В зале эпохи Возрождения, с охряными голыми людьми, обремененными то вином, то виноградом, а то и кровавыми гранатами, Ольга взяла Марьяну за руку и подвела к сияющему полотну. От этого прикосновения все поплыло перед глазами, и Марьяна вздрогнула, отгоняя забытый мотив.
Это было «Бегство в Египет» Тициана, и картина на мгновение напомнила Марьяне ее жалкие попытки спасти исчезающий мир в бесконечных Ноевых ковчегах. На переднем плане трое, высвеченные, словно стадионным софитом: ангел в белом, Богородица с младенцем в розовом и Иосиф в желтом, а вокруг лесные звери, выбегающие на свет.
– Посмотри, – сказала Ольга. – Они же одеты в шелк. Никаких сомнений.
– Да. – Марьяна хотела снова дотронуться до нее, а еще лучше – поцеловать, но старуха-смотрительница вдруг очнулась от сна и широко раскрыла свои совиные глаза. Я слежу за вами, как бы говорила старуха, и в доказательство поскрипела осунувшимся стулом, оправляя платок на плечах.
Из занавешенного окна пробивался нерешительный луч света. Он падал прямо под ноги Ольге, которая не могла отвести глаз от картины, просто стояла и смотрела на это – как первый план уходит на второй, а потом на третий, как проявляются горы и пастухи, вороны и равнины – как катится солнце – через реки, через горы, через поля.
Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме.
Марьяна обернулась к окну. Луч был в пыли, невероятно сильный – как будто сам раздирал эти тяжелые шторы, как железные прутья тюрьмы. Набежало облако, и он вильнул, лизнув ее ноги.
Марьяна инстинктивно шагнула назад, чтобы не стоять у него на пути, и врезалась спиной в спину Ольги. Ольга обернулась и спросила:
– Все хорошо?
– Все нормально, – сказала Марьяна, не двигаясь.
Ольга крепче вжалась спиной в ее спину, облокотилась, как в вагоне метро на двери, на которых написано «не прислоняться», и проговорила не оборачиваясь:
– Я рада, что ты здесь.
Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.
По спине Марьяны шел ток, искры бежали в затылок, пальцы немели, как после первого стакана алкоголя, а под ключицей разрасталось, цвело и зрело дофаминовое цунами.