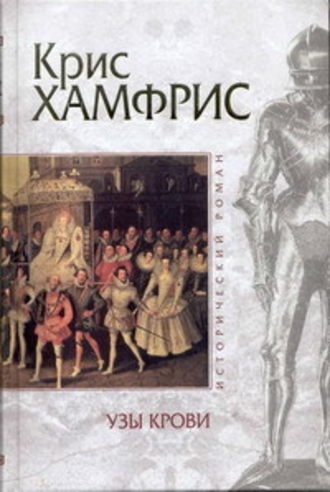
Крис Хамфрис
Узы крови
Глава 14. ГРЕХИ ОТЦОВ
– Benedic me, Domine, quia peccavi in cogitatione, verbo et opere. Меа…
– Прости меня, сыне, ибо я говорю только на языке этой страны. Я – бедный приходской священник и не знаю латыни.
Джанни посмотрел на решетку, разделявшую каморки исповедальни. Позади нее была видна темная тень священника, склонившего голову, чтобы слушать. Вздохнув, Джанни вспомнил о том, как шел сюда от Тауэра, минуя один храм за другим для того, чтобы попасть в Собор Святого Павла. Он подумал, что в главном храме государства должен найтись человек, у которого достанет ума и аскетической опытности, чтобы выслушать его исповедь, а потом назначить строгую епитимью за его грехи. Однако даже здесь он встречает только невежество! Неудивительно, что это королевство так далеко отошло от истинного света, коль скоро здесь даже пастыри не в состоянии говорить на священном языке.
Из тех четырех языков, которыми он владел, английский был наименее любимым, а этот священник, судя по его резкому говору, к тому же пользовался одним из тех странных диалектов, которые, похоже, меняются через каждые две улицы! Джанни захотелось уйти, но с момента его последней исповеди прошло немало времени – тогда, в Риме, ему было прощено убийство старого еврея. Теперь на его руках появилась новая кровь – конечно, то была кровь врага, еретика, но все равно кровь. Однако стоит ли говорить обо всем этом человеку, который, вероятно, никогда не покидал келий Собора Святого Павла?
Но возможно, это тоже было частью его искупления. Приблизив лицо к деревянным планкам, Джанни повторил те же слова по-английски:
– Тогда простите меня, отче, согрешившего мыслью, словом и делом. Со времени моей последней исповеди прошло четыре недели.
– Какие грехи ты совершил, сын мой?
Такое отсутствие тонкости! Такая прямота! До чего же это по-английски!
– Первый грех – гордыня. Я многое сделал для святого дела и радуюсь этому.
– Значит, теперь ты сожалеешь о содеянном?
– Конечно нет! Я проливал кровь только врагов Христа. Но мне не следовало бы гордиться их смертью, мне следовало бы служить только скромным сосудом Господа.
– Понимаю. И гордыня – твой единственный грех?
– Самый большой.
Наступило молчание, а потом этот странный голос снова хрипло спросил:
– А как же гнев?
– Гнев?
– Ты сказал, что пролил кровь врагов Христа. Они пробудили в тебе гнев?
– Конечно. Иначе я не смог бы их убить.
О чем говорит этот невежественный человек?
– И ты хотел бы наказать всех грешников этого мира? Здесь, в Лондоне? Возможно, твоих родных?
– Родных? – Разговор принимал странный оборот. – Мы говорим здесь о моих грехах, отче, а не о чужих.
– А разве грехи отцов не ложатся на тебя?
Джанни с трудом проглотил вскрик. Опять эта английская прямота! Он избегал говорить о своей семье, особенно на исповеди. Ему не удавалось подобрать нужные слова. Даже его исповедники в Риме не могли осознать всей глубины тех грехов. А вот этот невежественный англичанин, который не говорит на латыни и, похоже, плохо владеет даже своим родным языком, говорит о грехе его семьи!
Священник понизил голос, заставив Джанни наклониться ближе к решетке.
– Полно! Тебе ведь известно про грехи отцов. Разве они не пали на тебя?
Джанни тряхнул головой и сел прямее. На него нахлынул гнев. Он хотел говорить совсем не об этом.
– Возможно. Но вы не в силах разрешить меня от них. Только Бог может это сделать.
– Возможно, если бы мне стало понятно, каковы они…
– Это просто. Мой отец служит сатане. Молчание было довольно долгим, а потом священник спросил:
– Как?
– Почему нам нужно об этом говорить, святой отец?
– Как?
Джанни стиснул зубы и, не разжимая их, процедил:
– Он вырастил меня в неведении Славы Христовой.
– Многие люди о ней не знают. Разве неведение – это грех?
– Да! Грешно не знать Господних заповедей. И из-за этого невежества пытаться причинить вред святой Матери-Церкви. Он согрешил с одной из блудниц сатаны! – Голос Джанни рвался сквозь решетку, словно пытаясь разбить ее. – Он был ее рыцарем, этой шлюхи, этой еретички, этой ведьмы, которая отвратила вашу страну от света Рима.
– Спокойно, сын мой, спокойно.
Снова наступило молчание, в котором каждый прислушивался к дыханию другого. В конце концов Джанни нарушил безмолвие:
– Но я искупил грех моего отца. Я вернул то, что было украдено. Я уничтожил все то, что содеял отец, и радуюсь этому!
Голос отозвался шепотом:
– Снова гордыня?
– Да! – яростно подтвердил Джанни. – Я горжусь тем, что разрушил его зло!
Ему надоело все это. Ему надоел этот недалекий священник. Он уже собрался было уйти, не получив отпущения грехов.
И тут голос зазвучал снова:
– А искупил ли ты грехи остальных членов своей семьи? Джанни попытался посмотреть сквозь деревянную паутину, которая разделяла две каморки.
– Да, я намерен искупить и их. Но моя мать родилась во грехе, принадлежа к племени убийц Христа. А моя сестра…
Ему представилась Анна – такая, какой он видел ее в последний раз. Ренар стоял перед ними обоими, разъяренный тем, что его лишили главной добычи – французского палача, их отца. И когда она отказалась отвечать, Лис пообещал получить приказ Совета подвергнуть Анну Ромбо пытке. При этой мысли Джанни затошнило, и поэтому он заставил себя отвечать не менее сурово:
– Моя сестра сама должна искупать их. И она это сделает – очень скоро.
– Как?
Джанни не понимал, почему сказал об этом священнику. Возможно, ему просто хотелось поскорее уйти. А возможно, он желал только избавиться от картин, которые повсюду преследовали его.
– Сначала с ней будет говорить иезуит. Иезуитский способ – мягкостью убедить виновную в ее ошибках. Это с ней не пройдет.
– А когда иезуит потерпит поражение? Что случится тогда?
В эту секунду Джанни ощутил на щеке нечто странное. Подняв руку, он недоуменно прикоснулся к своим слезам. Слабость заставила его согрешить – и он впал в ярость.
– Тогда послезавтра придет другой человек, который повенчает ее с дыбой! – Его губы прижались к решетке. – Он вздернет ее и переломает ей все тело. И его тоже ждет провал, потому что Анна ничего не выдаст. Ничего! Ничего! – У Джанни сорвался голос. – Ради мук Христовых, отче, отпустите мне мои собственные грехи и оставьте в покое мою семью!
Джанни с такой силой прижал лицо к решетке, что перекладины впились ему в кожу и намокли от его слез. Несколько секунд он прислушивался к молчанию по другую сторону.
– Отче?
И это слово будто подтолкнуло его. Внезапно Джанни все понял и в спешке оборвал занавесь.
Соседняя клетушка оказалась пустой, хотя, когда он провел ладонью по лавке, та еще сохраняла тепло. У себя за спиной, в дальнем конце нефа, Джанни услышал, как открылась и сразу же закрылась дверца, проделанная в огромных дубовых дверях собора. Джанни бросился к ней, не сразу справившись со щеколдой, и выбежал, растолкав в стороны тех, кто хотел войти в храм. Был ранний вечер, и вокруг оказалось немало гуляющих. Тот, кого он искал, затерялся среди них.
– Отец! – крикнул Джанни – совсем не так, как говорил в храме.
Стоявшие рядом люди отшатнулись – их обожгло мукой, прозвучавшей в голосе юноши.
Искать было бесполезно. Жан Ромбо исчез. Опустившись на каменную ступеньку и не обращая внимания на окружающих, Джанни беззвучно заплакал.
На углу проулка, скрываясь в тени и глядя сквозь толпу, Жан Ромбо смотрел на своего сына. Ему хотелось подойти, обнять Джанни, попытаться преодолеть пропасть, разделившую их, но он знал, что из этого ничего бы не вышло. Сочувствие быстро заставит юношу впасть в ярость, вернуться к своему «предназначению». Его исповедь убедила Жана в этом. Выследив Джанни от самого Тауэра, где постоянно наблюдал с того момента, как накануне бежал оттуда, Жан надеялся на то, что, возможно, убедит сына помочь освободить Анну. Когда он увидел, как сын входит в исповедальню, то решил, что им представится возможность поговорить. Но, услышав, как Джанни обращается к нему «отче» – какой бы смысл тот ни вкладывал в это слово, – Жан промолчал и воспользовался возможностью заглянуть юноше в сердце. И увидел там только ужас.
Джанни не поможет ему проникнуть в Тауэр. А ведь в тех стенах Анну ожидают муки дыбы..
Это место пугало Жана больше всего. Однако он не мог не пойти туда. И теперь, глядя, как его сын плачет перед огромным деревянным зданием Собора Святого Павла, мысленно Жан Ромбо увидел другого родителя – и другое дитя. Это дитя, возможно, было единственным человеком во всем королевстве, способным помочь ему сейчас.
– Прости меня, сын мой! – прошептал Жан вновь, обращаясь к своему ребенку через неизмеримую пропасть, разверзшуюся между ними.
А потом свернул в переулок, который вел к Темзе, и быстро зашагал к пристани, гдеперевозчики ссорились из-за пассажиров.
* * *
На холодном каменном полу его тело давно онемело. Хотя наставники Томаса уже давно не рекомендовали боль как способ сосредоточить ум, ему казалось, что это пустячное неудобство, напротив, весьма полезно. Он даже нарочно выбрал самое неудобное помещение в этой наполовину восстановленной башне Мартина, где больше никто не жил. Томас Лоули сделал это потому, что комната напомнила ему суровые монастырские кельи, в которых он научился любить Христа.
Сегодня ему никак не удавалось добиться ясности мыслей. Требования долга тонули в водовороте, сливаясь там с длинными черными волосами, черными глазами – с женщиной, которая спокойно парила над дорогой у стен павшей Сиены. Томас узнал ее в ту самую минуту, как только увидел ее на сожжении еретиков. И лишь после долгих часов молитвы ему удалось отделить ее образ от своего ответа. Как всегда, этот ответ заключался в слабости духа, в его прежней, греховной жизни. Когда Томас был солдатом, то вокруг него всегда было много женщин: они были доступными, из-за них дрались. Один раз он даже решил, что влюблен. Все это – заблуждения, дьявольский соблазн. Уже десять лет Томас избегал женщин. Десять лет он был солдатом Христа в Обществе Иисуса. Эта женщина, эта Анна стала просто напоминанием о прошлом. Наконец Томасу удалось отделить свою реакцию на ее прекрасную плоть и несомненную отвагу от желания спасти ее душу. К тому моменту, как он услышал шаги, поднимавшиеся по полуразрушенной лестнице башни к его комнате, он уже был готов ко встрече с ней.
«Теперь она больше не парит», – подумал Томас.
Анна стояла, повернув голову, и темные волосы вуалью закрывали ее лицо. На них остались следы грязи и соломы, под стать отметинам, испещрившим ее блузу и юбку. Она скрестила на груди руки, стиснула кулаки.
– Вы не сядете? – предложил Томас, указывая туда, где по одну сторону стола были поставлены два стула, развернутые друг к другу.
Девушка ничем не показала, что слышит. Только когда иезуит повторил свой вопрос и сделал шаг в ее сторону, узница повернула к нему лицо, такое же грязное, как и одежда. На правой скуле у нее красовался синяк, темный и опухший.
Томас указал на него.
– С вами дурно обращались. Мне очень жаль. Садитесь, пожалуйста. Пожалуйста.
«Так вот как это начинается, – подумала Анна. – Я слышала о том, как действуют палачи. Мерзкая камера. Стражники – жестокие, похотливые. Потом – добрый, мягкий мужчина. И наконец, тот человек, который так разъярился вчера и который вернется с разрешением мучить меня».
Анна села. Ей налили вина, предложили хлеба. Она начала жевать жесткую корку, а выпила очень немного. Она не ела уже сутки.
Томас наблюдал за ней. Когда был съеден второй черствый рогалик, он заговорил:
– Вам известно, почему вы оказались здесь, дитя? Еда помогла ей восстановить силы.
– Чтобы продолжить мои мучения. Чтобы ослабить меня перед тем, что меня ждет.
– Вы так плохо обо мне думаете?
– Я вообще никак о вас не думаю, сударь. Я вас не знаю.
– Мое имя – Томас Лоули. Я – член Общества Иисуса. Это вам что-то говорит?
На тарелке еще оставались крошки, и Анна стала подбирать их.
– Да. Мой брат учился в вашем ордене в Риме. Вы – янычары Папы Римского.
Это стало для него неожиданностью – услышать старинное оскорбление из ее уст. Томас даже рассмеялся.
– Возможно, мы – действительно воины Христовы, леди. Однако ваш необыкновенный брат не принадлежит к нашему ордену, потому что, кажется, считает наши методы недостаточно воинственными. Ваш брат хотел бы сжигать еретиков, чтобы спасти их от грехов. Мы же стремимся убеждать, а не принуждать.
Анна Ромбо впервые посмотрела ему прямо в глаза.
– Значит, вы хотели бы спасти меня от греха?
– Это стало бы для меня огромной радостью.
– Однако я не еретичка.
– И все же вы здесь из-за еретического дела.
– Я здесь по семейному делу, сударь, только и всего. И как я могу быть еретичкой, если никогда не была католичкой?
– Вас не крестили?
– Нет. Моему отцу не нравится то, что делают ради религии. А моя мать… – Анна помедлила, а потом смело заключила: – Моя мать – еврейка. Она говорит, что это значит, что я тоже еврейка. Так что теперь можете ненавидеть меня еще и за это.
– Ненавидеть вас?
Поразительная новость! Брат этой женщины ненавидел евреев с таким пылом, какого Томас еще никогда не встречал. А ведь он встречал немало людей, ненавидевших евреев. И вот теперь выясняется, что Джанни и сам был евреем!
Томас отошел от стола и посмотрел на простое деревянное распятие, висевшее в углу. Повернувшись к узнице спиной, он сказал:
– Вы знаете, что говорит о евреях наш дражайший глава, Игнатий Лойола? «Подумаешь! Быть в родстве с Господом нашим Христом и Госпожой нашей преславной Девой Марией!» – Иезуит снова повернулся к пленнице. – Нет, я не стану ненавидеть вас за это. Я вас чту.
Анна всмотрелась в лицо этого человека. Она знала, что оказалась здесь для допроса. Возможно, такова его манера: заманить ее, накормить, заболтать… Тем не менее он казался искренним. И тем больше у нее причин оставаться настороже. Однако Анне не удалось обуздать свой язык, потому что ее всегда раздражала самоуверенность религиозных людей.
– Но я тоже люблю историю о Христе. Не ту, которую рассказывает церковь. Его собственную историю, изложенную в его собственных словах!
– Дитя, не вам толковать Его слова. Это – дело Святой Церкви. Все остальное – ересь. Неужели вы не понимаете, что именно за этот грех вчера была сожжена женщина?
– Ну вот видите, – откликнулась Анна. – Значит, я все-таки еретичка.
Разговор пошел не так, как надеялся Томас. Пора менять подход.
– Как мне хотелось бы, чтобы у меня было время освободить вас от ваших ошибок! Увы, у нас с вами нет долгих часов, необходимых для этого. Тот, кто приказывает мне здесь, в Англии, – человек весьма нетерпеливый. Он хочет получить от вас сведения. И его методы весьма отличаются от моих.
Анна понизила голос:
– Разве это благородно с вашей стороны – угрожать мне, сударь?
– Я не угрожаю вам, дитя. Я объясняю, что произойдет. И я не в силах изменить этого. Если только вы не…
– Да?
– Если вы не скажете мне сейчас то, что нам нужно знать. Если вы это сделаете, то тем самым не только спасете свою жизнь – у нас может появиться время, которое необходимо для того, чтобы я мог спасти и вашу душу.
Анна никак не могла понять, является ли его откровенность простой уловкой. Не поднимая глаз, она пробормотала:
– Что вам нужно знать?
Томас вздохнул. Начало положено.
– Все, касающееся руки Анны Болейн. Все о ее магических свойствах, о ее способности проклинать и излечивать. Все о палаче, Жане Ромбо. О том, что ваш отец рассказывал вам о руке, о своих отношениях с королевой ереси и ведьмовства. Откройте мне свое сердце, и, поверьте, я почувствую, если вы утаите от меня хоть крупицу сведений. Говорите открыто и прямо – и я встану между вами и вашей судьбой.
Анна не знала, что ему можно рассказать. И в сущности, что особенного ей известно? Она попробует выдать ему что-нибудь. Но только не об отце.
– Я никогда не видела этой руки, но…
– Хотите увидеть ее сейчас?
Томас понял, что ему тоже хочется увидеть эту странную реликвию – здесь и сейчас, потому что он только мельком взглянул на нее, когда они выкопали ее во Франции, у перекрестка дорог. Для Томаса Лоули это были всего лишь останки, не более. Втайне он питал сомнения относительно собраний костей святых, наполнявших храмы Европы и продававшихся за груды золота. Однако иезуит никогда не сомневался в том, какую власть может возыметь над легковерными людьми подобный символ. Именно за это люди и платят деньги. За эту власть.
Томас прошел через комнату к простому дубовому сундуку. Открыв его, он извлек оттуда маленькую шкатулку, которую принес к столу. Ключ к ней висел на цепочке у него на шее. Иезуит вставил его в скважину и открыл крышку.
– Вот, дитя, – объявил он, отступая назад, чтобы наблюдать за лицом пленницы. – Вот источник всех этих трудов и страданий.
Дрожащими пальцами Анна оттянула край бархата – и вскрикнула от боли.
Это было ничто. Кисть руки, кости которой стали чистыми в результате распада мягких тканей плоти.
И это было… все. Дело не в скелете, не в символе и даже не в лишнем пальце, лежавшем рядом с тем, которому полагалось быть мизинцем, – нет, во внезапном, мгновенном, ослепляющем прикосновении: живая плоть дотронулась до мертвой кости, и обе Анны вдруг оказались вместе, соединившись через годы, через невозможное – но несомненное. Королева схватила Анну Ромбо – черные волосы и черные глаза. Королева не была застывшей, не стала плоским портретом на стене, она жила, дышала… умирала. Тонкая красная полоса пробежала по стройной шее, кость запястья у нее в руке разломилась, крик, начавшийся почти два десятилетия назад, оборвался.
Для Томаса ее болезненный вскрик был началом – и концом. Анна упала на стол, и волосы закрыли ее лицо. Под волосами он услышал рыдание.
– В чем дело, Анна? Ты почувствовала здесь зло? Королева-ведьма пытается захватить твою душу? Христос защитит тебя, дитя, тебе надо только верить в Него. Давай я спрячу ее от тебя. Давай!
Он потянулся через узницу к шкатулке и даже сумел закрыть крышку, хотя ему пришлось очень неловко изогнуть тело, чтобы случайно не прикоснуться к девушке. А когда иезуит попытался взять со стола дубовую шкатулку, то его колено, ослабленное раной и холодом от долгого соприкосновения с каменным полом, не выдержало. Томас Лоули услышал щелчок, вскрикнул и рухнул прямо на дочь французского палача.
Анна не слышала его слов, потому что не успела опомниться от потрясения. Внезапно она ощутила навалившийся на нее вес, прижавший ее к столу. Она выскользнула из-под него и встала в оборонительной позе, которой ее научили родители: нога заведена назад для пинка, руки опущены вниз для удара. Но Томас остался лежать там, где упал, свисая со стола и протягивая руку к больной ноге. Лицо его было искажено.
– Не бойтесь! – выдохнул он. – Это мое колено. Мне… ох!., мне необходимо лечь в постель.
Он попытался подняться и опереться на стул, но тот поехал в сторону, вызвав новый вскрик. Анна поняла, что страдания иезуита непритворны. И ей не важно было, что это враг. Он страдал. Она пошла к нему.
– Позвольте, я вам помогу, – предложила она.
Он схватил протянутую руку. Рука девушки оказалась неожиданно сильной, так что ему удалось встать. Вдвоем они доковыляли до его постели.
– Вот видите, какой из меня дознаватель!
Лицо иезуита морщилось от боли и попытки улыбнуться. Анна положила руку ему на колено, и он впервые за целую вечность ощутил там тепло.
– Что вы с ним сделали? Ну же, рассказывайте. У меня есть опыт целительства.
Томас собрался было возразить, напомнить ей, кто тут главный. Но ее сильные руки прикасались к его увечью, и в месте их прикосновения – хоть ему и трудно было в это поверить – действительно ощущалось облегчение.
– Я был военным. Ногу сломали во время одной осады и так и не вправили как следует. Я…
– Тшш!
Она прижала палец к его губам и снова принялась ощупывать колено. Два раза Томас вздрагивал от сильной боли. Однако постепенно он успокоился и откинулся назад, предоставляя ее пальцам полную свободу. Спустя какое-то время Анна выпрямилась, не вставая с кровати, и посмотрела на своего пациента.
– Мне уже приходилось видеть такие травмы. Кость колена смещается – ее почти ничто не держит на месте. Я могу поставить ее на место, но это будет больно.
– Один врач укладывал меня на дыбу и воротом пытался растянуть кости. Я не боюсь боли.
– Вот и хорошо. Лежите спокойно. И думайте о святых вещах.
Томас услышал в ее словах улыбку и, ответно улыбнувшись, вытянулся на постели. Однако его улыбке не суждено было задержаться: внезапная мука пронзила его тело, превратив все мысли в туман и принося с собой забытье.
Анна уложила ногу на кровать и посмотрела на потерявшего сознание человека. Ей требовалось туго затянуть колено тканью, чтобы оно не сместилось снова. Одна простыня оказалась надорванной, и девушка быстро превратила ее в полоски материи. Когда она приподнимала Томасу ногу, он застонал. В ту же секунду Анна встала возле его головы, нежно гладя лоб больного.
– Тише! – мягко прошептала она, как шептала юному солдату во дворе «Кометы», как шептала Джузеппе Тольдо и тысячам других умирающих во время осады Сиены. И, как и все они, Томас Лоули при ее прикосновении погрузился в сон, повинуясь мягкому приказу, звучавшему в ее голосе.
Туго перевязав колено, Анна снова села за стол. Томас долго не проспит. И в любом случае, дверь за ней заперли.
Она снова посмотрела на шкатулку, которую иезуит в приступе боли сбросил на пол. Анна поставила ее обратно, но открывать не стала. Она увидела в руке Анны Болейн все, что ей требовалось. Для обеих Анн осталась всего лишь одна слабая надежда. И был только один человек, который мог ее принести.
* * *
Елизавета пробиралась сквозь заросли папоротника. Туфли на мягкой подошве неслышно ступали по узкой тропинке. Растения были на голову выше ее, закрывая от принцессы то, что могло бы стать мишенью для ее оружия. Однако она двигалась быстро, читая следы так, как научил ее когда-то отец: обломанный стебель, отпечаток копыта в прелой листве… Кабан проходил здесь, повернул обратно.
Когда принцесса обнаружила еще теплый помет, то поняла, насколько близко подошла к зверю.
Елизавета еще не остыла после быстрого галопа через открытое поле. Она настигла гончих на полпути к этим зарослям папоротника. Псари остановили животных, и их раздосадованное гавканье и рычанье следовало за охотницей там, куда их не пустили. Слышны были и крики людей – испуганные голоса, пытавшиеся удержать ее так же, как цепи удержали собак. Однако Елизавета не собиралась повиноваться: никакой приказ не мог посадить ее на сворку, и здесь никому не удастся догнать ее. Эти места известны принцессе гораздо лучше, чем любому из них, – не ее ли отец создал эти охотничьи угодья?
Елизавета выставила рогатину для охоты на кабана, раздвигая ею папоротник, заглушивший оленью тропу. Левой рукой принцесса удерживала рогатину за крестовину на середине дубового древка, правой прижимала к боку. Пора перейти на более медленный шаг: кабан наверняка остановился где-то совсем близко, раз собаки отстали. Именно в этот момент животное становится самым опасным. Сейчас оно будет пытаться услышать ее так же, как она пытается услышать его.
Чей-то голос окликнул охотницу – примерно в ста шагах левее, как ей показалось. Филипп! Его жеребец держался почти вровень с нею, когда она пришпорила кобылу для последнего рывка. Ее лошадь, меньшая по размеру, была подвижнее и на коротких дистанциях выигрывала. Наверное, Филипп успел увидеть Елизавету в тот момент, когда она спешивалась, чтобы углубиться в папоротники, но потом она взяла резко вправо, двигаясь по узким тропам.
Филипп. Он поддразнил ее в своей любезной манере, когда она брала рогатину на кабана из оружейной. «Королева-воительница, как ваша Боадицея!» – так он назвал ее, а потом мягко напомнил, что убивать положено мужчинам, а женщинам – держаться позади и восхищаться ими. Испанцу хотелось покрасоваться перед Елизаветой, как он сделал это неделю назад с тем красивым оленем.
Ну и что? Елизавете надоело смотреть, как мужчины гордо прохаживаются перед ней, оставляя ей роль восхищенной дурочки. Сейчас они с Филиппом – не на иссушенных равнинах Кастилии, а в ее зеленой Англии. Элиза – дочь Гарри, и отец научил ее, что надо делать с рогатиной.
Елизавета приостановилась, снова скользнув взглядом по тропинке. Затаив дыхание, она пыталась уловить сопение, вырывавшееся из тяжело вздымающихся мохнатых боков.
Вот оно! Это существо переминается на сухих листьях, медленно поднимается на копыта, снова пригибается, готовясь нападать, опускает кинжально-острые клыки к папоротнику, который она как раз собиралась отодвинуть…
Что-то ударило ее в бок. Задохнувшись, охотница выронила рогатину на землю. У нее не было возможности вскрикнуть, и она испытала мгновение ужаса, ожидая, что сейчас ее тело вспорют костяные лезвия. Ее лицо ушло в папоротник, рука при падении оказалась придавлена телом – но вторая уже тянулась к кинжалу, закрепленному у пояса.
Чьи-то пальцы остановили ее руку, ладонь зажала ей рот. Прикосновение человека сначала принесло чувство облегчения, а потом вызвало гнев. Никто не смеет так прикасаться к принцессе! Даже принц. Елизавета сжала зубы, почувствовала вкус крови, с удовлетворением услышала приглушенный вскрик боли. Однако рука не отпустила ее рта, хотя она укусила еще раз, сильнее. Вместо этого возле ее уха оказались губы, и чей-то голос поспешно прошептал:
– Миледи, не кричите, молю вас. Я – друг и принес вам известие.
Друзья не вжимают ее в землю. Она не разжала зубов. Полный боли шепот продолжился.
– Ваше высочество. Я – Жан Ромбо. Я был… палачом вашей матери.
Елизавета перестала его кусать и попыталась вздохнуть.
– Это правда, принцесса, клянусь вам. Я… оказал вашей матери некую услугу. И теперь вам, ее дочери, угрожает страшная опасность.
Принцесса повернула голову, освобождая рот от душившей ее руки. Незнакомец позволил ей это сделать.
– Слезайте с меня.
Приказ прозвучал решительно, однако она отдала его шепотом. Выбравшись из-под него, Елизавета отодвинулась подальше. Возясь в папоротниках, они примяли стебли. Запах кабана ощущался очень явственно. Елизавета нашла лежку, а в ней – гораздо более опасного зверя. Ее рука легла на рукоять кинжала, вытянула его из ножен. Мужчина, присевший на корточки напротив нее, продемонстрировал ей свои пустые ладони.
– Жан Ромбо был великан. Молодой, сильный. А вы…
– Я слышал баллады, принцесса, в которых мне давали все семь футов роста и почти такой же размах плеч. А что до молодости… Ну, прошло ведь почти двадцать лет.
Было что-то в его глазах под седеющими волосами: улыбка и одновременно печаль. Елизавета давно научилась отличать ложь от правды – от этого умения зависела ее жизнь. Клинок чуть опустился, но не был спрятан. Где-то далеко ее окликали.
– Жан Ромбо, – проговорила принцесса. – Имя из кошмарного сна. – Она ощутила у себя на глазах слезы. – Вы отрубили голову моей матери.
Жан кивнул:
– Да, миледи. Я убил ту, которую любил, потому чтоу меня не было выбора.
– Которую вы… любили?
– Да, миледи. И ради этой любви я принес клятвуисполнить просьбу вашей матери.
Кинжал выпал у нее из руки.
– И что вы сделали? – тихо спросила принцесса, хотяответ был ей известен.
– Ваша мать страшилась того зла, которое могут совершать от ее имени. Того зла, которое может обратиться против вас. И она умоляла меня… взять ее руку, ту самую руку, и похоронить ее в земле, где она когда-то была счастлива.
«Счастлива»? Это слово никогда не ассоциировалось у Елизаветы с матерью, которой она не помнила. Никто не рассказывал ей хороших историй об Анне Болейн. О ней вообще не говорили.
Новые крики. Теперь звали и Филипп, и другие, встревоженные ее исчезновением.
Жан озабоченно осмотрелся. Но он вынужден был ждать, пока она не заговорит.
Ее голос стал резким. Слишком много чувств поднялось в ее душе.
– И этого вы сделать не смогли. Сдержать свою клятву. Потому что ее рука стала теперь для меня очень опасной.
– На какое-то время мне это удалось. Рука оставалась зарытой, пока…
Жан вдруг обнаружил, что не может говорить о происшедшем. Не было смысла извиняться, оправдываться чужими поступками, которых он так и не смог понять. И к тому же голоса приближались.
Он продолжил:
– Это не важно. Но рука снова оказалась здесь. Думаю, ее используют, чтобы угрожать вам, чего и боялась ваша мать.
– Это уже сделали. Такой опасности мне еще никогда не грозило.
Елизавета еще никому не признавалась в этом. Но здесь, с этим человеком, не было времени для игр.
– Чего вы от меня хотите, Жан Ромбо?
В ее голосе, в том, как она произнесла его имя, появилось нечто знакомое. Время исчезло, унесло двадцать лет – и вновь королева просит его об одолжении. А теперь и он умоляет об одолжении ее дочь, обещая в минуты грозящей ей опасности нечто такое, чего не в состоянии будет исполнить. Но сейчас смертельная опасность угрожает его собственной дочери, и все остальное просто не имеет значения.
– Мне надо попасть в Тауэр, миледи.
– Вы попытаетесь снова украсть руку? Он солгал. У него не было выбора.
– Я должен это сделать. Ради нас всех.
Елизавета была обучена видеть, когда ей лгут. Но надвигающаяся беда и внезапно появившаяся надежда, пусть слабая, усыпили ее бдительность. Кроме того, у нее попросту не было времени задуматься, потому что встревоженные оклики звучали все ближе.
– Елизавета! Принцесса!
Она стащила с пальца тяжелую печатку с кровавиком.
– Возьмите вот это. В Тауэре служит один офицер, который любил мою мать. Во время моего недавнего заключения там он доказал, что меня он тоже любит. Его зовут Такнелл.
Голоса раздавались уже совсем близко:
– Принцесса! Миледи!
– Отдайте кольцо ему. Он сделает то, что попросит передавший его. Потому что моя мать – не единственная женщина, кому мужчины приносили клятвы.
Жан спрятал кольцо в карман. Под чьими-то шагами захрустели стебли. Кто-то обнаружил тропку, рядом с которой они притаились.
Французский палач изобразил поклон, не поднимаясь с корточек, а потом скользнул в листву. Его остановила женская рука, прикоснувшаяся к его рукаву.
– Скажите мне, Жан Ромбо: как умерла моя мать?
Он заглянул в эти глаза – наследство ее матери. Может быть, он не сможет спасти принцессу, но хотя бы это он ей дать в состоянии.
– Она умерла как королева. И в последнюю минуту произнесла ваше имя.
Жан сжал ее тонкие пальцы и исчез. Он не задержался, чтобы увидеть ее слезы, – их свидетелем стал Филипп Испанский, случайно обнаруживший принцессу.
– Миледи Елизавета! Вы поранились?
– Нет, милорд, – ответила она, вытирая глаза. – Я споткнулась, вот и все.


