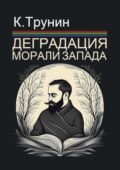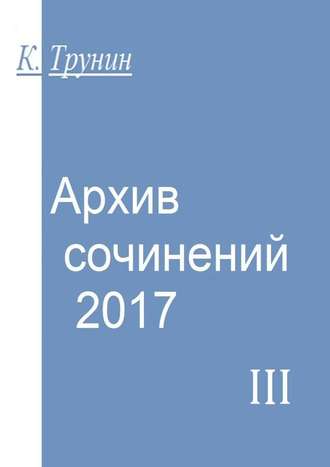
Константин Трунин
Архив сочинений – 2017. Часть III
Александр Сумароков «Димитрий Самозванец» (1771)
Литература – проклятое ремесло, губило людей прежде и погубит многих ещё. Но есть те, кто не может без сочинительства жить, таким суждено сизифов камень в гору катить. И катят они, и откатывается камень назад, пробуждая дискомфорт в мыслях и в чувствах разлад. Криком кричи, осуждаемым быть обречён, в наши дни и в дни тех, кто ещё не рождён. Оставим печали, самозванцев хватает везде, лишь бы слагалось не в усталость себе.
Копилась раздражительность, минуя десятки лет, Сумароков трагедии сочинял, не находя стараниям должный ответ. Он пребывал в конфликте, и конфликт тот плодотворным поныне считается, только одна особенность в распрях поэтов прошлого выделяется. Ни Сумароков, ни другой стихотворец, живший в годы его, представляя что-то, после не представляли ничего.
Как же так? Ведь ладен Сумарокова слог. Рифма лилась: подобен ей речи поток. Смотри и любуйся – сюжет всем на диво. Коли в первый раз видишь, то будешь думать – красиво! А если не первый раз трагедия в исполнении автора в руках, то поймёшь, увидев прежнее и оттого устав. Опять любовь, опять страдания души, опять кинжал, опять желание решение проблем найти. Всё было ранее, есть отчего хандрить поэту, ежели оригинального сюжета со времён «Хорева» нету.
Добавить истории эпизод для верности придётся, о Димитрии Самозванце слов много найдётся. Погань у власти, от черни на троне сидел, православие предал и поляков призвать он хотел. Свергнуть старые нравы, как свергнул прежнее сам, не ему в болотах топить католиков, водя по лесам. Властелином слыть Димитрию в веках, земли Россов попирая властью своей, не влюбись он в Шуйского дочь, мечтая днём и ночью о ней.
Что Димитрий, важен он кому? Шуйский соглашался дочь отдать в жёны ему. Политика то, а политика – инструмент для интриг, говорить одно, делать иное, и так каждый миг. Если слаб правитель на ложь, и не умеет он правду скрывать, такому государю не дано страной управлять. Пусть Димитрий планы имел, хотел видеть порядки другие, может для оздоровления Руси желал дела делать большие. О том не говорят потомки, ибо сраму полон самозванца удел, святости Россов смевшего ставить предел.
Властелин для народа, по праву рода будто он, не замечая отчётливо слышный металла от подданных звон, Димитрий любил, не видя отраву готовой сорваться напасти, не понимая, что может скоро лишиться обретённой над русскими власти. Кинжал пустить в ход? Заколоть врагов и заколоть свою любовь? Не остановить царя! Готовь алтарь! Алтарь готовь!
Сумароков предсказуем. Каков будет финал? Чем зрителя поэт ещё не удивлял? Миром закончится всё, али жертвой сделают кого? Из истории известно – Димитрий падёт раньше «тестя» своего. Хоть Шуйский власти будто не алкал, отказываться от регалий он бы не стал. Смута завяжется, ведь Смута творилась в стране. Не находил народ спасения от Смуты нигде. И пока Смута мороком сводила умы, для лиц той эпохи верных слов не найти.
Всегда думать приходит пора. Думать приходится в пору тяжёлых годин, когда общество не знает решения верного способ один. Борение взглядов, интересов и должного быть, но никто не знает, как ему сейчас поступить. Сумароков ответил, найдя скопившимся бедам решение, тем указав на вернейшее для устранения разногласий направление. Правителю решать! И он определится. Как знать, может в будущем какой-нибудь правитель на такое тоже решится.
13.10.2017 (http://trounin.ru/sumarokov71)
Василий Новгородский «Послание Феодору Тверскому о рае» (1347)
Прослышал как-то архиепископ Василий Калика о словах епископа Феодора, будто бы рай погиб в тот момент, когда он был покинут Адамом, поэтому ныне того рая не существует. Решил ответить тогда Василий, составив для того послание, сохранённое на память потомкам в летописных и церковных переписываемых свидетельствах. Мнение он высказал не общепринятое, поделившись интересной трактовкой понимания библейских рая и ада, должных пониматься иначе, нежели о них принято думать.
О гибели рая в священных писаниях не сообщается. Более того, есть упоминания, что в рай ходили и возвращались праведники, а также известно о вытекающих из него реках: Тигр, Нил, Фисон и Евфрат. Рай – не чисто духовное понятие, как о том принято думать. Он и не место упокоения души, как и ад – не место для её страданий.
Знает ли потомок библейских времён о действительном назначении рая и ада? Принято думать, якобы в рай после смерти попадают люди, ведшие праведную жизнь или раскаявшиеся и прощённые, а в ад – все остальные. Но Василий считал иначе, видимо опираясь на некоторые размышления, достигнутые им во время хождения к святым местам до избрания его архиепископом Новгородским и Псковским. Касательно рая он исправлений вносить не стал, в ад же грешники направляются не муки испытывать, а стращать дьявола и других падших, усиливая именно их муки, вместо собственных.
Касательно духовного рая Василий считает его допустимость в случае второго пришествия Христа. Это не исключает существование рая вообще, и в любом случае является одним из пунктов религиозной полемики, по сути своей бесплотной, поскольку речь идёт о настолько высших материях, понять которые человек не в состоянии.
Нам неизвестно, что именно говорил Феодор Тверской и ответил ли он Василию Новгородскому. Трудно судить, настолько оба они были сильны в богословских спорах. Единственного доступного послания слишком мало, чтобы делать выводы. Но уже по его содержанию понятно, насколько тяжёлыми могли быть дискуссии, скорее всего усиливающими разногласия в церковной среде.
Чуть более века прошло с момента Батыева нашествия и морального разложения населения Руси. По речам Василия позволительно судить, как вольно позволялось рассуждать на библейские темы, вынося на всеобщее обсуждение собственное их понимание. Впрочем, самородки с уникальным мыслительным процессом всегда появляются, освежая представления о былом. Редко к их взглядам относятся с пониманием, чаще осуждая. Чем-то Василий должен был выделяться, ежели имел расхождение в метафизическом понимании природы основных понятий христианского представления о действительности, либо такое отличало в XIV веке многих, а может и не имелось тогда на Руси способных в науке богословия.
Можно допустить любые предположения, неизменно претендуя на верность в суждениях. Такому мнению способствует малое количество сохранившегося материала. Так судил и Василий Новгородский, родившийся и живший в условиях уничтоженного прошлого, невосполнимо утерянного и зияющего дырами. Оставалось положиться на мнение греческих патриархов, единственно возможных светочей религиозной мысли.
Думая наперёд, видишь, как на Руси, начиная с крещения, религия постоянно видоизменялась, едва ли не разительно отличаясь от всего прежде возможного. Это отчётливо видно, стоит, например, обособить каждый век, рассмотрев его отдельно. Изначально рабски покорное желание следовать по пути мучений Христа ради Божьей милости изменится на осознание необходимости пересмотреть традиционные представления, подвергнув их новому воздействию, согласно внутреннему ощущению правильности, чем будет спровоцирован ряд критических переломов, подведших само понимание религии на Руси в качество данницы реформам Петра I с последующей стагнацией на протяжении XX века.
13.10.2017 (http://trounin.ru/basilkalika)
Александр Иличевский «Перс» (2009)
Иличевский подобен мачехе, заставившей Золушку отделять одну крупу от другой, поступив сходным образом с читателем, смешав воедино множество всего. Читатель, как и Золушка, справится с порученным ему заданием, и оставит внутри себя такой же неприятный осадок, поскольку не было существенной необходимости противиться тому, чего не миновать. Претензия к Иличевскому одна – неумение сокращать написанный материал, вследствие чего повествование загромождено лишними элементами.
Как прежде, Иличевский пишет так, как он в тот момент думает. Не идёт речи о том, чтобы выстроить текст в хронологическом порядке. Это противно представлениям Александра о художественной литературе. Необходимо сперва заинтересовать читателя, что и было сделано. Далее осталось отправиться за рублём в Москву, где главный герой будет рассказывать о присущей ему крутости, богатом опыте работника нефтяной промышленности и о детстве, проведённом в Баку. Не стоит думать, как это всё связано с самим Иличевским, возможно представлявшем именно себя на его месте.
Каждый найдёт свою прелесть в «Персе». Если читатель ценит историческую информацию – его вниманию представлен город Баку, связанный становлением с именами семейств Нобелей и Ротшильдов. Любителей восточных мотивов заинтригует охотничий интерес арабских шейхов к охоте на птицу хубара. Считающие важным внимать историческому наследию писателей получат жизнеописание Велимира Хлебникова. Но ключевой сюжетной линией предлагается считать то и дело проявляющиеся на страницах произведения эпизоды детства главного героя, которые и следовало оставить, переместив остальное в какое-нибудь другое произведение.
Мысли мыслями, но ведь должно быть объяснение желанию Иличевского рассказывать, выдерживая определённый объём. Может издательством поставлено условие в обозначенный срок отдать на редактуру чётко обозначенное количество авторских листов? Тогда немудрено видеть желание писателя раскрывать перед читателем не столько сюжет, сколько энциклопедическую информацию. Действительно, почему бы не взять ряд узкоспециализированных книг, вольно изложив их содержание своими словами?
Такой подход оправдан, но способен внести непонимание, если видно, как, говоря о чём-то, автор подменяет действительное собственными представлениями. Допустим, футуризм для Иличевского связан с будто бы устремлением творцов в будущее, тогда как футуристы ничего подобного не имели в виду, желая лишь создавать новое, прежде невиданное. Тот же Велимир Хлебников, каким бы его не представлял себе Иличевский, сразу воспринимается не таким, каким он подаётся в «Персе».
Читатель понимает: манера изложения Иличевского – поток сознания. Об этом уже было тут сказано, но другими словами. Поэтому не стоит удивляться, когда представления о Голландии трансформируются из детских фантазий в реальность, при задействовании воспоминаний о раскуриваемом в юном возрасте сене. После таких сюжетных пассов читатель не удивляется, внимая размышлениям о подводные лодках и разработке методов по их обнаружению, а также думам вокруг ДНК и построении на её основе стихотворений.
Не станет странным потом осознавать, как некогда прочитанная книга полностью выветривается из памяти. Секрет художественной литературы всегда скрывался под нагромождением всего, дабы привлечь внимание к определённому сюжету. Говоря о чём-то, писатель должен заставлять читателя забыть о несущественном, ибо скажи он кратко о нужном, то и это будет вскоре замещено прочим нагромождением информации. Иличевский не стремился к определённости, поэтому не стоит после пытаться вспомнить о чём именно он писал. Тем более не стоит озадачиваться, почему именно о чём-то определённом он сообщал на страницах произведения.
Годы пройдут, представления о литературе могут измениться. Исследователи творчества писателей начала XXI века придумают термины и станут делить авторов на группы. Для Иличевского тоже найдут место – он не будет одинок.
14.10.2017 (http://trounin.ru/ilichevsky09)
Владимир Киселёв «За гранью возможного» (1985)
Партизанской деятельности Александра Рабцевича и Карла Линке посвящается, действовавших на территории Белоруссии, уничтожавших инфраструктуру и живую силу фашистского противника. Трудились они смело, диверсии проводили успешно и по окончании войны нашли дело по душе. Владимир Киселёв в художественной форме взялся рассказать о былом, на возвышенных тонах придав повествованию позитивный настрой. Со страхом в сердце, но с твёрдой верой в победу, действовали партизаны и тем принесли пользу для общего дела.
Читатель с самого начала удивляется, поскольку не сразу способен понять, как среди партизан мог оказаться немец Линке. Почему к нему все хорошо относились и никто не думал подозревать в нём врага? Киселёв внёс требуемую ясность, напомнив о Гражданской войне, где не русский шёл на русского, а рабочий и крестьянин на помещика и буржуя. Так и в случае с Линке, он – антифашист – стремится избавить Германию от засилья фашистов.
Содержание книги Киселёва показывает важность деятельности партизан. Первой громкой внутренней операцией группы Рабцевича «Храбрецы» стала диверсия Крыловича, признаваемая одной из крупнейших. Прочие диверсии не носили столь важного значения, однако и они затрудняли передвижение противника. Важнейшим свидетельством отчаянного шага стало обнаружение вещественных доказательств намерения фашисткой Германии применять на полях сражений химическое оружие. В раскрытии этого обстоятельства лучше прочих справились бойцы группы «Храбрецы».
Нельзя установить, насколько тяжело складывались жизненные условия партизан. Согласно приведённого текста особых бед они не знали. Противник лишь передвигался по территории, никак не проявляя себя для искоренения партизанской угрозы, изредка устраивая засады. Нехватка вооружения почти никак не отмечена. Партизаны не голодали, всегда чисто одевались и мылись в бане. Если они гибли, то по собственной глупости, не соизволив провести разведку.
Диверсия следует за диверсией. На страницах книги Киселёва немецкие поезда пускаются под откос в огромном количестве. В одну из ночей в ходе общей операции «Рельсовая война», в которой приняла участие и группа Рабцевича, было взорвано сорок две тысячи рельсов. Масштаб партизанской деятельности поражает воображение. При таком обилии событий необходимо говорить уже об открытой войне, отчего-то игнорируемой противником.
Находилось место для мирной жизни, сельскохозяйственной деятельности, шуткам, свадьбам и всему остальному, казалось бы не должному происходить в столь напряжённый исторический момент. Киселёв легко отказался от представлений о героизме, как о проявлении отчаянности. Заложить мину считалось необходимым, но и подвиг снабженца ценился выше успешных диверсий, так как поддерживать в бойцах дух, такое же важное занятие, как ослабление противника.
Важную роль в успехе группы сыграл её командир. Рабцевич старался найти общий язык с подчинёнными ему людьми, устраняя проявление противоречий. Он убеждал в необходимости делать определённую работу, не позволяя горячим головам идти на неоправданный риск. Только зная ситуацию заранее, можно провести диверсию. Лишь сытый и готовый на свершение человек не оступится в последнее мгновение и дождётся необходимого момента.
Киселёв стремился показать способного на невозможное человека. Каждый добивался поставленных целей, осознавая сопутствующий риск. Как бы не сложились судьбы партизан после, во время войны они жили отличной от привычного им образа жизнью. Действовать приходилось в том числе и мирному населению, помогавшему партизанам в их деятельности, как продовольствием, так и находя в рядах противника сомневающихся, готовых отказаться от фашизма и влиться в отряды сопротивления.
Без лишней пропаганды, просто превознося подвиги людей, Владимир Киселёв и написал книгу «За гранью возможного».
14.10.2017 (http://trounin.ru/kiselyov85)
Александр Куприн «Штабс-капитан Рыбников» (1906)
Армия Российской Империи к войне с Японией поддалась окончательному разложению. Если ранее Куприн мог хранить в воспоминаниях эпизоды сомнительной полезности о военной службе, то к 1906 году все благие представления у него выветрились. Учитывая, что Александр более не служил сам, но наблюдал за происходящим в стране, он мог сделать печальные выводы, видя расхлябанность солдат, сидящих по кабакам и публичным домам. И не просто о солдатах, а о дезертирах, покидавших расположение войск, возвращаясь домой или начиная прожигать и без того загубленную жизнь.
Свои представления Куприн выразил в виде произведения «Штабс-капитан Рыбников», главный герой которого исчез из армии после Цусимского сражения. Теперь он всем представляется в качестве раненного под Мукденом. Характера он вспыльчивого и не всегда придерживается единой модели поведения. Сперва показываемый нуждающимся в помощи солдатом, в течение времени преображается в агрессивного человека, продолжающего отличаться лабильностью психики.
Кем же был Рыбников? Куприн окутал его жизнь тайной. Можно даже считать, что в действительности он никогда не служил, либо он является японским шпионом или на самом деле имеет чин штабс-капитана. Почему бы не считать Рыбникова аферистом, выставляющим себя за того, кем он не является? Такое предположение останется домыслом, поскольку Куприн не был однозначным в суждениях.
Своё значение оказывает подозрительность общества, пережившего излишне много потрясений, чтобы верить кому-то на слово. Особенно видя, как перед ним выступает человек, явно не относящийся к армейской среде. Излишне странным им казался Рыбников, не совсем настоящим. Поэтому и появилась у Куприна идея его ояпонить.
Желается думать, что именно из этого произведения берёт начало «Яма». Когда Рыбников появится в публичном доме, он станет вести беседы с работницей данного заведения. Девушка окажется в меру порядочной, хоть и без сожалений о доставшейся ей доле. Сообразно сложившейся судьбе она пребывает в публичном доме и занимается хотя бы таким ремеслом, позволяющим ей существовать. Сам Рыбников мало отличается от подобного же рода рассуждений, идя по пагубному пути, если не охарактеризовать его сильнее – поганому.
Оставим сомнения в стороне, пусть Рыбников будет настоящим штабс-капитаном, дезертировавшим из армии. Теперь ему ничего другого не осталось, как прожигать жизнь. Его падение должно было начаться задолго до военной службы, а может он и не падал – являясь таким по складу характера. Говоря точнее, он являлся продуктом общества, воспитанным сообразно времени и воплощавшем общее вырождение, грозившее России крахом.
Об этом легко судить, видя последствия царской политики. Куприн о том лишь мог предполагать, как то делали многие. Для такой оценки произведения «Штабс-капитан Рыбников» явно недостаточно. Слишком оно противоречиво по содержанию, не позволяя выразить твёрдых убеждений касательно происходящих в сюжете событий.
Куприн продолжал создавать наполненные угнетением произведения. Неоткуда было взяться светлым моментам в обозначившейся проблемами жизни. Не получалось оторваться от действительности, уходя в мечты и извлекая с помощью фантазии надежду на благополучие в будущем. Воображение порождало рыбниковых, как за год до того в «Поединке», так и год спустя в «Гамбринусе», где им отводилась второстепенная роль губителей человеческого счастья.
Вроде бы и не имелось рыбниковых, но они всё-таки находились постоянно. В тех же кабаках и публичных домах. Люди искали отдых от излишней суетливой повседневности, придумывая для того оправдания различной степени адекватности. Каждый скрывал истину, прикрываясь чужой личиной. Будучи некогда солдатом проигравшей войну страны, проще вызвать у соотечественников жалость, а вместе с ней и найти средства на продолжение существования.
15.10.2017 (http://trounin.ru/kuprin06)
Александр Куприн – Рассказы 1906
Пока Россия готовилась пожать неизбежное, люди начали устремляться мыслями в будущее. Иногда излишне далёкое. Например, Куприн обратил взор на XXIX век. Передовым государством будет признана Германия, способная осуществлять проекты на благо всего человечества, главнейшим из которых, надо понимать, станет коммунизм, а за ним счастье каждого живущего на Земле. К тому времени иссякнут запасы угля, что повлияет на разработку новых технологий, позволяющих дать людям осознание величия ими достигнутого развития. Посему допускается поднять «Тост» за жизнь в прекрасное время и за память о бурных событиях веков прошлых, в которых хотелось бы безусловно пожить, так как теперь общество не испытывает глобальных потрясений, отчего от такого спокойствия стало скучно.
Человек стремится быть гуманным. Он постоянно себе желает счастья, а также согласен видеть остальных довольными жизнью. Но если он сам счастлив, а другой страдает, тогда ситуация иная – мучения нужно срочно прекратить. Допустим самый радикальный способ: убийство. Сейчас не о человеке речь, а о животном. Читатель согласится – гуманность должна торжествовать. Но если человеку стремятся сохранить жизнь, обрекая его на продолжение мучений, то больное животное предпочитают усыпить или иным способом оборвать его жизнь. Безусловно, странный получается гуманизм. Куприн думал об этом, создавая рассказ «Убийца».
Главный герой повествования, он же рассказчик, увидел раненую кошку и твёрдо уверился сжалиться над животным, его убив. Не имея в таком деле опыта, он станет причинять кошке ещё больше мучений, не обращая внимания на возражения, что зверь рану залижет и на том страдания закончатся. Читатель заранее знает, кошка будет сопротивляться. Она, в отличие от человека, не предаётся отчаянию и стремится жить до последнего. Человек этого не может уразуметь.
Жизнь сложна для понимания. И люди думают, будто их мнение имеет определяющее значение. Получается разброс мнений, приводящих к фатальным последствиям. В конце концов оказывается, мирный настрой одних становится причиной их гибели из-за мировоззрения других. Человек и сам порой решает наложить на себя руки, чем, опять же, вызывает нарекания в свой адрес. Приходится согласиться, человек – страннейшее из существ, мыслящее всегда во вред себе же.
Продолжая об этом думать, Куприн написал рассказ «Река жизни». Отчаянный шулер когда-нибудь придёт к мысли о необходимости прекратить обманывать людей, устав вводить в заблуждение ему доверяющих. Хорошо, если просто прекратит, не задумав облегчить душевные страдания самоубийством. Как не думай о былом, излишне соотноситься с окружающим не следует. Зачем накручивать мысли и заявлять миру о присущем тебе эгоизме, тогда как допустимо совершать истинной важности дела, никому не навязывая мнения.
Человеческая мнительность всегда доводит до беды. Ежели смеются за спиной, значит – ты являешься объектом шуток. Если кто плюнул сзади, скорее всего как раз тебе на спину. Так думает большинство людей: никак этого не исправить. Иногда случается и так, что смеются именно над тобой и плюют тоже в тебя. Как тогда быть, если ты отчасти этого заслуживаешь, но всё-таки не достоин возводимой хулы? Куприн представил подобную историю, показав «Обиду» воров на очернение их деятельности в прессе. Занимательная версия возможного дальнейшего развития смотрится странно. Впрочем, всему должно быть место, дабы природа не терпела пустоты.
Однако, совершая преступления, надо ожидать возмущение общества. А вместе с этим и всего остального, в том числе и незаслуженной напраслины. Подумав об этом, Куприн решил дать надежду на прощение одному преступнику в рассказе «Демир-Кая», позволив ему жить безбедно с условием угождать всякому путнику, идущему мимо. Имея такое определение для прощения, бывший преступник начнёт проявлять излишнее стремление быть угодным, вплоть до унижения. Парадоксальность ситуации в том, что отказывающиеся от доброго к ним отношения пробуждали в нём давно утихшую ярость. Оказалось, умиротворение убийцы достигается за счёт убийства человека, собирающегося совершить подобное же действие.
Заметно, как 1906 год влиял на творчество Куприна, Александр не уставал говорить о страданиях нынешнего дня, опираясь на ожидание счастливого будущего. Мысль о разности человеческих представлений о должном быть не оставляла его. Показать это он смог в рассказе «Искусство». Немного иначе дал представление о «Счастье», поведав сказку о красавице и сосуде с ядом. Написал «Легенду». И успокоил мысли за счёт очерка «На глухарей».
Завершился год пересказом истории «Как я был актёром». Зачем это понадобилось Куприну? Может быть для того, чтобы после вдохновить на «Театральный роман» Михаила Булгакова.
15.10.2017 (http://trounin.ru/kuprin1906)