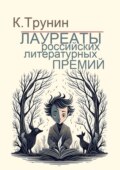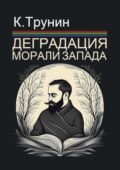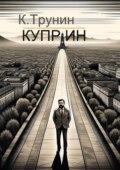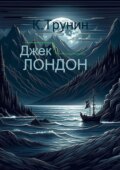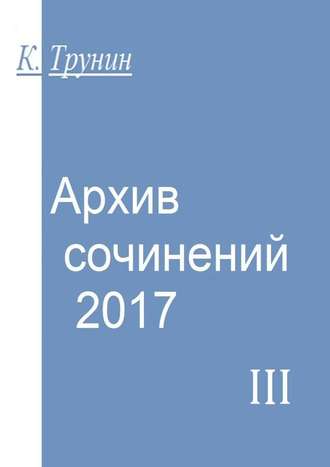
Константин Трунин
Архив сочинений – 2017. Часть III
Эмиль Золя «Снег», «Вдовы», «Жертва рекламы» (1860)
Жизнь гадка! Об этом следует писать. Пусть кровоточат зажившие раны и покрываются гноем. Никакой жалости, ибо зачем? Ещё не открыто понимание импрессионизма, но деятели от изобразительного искусства и литературы, к коим следует причислять и Эмиля Золя, создавали новое понимание происходившего во второй половине XIX века. Требовалось отказаться от демонстрации наглядно видимого, так как за чёткостью представления скрывалась истинная сторона действительности. Лучше заменить точность, дополнив отображение широкими мазками, заставляющими задуматься, что скрывается под их толщей.
Молодой Золя, ему двадцать лет, он думает о будущем, никак себе его не представляя. Кем станет Эмиль? Неужели большим писателем и влиятельным человеком, способным громогласно обращаться к современникам, чью могилу после смерти перенесут в Пантеон? О том не стоит думать. Слава пройдёт и падут усыпальницы, в зависимости от надобности некоего текущего момента. Важно происходящее сейчас, так плохо доступное пониманию потом. Тем не менее, частично согласившись с мировоззрением Золя, следует начать изучение его творчества.
Наследие Эмиля огромно. Полностью оно доступно только знающим французский язык, остальным приходится собирать тексты по крупицам. Благо имеется несколько собраний сочинений, удобных для ознакомления. Не станем перераспределять внимание, поскольку интерес представляет непосредственно автор, начинавший путь в литературу с рассказов.
Сразу обратим внимание на рассказы «Снег» и «Вдовы». Они отражают устремления Золя на весь дальнейший период творчества. Основное наблюдение – всё неизменно становится хуже. Но и раньше всё было плохо. Видел бы Золя Париж начала XXI века, дабы без пользы не кручиниться. Почему Эмиль не мог заметить обогащение человека событиями и нововведениями, несущими более радости, нежели грусти? Не знал Золя и о впечатлениях русских путешественников, знававших Париж XVIII века, забывавших обо всём, стоило вдохнуть запах текущих по городским улицам помоев.
Человек обречён сравнивать одно с другим. Золя переполнялся ожиданиями лучшего, поэтому с отвращением смотрел на обыденность. Если снег сам собой обозначает путь от светлого, лёгкого и несущего свежесть к почерневшему комку, пачкающему руки, то осознавать быт вдов гораздо тяжелее. Женщинам нечего есть и у них единственная возможность заработать деньги – продавать тело. Их положение усугубляется незнанием судьбы мужей, не обязательно погибших на войне. В любой момент мужья вернутся, принеся сытость в оскудевший дом, но пока они отсутствуют – следует относиться к ним как к погибшим.
Если не использовать аллегорий и говорить прямо, тогда придётся обратиться к рассказу «Жертва рекламы», актуальному со дня написания и до заката человеческой цивилизации. Пусть Золя излишне серьёзно подошёл к рассмотрению ситуации, написав сатиру, он оказался прав. Показываемое на страницах даёт понимание о положении успешных людей наоборот, создавая представление о конечных потребителях. Всем нам желается заполучить нечто полезное, в отдалённой перспективе являющееся бесполезным.
Для человека важной является лишь эта секунда. Она обеспечивается за счёт выполнения кажущейся необходимости. Через секунду потребность устаревает, заменяясь новой. Что тогда делать с грузом накопленного прежде? И тут разговор не о вещах, продуктах и прочем: аналогично человек поступает со всем, с чем ему приходится сталкиваться… вот в эту самую секунду.
Кажется, Золя понимает о чём говорит, несмотря на молодой возраст. Он критически оценивает с ним происходящее, считая нужным делиться с людьми результатами размышлений. Видя человечество на коленях, Эмиль как бы вспоминает, что некогда оно стояло на ногах, а завтра упадёт и никогда не сможет подняться. В его словах имеется истина, ежели читатель готов принять её именно с таким мрачным оттенком.
06.10.2017 (http://trounin.ru/zola60)
Эмиль Золя «Осада мельницы», «Три войны» (1874)
Не воевать человек не может. Всякий когда-нибудь берёт в руки оружие, если появляется к тому необходимость. Но почему необходимость вообще возникает? Разве нельзя мирно разрешить затруднения? К сожалению, нельзя. Но ведь можно, если приложить усилие! Только для этого придётся погибнуть во имя личных убеждений, пав от рук воинственно настроенных. Значит, провозгласить отказ от человеческой агрессии возможно, принимая факт вынужденного соглашения с трагической развязкой. Литературные персонажи тоже умирают с чувством выполненного долга – они справились с собой, а мир справился с ними.
Война вдохновляла Золя, как всё прочее – вызывающее негодование. И поскольку Франция на протяжении XIX века без устали воевала, Эмиль видел испытываемые людьми страдания. В качестве примера он решил рассказать историю молодого бельгийца, для которого нет правых участников боевых действий: внутренние дела французов и их противостояние внешнему миру никак его не затрагивало. Но обстоятельства сложились таким образом, что ему придётся воевать, чтобы защитить дом и семью.
Как об этом рассказать? Золя решил излишне драматизировать события. На героев практически рухнет небо, забрав надежду на будущее. О чём мечталось, то подвергнется забвению. Это к вопросу о смысле человеческой жизни. Получается, смысла нет. Требуется прожить определённое время и умереть. Не имеет значения, оставит ли человек потомство. Зачем плодить новых убийц или жертв во имя исполнения задуманного природой механизма? Особенно тяжело воспринимать, когда гибнут люди, не подготовившие себе замену.
Сторонние мысли возникают не из желания задуматься о жестокостях мира. Золя предваряет последствия катастрофического поражения под Седаном. «Осада мельницы» – не воплощение ждущего падения Парижа. Человек защищал дом от врага, пришедшего из-за деятельности политиков, не сумевших организовать сопротивление, вследствие чего силы Пруссии вторглись внутрь страны. Не один дом они разрушили, пока не дошли до защищаемой бельгийцем мельницы. Осталось сдаться или оказать сопротивление. Выбор был сделан заранее. И именно героям произведения погибать за интересы других, хотя война не имела к ним отношения.
Человек умеет найти применение знаниям. Была бы необходимость в их применении! Всё снова идёт к войне. Навыки охотника пригодятся для быстрого убийства солдат вражеской армии, способность ориентироваться на местности – поможет договориться обойтись без очередного кровопролития. Да нет ничего простого, так как его жена француженка. Согласишься – останешься без любимой. Откажешься – будешь расстрелян. Войне безразлично, если никто не желает воевать.
Двенадцать пуль завершат дело. И Золя закончит рассказывать историю осады мельницы. Без тонкой игры на струнах человеческих душ, но со втоптанным в прах разорванным читательским сердцем.
На схожую тематику в том же году Эмиль написал «Три войны». Менее драматическое полотно судеб, отражающее настроение людей, не до конца понимающих смысл человеческой вражды, являющейся будто бы всего лишь игрой. Ведь увлекательно следить из средств массовой информации за передвижениями войск, устраивать словесные диванные баталии, определяя правых и виноватых, давая собственное неопровержимое объяснение происходящему. Оказывается, это так просто – знать нюансы конфликта. И не имеет значения сколько сторон в нём участвует. Каждый является воюющей стороной, покуда он позволяет допускать саму мысль о допустимости противостояния, тогда как на планете не существует двух полностью схожих мнений, тем более, если затронуты интересы множества людей одновременно.
Почему так ярко и волнующе? Всего четыре года прошло с момента битвы при Седане. Впечатления тех дней оказали сильное впечатление на Золя. Допустить повторение? Не надо.
06.10.2017 (http://trounin.ru/zola874)
Эмиль Золя «Наводнение» (1875), «Ракушки господина Шабра» (1876)
Не только война лишает жизнь смысла. Аналогичное проявление по отношению к живущим на планете организмам допускает сама природа. Постоянство в одном – в необходимости разрушать прежнее, давая дорогу новому и редко совместимому с имевшим место быть ранее. Золя предложил читателю представить ситуацию, когда прибывает вода, сперва скрывая землю, после доходя до крыши и полностью поглощая дом. Гибнут животные, потом приходит очередь людей. Практически библейский потоп в миниатюре.
Вода даёт жизнь, она же её отбирает. Люди знают, где нельзя селиться, однако надеются на лучшее. Ежели подтапливало год от года, так тому и бывать. Однажды приходит понимание ошибочности такого мнения. Осознаётся это слишком поздно. Поздно взывать к небесам и искать в Боге спасителя. Природа не остановит ход, уровень воды будет повышаться. Слабые духом утонут, не имея сил ожидать неминуемого трагического исхода. Сильные волей постараются продержаться.
Зачем Золя лишал действующих лиц рассказа «Наводнение» всего ими нажитого, в том числе и самых близких им людей? С погибшим хозяйством они готовы смириться, смирятся и с погибшими животными, даже с уготованной им судьбой согласятся. Вода продолжит прибывать, лишая последних надежд. И в момент утраты всего нажитого становится ощутимой истинная ценность человеческих устремлений.
Не имея ничего, человек стремится к чему-то. Но и имея нечто, человек всё равно продолжает стремиться. Вода обязательно схлынет, словно её не было. Будет больно вспоминать про утраченное. Снова появится чувство враждебности, словно не преподнесла жизнь урок.
Человек не должен меняться, оставаясь в согласии с требованиями природы. Он просто не должен отступать перед затруднениями. Нужно обязательно помнить об ожидающем крахе, каких бы вершин не удалось достичь. Порою случается так, что оказавшись на вершине, находишься на крыше погружающегося в пучину дома.
Иной сюжет Золя представил в рассказе «Ракушки господина Шабра». Семейная пара приехала на курорт, дабы набраться сил для продолжения рода. Это им посоветовал сделать лечащий доктор, заподозривший бесплодие у одного из супругов. Согласно тогдашним представлениям о лечении, паре следовало сменить климат и есть больше моллюсков. Морская диета и прежде оказывала положительное воздействие.
Безусловно, Эмиль решил подшутить над читателем. Эффект поездки на курорт всегда оправдывается, учитывая случающиеся в условиях жаркой погоды тайные встречи с противоположным полом: муж засматривается на загорелых красавиц, а жена – на подтянутых красавцев. Немудрено, если лечение окажется с положительным значением. Самих видов достаточно, чтобы прежде пассивное перешло в статус активного. Морская диета обязана помочь супругам. Они будут премного благодарны доктору, подсказавшему им настолько действенное средство.
Согласно повествовательной линии Золя, нужно смотреть на понимание рассказа шире. Дарованное свыше счастье будет содержать червоточину. Вроде бы достигнуто желаемое, жена наконец-то забеременела, но не всё окажется настолько ладным, как того хотелось. В жизни излишне много скрытых от понимания течений, уловить суть которых никогда не получится. Результат деятельности на самом деле обесценивается, хотя продолжает считаться достигнутым.
Снова читатель приходит к пониманию тщетности сущего. Думается, эта мысль не касалась мыслей самого Эмиля. Анализируя его творчество, иного вывода сделать не получится: настолько повествовательная канва пронизана криком отчаяния. Ежели с войной и стихийным бедствием этому есть наглядное подтверждение, то в случае житейских катастроф очевидное остаётся вне пределов осознания. Вроде бы человек становится счастливым, не подозревая, как ему в очередной раз не повезло.
07.10.2017 (http://trounin.ru/zola1875)
Эмиль Золя «Как люди женятся», «Типы французского духовенства» (1876)
Читатель редко задумывается, чем и как живёт писатель, творчеством которого он интересуется. Но почему это должно его волновать? Важно непосредственно литературное произведение, тогда как написавший его человек всегда остаётся в стороне. Конечно, параллели будут проводиться, но далее понимания труда дело не пойдёт. В отношении Золя для русскоязычного читателя имеется поправка, ему практически неизвестная. Она заключается в том, что Золя часто оказывался на мели, и спасала его русская периодика, печатавшая невостребованные в родной стране Эмиля произведения. Нет нужды разбираться, какие из них появились сперва вне Франции, так как это лишь любопытная деталь, особого внимания не требующая.
Опять же, в России на протяжении двух веков активно интересовались всем французским. Не утратило это значения и ко времени творчества Золя. Не секрет, что Париж – это особый город в пределах европейской цивилизации, определяющий развитие мировоззрения людей Запада. Начинающееся во Франции переходит на соседние страны, после распространяясь по миру. Таковая особенность должна пугать, но и требует пристального внимания, дабы не допустить фатальных перемен.
Собственно, Золя если о чём и предупреждал, то скорее о деградации нравов, должных погибнуть во Франции: им нисколько не следовало быть вне её. Таково частное мнение, достойное оказаться оспоренным. Так или иначе, нравы французов мало отличались и отличаются от прочих европейских, скорее опережая их за счёт любви к уважению человеческого стремления добиваться лучшего из возможного, либо невозможного.
В 1876 году Эмиль написал два очерка, сходных по смысловому содержанию: «Как люди женятся» и «Типы французского духовенства». В форме беллетристического рассказа, Золя кратко изложил ряд историй, якобы раскрывающих основные возможные варианты. Например, разбирая браки, Эмиль предложил самые простые, где сходятся люди одинакового социального положения: дворянин женится на дворянке, а буржуа, ремесленник и рабочий соответственно на людях своего круга. Каждый из них живёт разной жизнью, неизменно заканчивающейся гробовой доской.
Согласно изложению Золя, человеку отведена определённая модель поведения. Из обозначенных первоначальных условий выбраться нельзя, поэтому рабочему нет смысла рассчитывать на брак с дворянкой, а ремесленнику нечего делать с женщиной-буржуа. Это усреднённое понимание, однако имеющее отношение к большинству случающихся в действительности браков. Получается, Эмиль разделил общество на части, не подразумевая возможности их слияния. Либо формат очерка не подразумевал более нужного, чтобы не волновать и без того тяжёлое положение омрачавшей XIX век угрозы тотального взрыва низов против верхов. Впрочем, во Франции низы не раз сметали преграды.
Французское духовенство удостоилось от Золя аналогичной порции нелестных слов. Только читателю то будет без надобности, поскольку и без того ныне известно, как Эмиль развернётся в последнее десятилетие своей жизни, частично его посвятив написанию антиклирикальной трилогии «Три города», затронув данную тему и в произведении из цикла «Четвероевангелие», ставшее последней крупной работой Золя, опубликованной посмертно.
Не станем стараться увидеть нечто ещё сокрытое, ибо Золя стоял на позициях натурализма, требуя от писателей максимальной прозрачности излагаемых сюжетов. Если Эмилю хватило немногих слов для выражения позиции, значит не стоит додумать сверх тут сказанного, поскольку всё равно пришлось домысливать. Оправдание этому имеется: в отличие от современников потомки оценивают труд писателей прошлого в разрезе происходивших до, во время и после событий, имевших непосредственное влияние на или вытекавших напрямую из.
Много воды утекло, как изменились порядки среди людей. Не так сейчас женятся люди, а вот духовенство возможно и осталось прежним.
07.10.2017 (http://trounin.ru/zola1876)
Эмиль Золя «В полях» (1878), «Праздник в Коквилле» (1879)
Золя подметил особенность – раньше человека не интересовала природа. Никто не обращал внимания на зелень и течение реки, поскольку не видел в том существенной надобности. Однажды, с подачи Руссо, всё изменилось. Если прежде горожанин не имел представления о жизни за городскими стенами, то теперь его потянуло проводить свободное время вне давящих узостью улиц и спёртого запаха испарений от продуктов человеческой жизнедеятельности.
Почему, замечает Эмиль, Лафонтен писал о животных, но только тем и ограничивался? Разве мог знаменитый баснописец обойти вниманием столь уникальное явление, причём распространённое повсеместно и в гораздо больших количествах? Получается, Лафонтен не видел в том надобности. Попробуй теперь посмотреть на лес и водоёмы взглядом прежних эпох, как ощутишь скорее боязнь перед силами природы, либо вообще не придашь значения шелесту листьев и журчанию воды.
Может человек научился использовать силы природы на удовлетворение своих потребностей? Золя говорил не об этом. Не наступил ещё момент, когда люди задумаются о варварской вырубке леса и прочем, отчего будет стремительно изменяться ландшафт, заставляя человека отдаляться в менее испорченные его присутствием места.
Золя видит лишь стремление людей проводить время в полях, лесах и на водоёмах. Он в восторге, чем и спешит поделиться с читателем. Вдруг кому-то неведомо чувство прекрасного, продолжающего оставаться скрытым от внимания из-за сидения в четырёх стенах.
Впрочем, всякому человека требуется потребная ему одному радость. Ему может и не нравиться природа, когда ближе к сердцу нечто другое, вроде пристрастия к алкоголю. Тогда уже и не важно, как шумит ветер и капает дождь, покуда мысль касается удовлетворения низменных потребностей, обрекающих человека жить внутренне ярко и внешне серо.
Допустим, имеется деревня Коквилль, её населяет шантрапа, предпочитающая жить без лишних раздумий. Зарабатывают жители с помощью грабежа и других преступных способов получения денежных средств. Теперь представим, что рядом с этим поселение затонуло судно. И вот теперь ежедневно к берегу прибивает бочки с алкоголем, причём всегда с разным. Кто удержится от такого дара? Вот и причислил каждый житель деревни себя к гурманам, стремясь определиться с наиболее ему нравящимся напитком.
Не эксперимент ли это? Может некто проводит опыт над населением Коквилля? С чего бы такое счастье? Золя не думал далее явного. Подобная история могла произойти на самом деле. Осталось домыслить детали. Вроде предположения, что обилие разнообразного алкоголя губит вкус, что будет без разницы, что именно пить, так как нужно только пить, и только пить.
Напившись, человек перестаёт различать, где он находится. Он скорее окажется связан мёртвым сном, забыв об его окружающем. Какая тогда ему может быть разница, какими являются деревья и отчего их созерцание должно даровать радость. Хоть и нет существенной разницы между людьми, всё-таки имеется определяющее сходство – искать способ забыться. И тут как раз и возникают различия: одни отдыхают на природе, другие – тонут в вине, третьи – с упоением наполняют страницы текстом.
Любое мнение остаётся личным мнением его высказывающего. Золя не придерживался чёткой позиции, постоянно высказывая противоречивые суждения. Ему хотелось одного, но сам он поступал иначе. Пока это не так ясно, как окажется в будущем. Золя продолжал бедствовать, страдая от желания выражать явную позицию по беспокоящим его изменениям в общественной жизни.
Посему всем на природу, захватив съестных припасов. Прежде праздник, грусти предаваться предлагается после.
07.10.2017 (http://trounin.ru/zola1878)
Эмиль Золя «Госпожа Нежон» (1879), «Госпожа Сурдис» (1880)
Любовь мешает. Она туманит мозг и не позволяет размышлять. Но именно в любви человек находит отдых от суетности мира, теряя тем самым последние остатки здравого смысла. Внутренне он может понимать, что поступает против себя, ничего не умея сделать с этим. Таким положением могут воспользоваться в корыстных целях. И пользуются! Рассказы Золя «Госпожа Нежон» и «Госпожа Сурдис» тому в подтверждение.
Молодой человек приезжает в Париж, незнакомый ему город. Он сын влиятельного родителя, однако не познавший в должной степени разврата. Едва ли не ангел, честный по натуре и готовый помогать другим. Каково ему будет войти в свет, где друг способен предложить жену для удовлетворения интимного любопытства? Разумеется, не из лучших побуждений, а преследуя определённые цели. Мир не переломится от одной ночи, зато устроится жизнь на долгие годы вперёд. Реальность многограннее фантазий, поэтому добро никогда не оборачивается его творящему той же стороной, выбирая любую другую незадействованную ранее грань. Лишь по данной причине всё приводит к печальному завершению.
Либо другой молодой человек оказывается введённым в мир богемы. Он – бедный художник, имеющий некоторого рода талант рисовать нечто вроде принимаемого за продукт изобразительного искусства. Самому не заявить о себе, не умея привлечь ценителей прекрасного, а то и просто ценителей должного считаться прекрасным, так как за это следует отдать крупную сумму, пускай и редко когда оправдано. Тогда он добивается любви богатой дамы, становясь её смыслом жизни, брендом в её помыслах, должном возвеличить фамилию до статуса повсеместно узнаваемой.
Итог всего этого известен. Человек меняется, более не представляя из себя прежнего. Невинность рассыпается, стоит ей столкнуться с настоящей обыденностью. Жестокость внешней среды уничтожает любовь и ставит перед осознанием очевидного. Кто-то смирится, а другой ударится в тяжкие, находя радость на дне стакана. Не будет смысла возвращаться к прежнему состоянию влюблённости, неизменно всегда переходящему в стадию апатии и вынужденной привязанности.
Инициативой завладеют другие люди, знающие истинную цену жизни. Они воспользуются новым положением, поскольку иначе быть не может. Предав интересы друга, допустимо уйти в политику, где процветает привычка предавать интересы других во имя собственного благополучия. А можно продолжить любить, делая всё возможное, чтобы вернуть пропойцу на светлый путь, украшая мир уже не его, а своими картинами, лишь бы имя семьи не оказалось опороченным.
В человеческих ценностях всегда скрыт подвох. Внимания достойны не те люди, к котором оно приковано. Кузнецами их благополучия выступают совсем другие творцы, чаще прозябающие в безвестности, тогда как именно они создают подлинно уникальные творения: как в виде примера достойного уважения поведения, так и в качестве талантливого художника.
Госпожа Нежон и Госпожа Сурдис стоят на разных позициях, воплощая своими действиями противоположные качества свойственных им натур. Первая старается ради близкого ей человека, предавая влюблённого в неё. Вторая продолжает ценить некогда влюблённого в неё, слишком уставшего от суеты, чтобы отвечать взаимностью. Но будь у госпожи Сурдис возможность сделать нечто, дабы повернуть время вспять, она не стала бы раздумывать, пойдя по схожему пути с госпожой Нежон, которая в свою очередь предельна счастлива, находя отзывчивость в горящем энтузиазмом муже.
Как видно, всё зависит от вторых половин, чей задор всегда привлекает внимание будущих супругов. Никому не нужны аморфные существа: связь с ними допустима, если их талантами или связями можно воспользоваться лишь для выгоды. Такова жизнь.
08.10.2017 (http://trounin.ru/zola79)