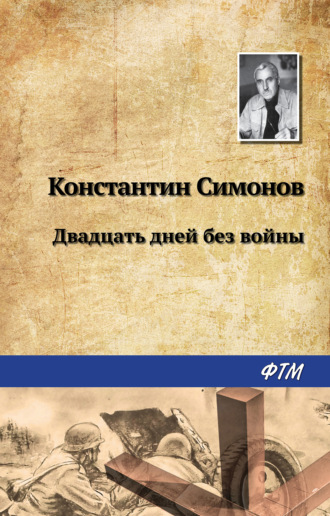
Константин Симонов
Двадцать дней без войны
Ему хотелось скорей уехать. Он боялся, что девочка может не справиться с собой. Так оно и вышло.
Когда Кулаковский уже залез в глубь машины и пришел черед садиться Лопатину, дочь отчаянно повисла у него на шее. Он ждал, что она сама оторвется, но она не отрывалась, и ему пришлось, взяв ее за плечи, оторвать от себя. Несколько раз поцеловав ее мокрое, несчастное лицо, он быстро сел в машину и захлопнул дверцу. Машина вильнула по узкому редакционному двору, и он, повернувшись, уже не увидел дочери.
– Любит тебя! – сказал Кулаковский.
– Что? – не расслышав, занятый своими мыслями, переспросил Лопатин.
– Говорю, любит тебя!
Лопатин ничего не ответил, хотя, вспомнив прожитую жизнь и сравнив то, что он успел сделать для дочери, с тем, чего не успел или не сумел, надо было бы ответить: «Не за что!»
Они с Кулаковским прилетели на Юго-Западный фронт, когда в воздухе уже запахло бедой, и в последнюю ночь перед тем, как замкнулось кольцо харьковского окружения, добрались в две разные армии, действовавшие одна южней, другая северней Харькова. Препирались перед этим – так или наоборот, – кому – в какую.
В результате ты жив-здоров до сих пор, а его нет! Погиб вместе с двумя своими аппаратами – стареньким ФЭДом и новенькой трофейной «лейкой», которой щелкнул перед отъездом во дворе редакции тебя с дочерью.
«Так и не вернулся, не проявил той пленки», – подумал Лопатин, лежа сейчас, через полгода после всего этого, под одеялом и полушубком в отапливаемом, но все равно холодном номере гостиницы «Москва» и читая пришедшее от дочери письмо.
Дочь писала, что у нее все отметки четыре или пять, что она кончила медкружок и через двое суток на третьи ходит дежурить в госпиталь ночной санитаркой.
«Наверное, клюет после этого носом на уроках», – улыбнулся, читая письмо, Лопатин.
Письмо было бы совсем хорошее, если б не приписка, что «тетя Аня не пишет, потому что приболела, лежит, передает тебе привет. Только что ставила ей банки». Значит, и банки научилась там ставить! А сестра больна. Раз лежит – дело серьезное: такие, как она, пока с ног не свалятся, не лягут.
Уже засыпая, он с раздражением подумал о Ксении: есть у девочки мать, здоровая, еще молодая баба, а ребенка пришлось навязать на шею старой больной женщине. И хотя до конца войны ничего другого, чем то, что он сделал, сделать было нельзя, у него все равно оставалось чувство какой-то нелепой вины, словно у девочки могла быть не эта, а другая мать, словно он когда-то давно мог выбрать ей в матери кого-то другого…
Проснувшись, съев выдававшийся в гостинице по талонам на завтрак винегрет и выпив чаю, Лопатин сел отписываться. Писал весь день до вечера и весь следующий, почти не выходя из номера.
Писать было трудно, потому что наступление было трудное. Наступали, ради того чтоб любой ценой приковать к себе стоявших против Москвы немцев, не дать им перебросить резервы на юг, где у них все сыпалось и трещало по швам. И если бы можно было вот так откровенно и написать про это, все сразу стало бы на свое место. Но как раз об этом и нет права писать. Во время войны такая откровенность за гранью дозволенного.
На второй вечер Лопатин позвонил Гурскому. Редактор еще не вернулся с фронта.
Лопатин попросил отсрочки, сказал, что, наверное, перекрестит все написанное и с утра начнет в другом разрезе. Назовет «Вторая зима» и напишет про один полк, в котором был. О том, как в снегу по горло три дня брали превращенную немцами в узел обороны совхозную усадьбу и все же взяли ее!
– Н-насколько я понимаю, – сказал Гурский по телефону, – редактор ожидал, что ты возьмешь п-пошире.
– А у меня пошире не выходит. Выходит как раз поуже! Скажи мне, как, по-твоему, название? И можно ли сдать послезавтра утром?
– Н-название не самое гениальное, а н-насчет «м-можно», то с т-тех п-пор, как редактор п-перевел тебя в писатели, можешь ссылаться на т-творческие т-трудности. В пределах суточного оп-поздания, б-больше все равно не сов-ветую!
Гурский положил трубку, наверное очень довольный собой.
Слова насчет перевода в писатели были его обычным ёрничеством.
В поле зрения, или, точней, притяжения редактора Лопатин попал случайно. Он всегда много ездил и в одну из таких дальних поездок, когда вдруг начались халхин-голские события, оказался рядом с ними и своим будущим редактором – в Чите. А уже через сутки вылез из самолета в Монголии в своем штатском костюмчике, который впервые в жизни предстояло сменить на военную форму.
В финскую войну редактор вспомнил о нем и вытребовал к себе в армейскую газету. А в начале этой войны, уже не спрашивая согласия, призвал как командира запаса и забрал в «Красную звезду».
У редактора не было ни времени, ни охоты читать книги, которые Лопатин писал до их встречи. Главным для него было, что Лопатин работает с ним уже на третьей войне, а писатель или не писатель Лопатин – он не размышлял. Да и, по правде говоря, настоящими писателями считал только тех немногих, кого все знают, о ком услышишь на каждом углу. К ним он и относился как к писателям, старался, чтобы они почаще писали в газету, а если они оказывались на фронте, давал телеграммы своим корреспондентам, чтобы по возможности берегли писателей от пули и отправляли их материалы в Москву раньше собственных.
Лопатин хорошо знал все это и не стремился стать для редактора «писателем».
«А там, после войны, будет видно, кто на что способен, – думал он иногда, перелистывая свои фронтовые тетради, которые вел по возможности регулярно и знал им цену. – Хватило бы духу да не разбиться бы где-нибудь по дороге на самолете! А материала – хватит!»
В этой последней мысли присутствовала доза яду: мол, некоторым другим, кто по-другому, чем ты, ездит, может и не хватить.
А тебе-то хватит!
Перемену в отношении к себе редактора Лопатин заметил после возвращения из Сталинграда. Он высидел там в 62-й армии безотлучно почти два месяца. Переправился через Волгу в конце сентября, а уехал в ноябре, после того, как Юго-Западный и Сталинградский фронты соединились у Калача и взяли немцев в кольцо. Дождался этого там, в Сталинграде, и накануне отъезда передал по военному проводу последний очерк о людях, продержавшихся до конца на своих последних сталинградских «пятачках».
До этого послал из Сталинграда еще четыре очерка – тоже больше о людях, чем о событиях. Потому что, по сути, люди и были тем главным событием, которое произошло в Сталинграде. Событием было то, как они воевали и, несмотря ни на что, выстояли.
За это время у Лопатина два раза возникал соблазн попроситься в Москву, как говорят в таких случаях, «отписаться».
А в сущности, передохнуть от опасности. Но он преодолел себя и высидел. И наверное, оттого, что дольше, чем когда-нибудь, просидел в одном месте, по многу раз встречаясь с одними и теми же людьми, глубже понял их и лучше написал про них – сам это чувствовал.
Очерки перепечатали в «Правде». И передали по радио. Редактор, встретив Лопатина в Москве, поздравил с высокой оценкой его очерков «наверху». Так именно и выразился. И сказал, что приказано издать их отдельной книжкой. И что Алексей Николаевич Толстой, с которым он говорил по телефону, тоже похвалил очерки, назвал их художественными.
Потом вдруг предложил отпуск на месяц.
– Посажу тебя под Москвой, в Архангельском: напишешь нам что-нибудь совсем художественное, чтобы печатать с продолжениями.
Под «совсем художественным» редактор подразумевал что-нибудь с вымыслом, например повесть.
«Совсем художественное» Лопатин писать был не готов и от кабалы такого отпуска скрепя сердце отказался. Вместо этого просто неделю передохнул: до поездки на Западный фронт сидел в редакции и правил чужие материалы.
После своих «художественных» очерков Лопатин стал в глазах редактора писателем. Не таким известным, как те, другие, но все-таки писателем. Над этим и язвил Гурский.
Лопатин провозился над корреспонденцией еще день и утро, но все не мог найти концовки, когда Гурский позвонил ему снова.
– Имей в виду, прибыл с фронта и сп-прашивал п-про тебя. Сказал ему, что раб-ботаешь над словом, обт-тачиваешь художественные детали. Но д-дольше, чем до вечера, обтачивать не советую! Если какие-нибудь заминки с п-пейзажем, в крайнем случае я впишу. Ты же знаешь: я мастер п-пейзажа. К-какой-нибудь там колко п-похрустывающий снежок или обнаженно беззащитные б-березки, – п-пожалуйста, могу б-бесплатно!
3
Лопатин привез корреспонденцию поздно вечером.
Редактор встретил его недовольно:
– Что-то ты завозился не по-газетному.
И сразу стал читать за своей конторкой написанное Лопатиным. Прочел до конца, пошевелил губами, прикидывая, как это влезет в макет номера, и, без колебаний перекрестив красным карандашом полторы страницы, сказал:
– Поставим завтра четырехколонником.
Потом воткнул своим красным карандашом вопрос перед названием «Вторая зима».
– Считаешь, что хорошо назвал?
– Считаю, что хорошо.
– Не соответствует содержанию, – недовольно сказал редактор. – Обобщения-то у тебя не получилось!
– Не получилось, – согласился Лопатин.
– Какая же это «Вторая зима»? – Редактор перечеркнул название «Вторая зима» и поставил вместо него «В одном из полков». – Вот теперь – соответствует. Ожидал от тебя большего. Но в общем, вышел из положения.
Слова «вышел из положения» значили, что редактор и сам понимает трудности, которые стояли перед Лопатиным, но не хочет говорить с ним на эту тему, недоволен чем-то еще, кроме корреспонденции. Чем именно недоволен, выяснилось ровно через минуту, после того как он подписал и отправил материал в типографию.
– Как это понять? – спросил он, порывшись на столе и сунув Лопатину под нос какую-то бумажку. – Сам не мог попросить? Решил на меня нажать? Так имей в виду: эта бумажка для меня пустой звук!
– А я ничего не собираюсь просить, – сказал Лопатин. – И им объяснил, чтоб не писали, – откажешь.
– А ты за меня не решай, откажу или не откажу. Если для дела надо – не откажу. Только зачем в обход?
Он был не на шутку обижен, и Лопатину пришлось объяснить, как было дело с этой бумагой из Комитета кинематографии. После возвращения из Сталинграда ему прислали сценарий киноновеллы, написанный по одному из его сталинградских очерков. В сценарии было много галиматьи. Тот, кто его сделал, не нюхал фронта, и Лопатин не подписался под этим сочинением.
Тогда председатель комитета предложил, что попросит редактора об отпуске: пусть Лопатин съездит на несколько дней в Ташкент и там, на месте, с режиссером исправит в сценарии все, что нужно.
Лопатин отказался, сказал, что он завтра уезжает на фронт, а когда вернется, все, что сможет, поправит в Москве.
– А они все-таки написали. У них горит с этим боевым киносборником. Так что ты зря раскипятился.
– Ты знаешь, как я к тебе отношусь? Только поэтому, – сказал редактор.
В его устах это было извинением – в той предельной форме, на которую он был способен.
– А раз хорошо относишься, не будь подозрительным.
– А ты меня не учи.
– А я старше тебя, вот и учу.
В глазах редактора на секунду мелькнуло что-то, вдруг заставившее Лопатина вспомнить, как в начале их знакомства на Халхин-Голе после какого-то препирательства редактор поставил его по стойке «смирно». Потом, когда они подружились, он отрицал это и говорил, что не помнит такого случая, но такой случай все-таки был. И, вспомнив этот, все-таки бывший с ним, случай, интендант второго ранга Лопатин улыбнулся, глядя на стоявшего перед ним дивизионного комиссара.
– Чего скалишься?
– Радуюсь, что набрался храбрости – нагрубил старшему по званию.
– Скоро новые звания введут, – сказал редактор.
– Хочешь стать генералом? – спросил Лопатин.
– Мало интересуюсь, – сказал редактор.
Этому, положим, Лопатин не поверил! Генералом стать редактор хотел.
– А за тебя действительно буду рад, когда присвоят тебе майора вместо интенданта. Интендант – как-то глупо для корреспондента, – сказал редактор.
Спорить не приходилось.
– Как дела там, где ты был? – спросил Лопатин.
– Дела хорошие, – сказал редактор. – Танковую группу Гота не только остановили, но и наполовину перемололи. А то, что от нее осталось, еще день-два – и погоним обратно! Выпить по сто грамм не хочешь?
Такое можно было услышать от него раз в год по обещанию.
– Я-то всегда готов, – сказал Лопатин.
– Пойдем. – Редактор быстро, словно боясь по дороге передумать, пошел впереди Лопатина в другой конец кабинета и открыл дверь в закут, где он наспех два раза в день принимал пищу и спал свои четыре часа в сутки. Пустой чай он пил прямо в кабинете с утра до ночи.
Войдя в закут, редактор сел на койку, потянулся к шкафу, достал оттуда водку, начатую банку с пастеризованными огурцами, два стакана и одну вилку.
– Открой, – скомандовал он Лопатину, сунув ему в руки бутылку.
– Вижу, дело нешуточное, – кивнул Лопатин на огурцы. Он знал, что эти пастеризованные огурчики были единственной гастрономической прихотью равнодушного к еде редактора. – Неплохо б еще и хлеба, если он есть, конечно.
– Забыл, – виновато сказал редактор и вытащил из шкафа тарелку с несколькими кусками хлеба и маслом.
Лопатин подождал, не достанет ли он нож, но о ноже редактор забыл. Вынув из кармана складной ножик, Лопатин намазал толстым слоем масла кусок хлеба и кивнул на бутылку:
– Разрешите приступить?
– По половине, – сказал редактор. – Вдруг вспомнил, что у меня день рождения. Тридцать девять.
– От жены телеграмму получил? – спросил Лопатин.
– Получил.
– Когда?
– Утром, как прилетел.
– Чего ж ты мне темнишь, что вдруг вспомнил? – рассмеялся Лопатин. – Не хотел со мной выпивать, пока не убедился, что я за твоей спиной отпусков не выбиваю? Эх, ты!
– И от Сергея получил. – Редактор застенчиво улыбнулся.
У него иногда появлялась на лице эта, мало кому знакомая в редакции, застенчивая улыбка, когда дело шло о чем-то личном: о жене, о сыне или о нем самом.
– Что он пишет?
– Дал понять, что пока еще не воюют, стоят во втором эшелоне… Больно уж рано я женился – в девятнадцать лет. Если б как другие… – редактор не договорил, замолчал.
– А ты любишь спешить. И когда надо, и когда не надо, – усмехнулся Лопатин, угадавший недосказанное: если б женился, как другие, лет в двадцать пять, сын был бы еще в школе, а не на фронте.
Он взял бутылку и налил редактору полстакана, а себе доверху.
– Раз позвал на день рождения, с меня взятки гладки. Тем более что материал в наборе. Будь здоров, Матвей! Я тебя люблю, хотя, пока ты мое начальство, мне трудно тебе это доказать.
– Снимут – докажешь, – сказал редактор и, отпив немножко, с сомнением поглядел на стоявший перед Лопатиным пустой стакан. – По-моему, ты раньше меньше водки пил.
– За время войны здоровей стал, – выпив водки, Лопатин один за другим подцепил несколько огурцов и заел хлебом с маслом. – Нет, в самом деле, даже удивляюсь себе. Раньше, после Халхин-Гола, и простуживался, и печенка болела, а за эти полтора года – ничего. Некогда, что ли, при таком начальстве, как ты?
– Вот так хлопнешь стакан – и ничего, на работе не отражается? – спросил редактор с удивлением непьющего человека.
– Не отражается, – сказал Лопатин. – Даже когда два, если, конечно, закусываю. – Он намазал маслом еще кусок хлеба.
– А у меня от полстакана в голове шумит, хотя моложе тебя на шесть лет.
– Даже на семь, – поправил Лопатин. И подумал о том, о чем редко думал за эти полтора года войны, – что он старше не только редактора, а почти всех, кто работал у них в газете. – Я, Матвей, хотя и немолодой, но жилистый, принадлежу к той здоровой части гнилой русской интеллигенции, которую и двумя стаканами водки с ног не собьешь.
– Не подговаривайся, все равно больше не дам.
Редактор чуть было не потянулся к водке – убрать со стола, но в последний момент удержался.
– Ладно, пойду, – Лопатин встал. – У тебя уже, чувствую, шило в стуле.
– Да, надо еще две полосы читать. – Редактор тоже поднялся, но на лице его изобразилось колебание.
– Пойду, – повторил Лопатин.
– Погоди. Если у них там действительно горит с этим киносборником, могу тебя отпустить в Ташкент дней на пять. Только не так, как они просят – туда и обратно, а чтоб вышло – по дороге на фронт. Полетишь или поедешь до Ташкента, там пять дней на все твои дела, а оттуда через Ашхабад – Красноводск на Кавказский фронт. Даже если поездом, думаю, все равно успеешь, пока у них что-нибудь большое начнется. Возможно, попадешь там, на Кавказе, к своему Ефимову!
Ефимов после обороны Одессы и Севастополя командовал армией на Северном Кавказе. Редактор одобрял, когда корреспонденты по второму разу ездили к тем, у кого уже были; считал, что это помогает замечать происшедшие перемены.
– Но если ехать – завтра же!
– А если не через Ташкент? – спросил Лопатин.
– Путь все равно кружный, – сказал редактор. – Через Гурьев – Баку. Другого, короче, пока нет. Если даю тебе пять дней на Ташкент, значит, вправе их дать. Поезжай! А то в самом деле опасно! Очерк был у нас в «Звезде», все в нем правильно, а они нагородят там по нему какую-нибудь киноахинею! Потом расхлебывай! В Ташкенте тебя встретит наш корреспондент по Туркестанскому округу, обеспечит пребывание и дальнейший путь.
Так Лопатин отбыл в эту командировку. Посреди дороги предвиделся отпуск, но конечный адрес был тот же, что и всегда: «Действующая армия»…
4
Вагон был мягкий, но такой старый, что казалось, вот-вот рассыплется. Было тряско и холодно – садило изо всех щелей, но Лопатин все равно почти напролет проспал первые трое суток.
За Оренбургом потянулись ледяные степи, станций было мало.
Стояли подолгу и на станциях и на разъездах, пропуская составы с нефтяными цистернами. Кроме них, ничего почти и не шло навстречу оттуда, из Средней Азии. Составы были длинные, но шли быстро. Гнали по зеленой улице к фронту бакинскую нефть. Через Каспийское море, Красноводск, Ташкент.
В сводках Информбюро говорилось о нашем наступлении, продолжавшемся в Сальских степях и на Дону, и эти заполнявшие всю дорогу, гремевшие навстречу эшелоны с нефтью сильней всяких сводок напоминали Лопатину о фронте, от которого он пока что все удалялся и удалялся. И было как-то не по себе, что едешь не в ту сторону, соблазнившись этим неожиданным отпуском от войны.
Лежа у себя на верхней полке, он вспоминал, где и сколько был с начала войны. Вышло, что ездил на фронт девятнадцать раз, а в Москве из полутора лет пробыл меньше трех месяцев. Подсчитывал в самооправдание; конечно, должность военного корреспондента не самая трудная на войне; другие люди как начали войну, так и воюют до сих пор там, где пришлось, не ездя ни в какую Москву. Но верно и другое: и в самой Москве, и дальше нее, в тылу, много военных людей, с такими же шпалами на петлицах, как у тебя, все еще служат вдали от фронта; когда пошлют, тогда и поедут. Каждому свое. Дали отпуск, и пользуйся им.
Перед тем как лечь спать, он вышел в коридор покурить. Стоял у окна и посматривал на женщину, которая стояла у соседнего окна и тоже курила.
Женщина была молодая и красивая, и он вспомнил о Ксении, которая теперь в Ташкенте. Встречаться с ней он не собирался, но мог и встретиться: киностудия, театр, а можно и просто так где-то столкнуться…
«Ну и увидимся, что ж из того? Для меня это теперь ничего не значит. Не должно значить», – подумал он и снова посмотрел на молодую и красивую женщину у соседнего окна. Кто знает, куда и почему она едет. Может, от мужа, может, к мужу. И не помнит сейчас о себе – что красивая, думает о чем-то совсем другом, и кажется невеселом…
А действительно красивая! Он оглядел ее с головы до ног.
Хорошо бы встретить в других обстоятельствах такую, как эта.
Для него, конечно. Для нее навряд ли он в свои годы и со своей внешностью мог представлять какую-нибудь ценность.
Она тоже несколько раз полуоборачивалась и смотрела на него.
Смотреть было не на что. Может, обратила внимание на орден Красного Знамени и две нашивки за легкие ранения…
Он не любил свою неказистую, как он сам считал, внешность, И когда-то, в первые годы жизни с Ксенией, даже испытывал глупую, как ему теперь казалось, благодарность к ней за то, что она, такая красивая, вышла замуж за него, такого некрасивого.
Но все равно ему было приятно, что его снова и снова тянет сейчас смотреть на эту стоявшую у соседнего окна женщину. В самом этом желании было радовавшее его чувство свободы от прошлого. Он даже суетно пожалел, что рядом с Красным Знаменем у него нет на груди второго, довоенного ордена – «Знак Почета» – за участие в экспедиции, снимавшей со льдины папанинцев. Он потерял этот орден после переправы на лодке из Крыма, когда, уже на Тамани, в одних подштанниках грелись в хате, а все, что развесили сушиться на дворе, разнесло в клочья прямым попаданием бомбы. И гимнастерку и орден. Подал потом в Москве заявление о замене, но пока не заменили.
Поглядывавшая на него женщина, докурив папиросу, ушла, должно быть, спать. И он тоже вернулся в свое купе с намерением завалиться до утра.
Но заснуть не пришлось. Занявший еще с утра освободившуюся верхнюю полку напротив Лопатина капитан, летчик, начал его расспрашивать: кто да что. А когда узнал фамилию, сказал, что читал его сталинградские очерки, один даже вырезал из «Звездочки» и возит с собой. Полез в планшет и в самом деле достал вырезанный очерк – тот, в котором Лопатин писал о связистке, убитой в день, когда она получила письмо с Северо-Западного фронта от своего пропавшего без вести еще в сорок первом году мужа. Утром получила с полевой почтой это письмо, которое несколько месяцев шло из-под Новгорода в ее родное село в Забайкалье, а оттуда – в Сталинград, и, счастливая, показывала его Лопатину, а днем поползла восстанавливать перебитую линию и погибла.
Лопатина поразило и совпадение – все в один день! – и то, как переживали ее смерть, казалось бы, ко всему привыкшие люди.
Он написал в очерке о том, как переплетаются на войне счастье и несчастье. И как вдруг почувствовавший себя счастливым человек находит в душе силы не беречь себя, а, наоборот, пойти навстречу опасности.
Восстановить перебитую связь могли послать и кого-то другого.
Но пошла навстречу опасности именно эта женщина – сразу же, никого не спросясь.
– Вы сами лично с ней говорили? – спросил авиационный капитан, хотя из очерка было ясно, что Лопатин с ней говорил.
– Лично, – сказал Лопатин.
– Красивая она?
– Довольно красивая.
– Хорошая женщина, – сказал капитан и вздохнул так, что Лопатину показалось, что его попутчик сейчас заговорит о том, своем, собственном, из-за чего вздохнул.
Но капитан не заговорил, молчал.
– На чем летаете? – спросил Лопатин.
– На «дугласах», – сказал капитан. – К партизанам ходим.
Лопатин, еще ни разу не летавший к партизанам, стал расспрашивать, какие там, в партизанском краю, площадки, какая с ними связь и какая сигнализация при посадках.
Поговорили об этом еще полчаса и, не возвращаясь к тому, с чего началось, заснули.
Вечером следующего дня, когда поезд после долгой стоянки на узловой станции Арысь наконец тронулся, Лопатин, не заходя в купе, стоял у окна и смотрел на станционные огоньки.
– Что смотрите, товарищ майор? – спросил капитан. – Знакомая станция?
– Станция знакомая, – сказал Лопатин. – Но смотрю не поэтому. На огни. Отвык, что без затемнения.
– И я, пока пять дней там, в деревне, жил, где у меня жена в эвакуации, – свет, правда, слабый – керосин, и не в каждой избе, а все-таки вечером ходил, смотрел, как окошки светятся…
Капитан снова вздохнул о чем-то своем и снова, кажется, был готов заговорить об этом, но не заговорил…
Они простились с капитаном на станции Ташкент. Стояла ночь.
Поезд остановился где-то на путях, капитан предложил помочь донести вещи, но Лопатин сказал, что его обещали встретить у вагона, и остался ждать.
Капитан пожал ему руку, откозырял и пошел. За его широкой спиной на ходу мотался влево и вправо тощий вещмешок, а в руке приплясывал пустой чемодан.
«Все, что у него с собой было, наверно, оставил там, в деревне, где у него жена в эвакуации», – подумал Лопатин.
На путях и повсюду кругом лежал снег, было неправдоподобно холодно для Ташкента. Вагон был в самом хвосте поезда, и Лопатин, положив у ног вещи, долго топтался на морозе, пока увидел двух спешивших к нему людей.
Один, наверное, был здешний корреспондент «Красной звезды» – подполковник Губер, которого Лопатин никогда не видел в глаза, только знал о нем, что он после тяжелого ранения признан ограниченно годным и второй год служит в Ташкенте. В редакции обещали дать ему телеграмму с номером вагона. А вот кто второй – высокий в штатском?
– Товарищ Лопатин, Василий Николаевич? Не обознался? – подходя к Лопатину, спросил широкоплечий подполковник и протянул руку. – С прибытием! Губер, Петр Федорович.
Высокий, остановившийся сзади него, шагнул из-за его спины и, каким-то рыдающим, нечеловеческим голосом вскрикнув: «Вася!», обнял Лопатина.
Все было неузнаваемо в этом человеке. И голос, в котором вместо прежних медных труб осталось одно рыдание, и неправдоподобно худая фигура, и постаревшее лицо, которым он, как слепой, тыкался сейчас в лицо Лопатину. И все-таки это был он, именно он – Слава, Вячеслав Викторович, старый товарищ и одно время, в их литературной молодости, даже покровитель Лопатина, человек, с которым он и хотел и боялся встретиться здесь, в Ташкенте.
– Я вчера принес Петру Федоровичу стихи для вашей газеты и узнал, что ты приезжаешь, и он великодушно согласился взять меня с собой, – продолжая держать за плечи Лопатина своими тоже не прежними, неуверенно подрагивающими руками, говорил Вячеслав Викторович, стараясь усилить свой голос до знакомых медных труб. – И надеюсь, что мы поедем отсюда прямо ко мне и ты будешь жить у меня, сколько тебе заблагорассудится.
– В офицерском общежитии по телеграмме редакции место оставлено, – выжидательно сказал Губер.
– Петр Федорович, – снова стараясь дотянуть голос до прежних медных туб, сказал Вячеслав Викторович, – я уже просил вас не упоминать об этом общежитии.
– Докладываю обстановку, как она есть, – с оттенком досады сказал Губер.
– Я тебя очень прошу, только у меня, – Вячеслав Викторович повернулся к Лопатину и снова положил ему на плечи свои подрагивающие руки. – Я не понимаю вообще, о чем мы тут разговариваем?
И хотя он произнес последние слова с вызовом, в вызове этом было что-то неуверенное, похожее на просьбу о прощении, хотя Лопатину нечего было ему прощать. И Лопатин сказал: «Спасибо, конечно, поедем к тебе». И попросил Губера отказаться от брони в офицерском общежитии.
Они поехали в казенной «эмке» Губера по заметенному снегом Ташкенту и остановились между двумя одноэтажными домами, у низкой арки ворот.
– Прошу и вас ко мне на огонек, Петр Федорович, – сказал Вячеслав Викторович, когда они вышли из «эмки».
– Благодарю, нет, – довольно резко ответил Губер, так, словно ему предлагали это уже не в первый раз. – Когда выспитесь, заеду за вами, договоримся о дальнейшем. В одиннадцать не рано?
– Не рано, спасибо, – сказал Лопатин.
Губер откозырял и полез в «эмку».
И что-то натянутое в этой маленькой сцене заставило Лопатина вспомнить, как месяца четыре назад, в Москве, Гурский сказал ему:
– Слушай, п-прояви гум-манизм. Там у редактора лежат ст-тихи твоего д-друга, которые прислал наш корреспондент из Ташкента, а он уп-перся и не хочет п-печатать.
Лопатин сходил к редактору, но тот ничего не желал слышать.
– Мне его стихи из Ташкента не нужны. Пусть попросится поехать от нас на фронт – попробуем, пошлем. А из Ташкента – нет!
Какой-то оттенок того разговора с редактором Лопатин почувствовал сейчас в отношении Губера к Вячеславу Викторовичу. Наверное, не хотел брать его с собой на вокзал…
«Эмка» отъехала, стрельнув из-под колес снегом, и Вячеслав Викторович, рассеянно проводив ее взглядом, повернулся и показал Лопатину на ворота.
– Я там… со двора. Только не поскользнись, у нас темно, я пойду первым.
Комната, в которую они вошли, пройдя перед этим по закоулкам длинного двора, была довольна большая. Голая, без абажура, лампа горела вполнакала под самым потолком. Было полутемно и холодно. У одной стены стояла накрытая паласом широкая продавленная тахта, у другой – шкаф. Посреди комнаты – обеденный стол и несколько стульев.







