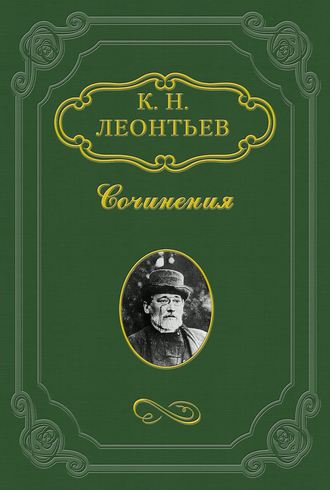
Константин Николаевич Леонтьев
В своем краю
XVIII
Милькеев вернулся от Богоявленского в десять часов утра, подождал Лихачева до полуночи и потом заснул как нельзя спокойнее. Лихачев только часам к четырем утра приехал домой. Сперва он часа два подряд убеждал Шемахаева дать Милькееву денег; написал, наконец, расписку и подписался под ней сам; потом, довольный успехом и вспомнив приличное и выгодное для него поведение Варвары Ильинишны в Троицком зашел в гостиную и застал ее за пяльцами. Варя с улыбкой протянула ему руку.
– Вот это дело, Варвара Ильинишна, – сказал он, – если бы вы были всегда такие… Что ваша школа? Я слышал об ней в Чемоданове.
– Я думаю, там от нас с Алексеем Семенычем одни кости остались – так нас за это изгрызли… Я рада-радешенька, что нет охоты туда ездить теперь… Гораздо лучше… Посмотрите, хороша эта подушка?..
– Подушка недурна, а школа что ваша, я спрашиваю?
– Подушка недурна, а школа еще лучше… Три девочки и два мальчика уж без складов стали читать. Правду говорит Алексей Семеныч, что женщины способнее вашего брата.
– Я думаю оттого, что у них больше желанья нравиться и угодить, – отвечал Лихачев, вставая, – однако прощайте; у меня дома гость – Милькеев…
– Вот, гость! друг закадычный, а не гость… Подождет – посидите… Ну, посидите еще… Скажите, отчего вы не спросите, для кого эта подушка?
– Что же тут спрашивать – дело понятное, для кого… Для Богоявленского. Ведь вы за него замуж выходите?
– Кто вам сказал?
– Никто… Я сам догадался… Ну, прощайте…
– Постойте (она взяла его за руку и притянула его к себе ближе) – видите ли что… Я думаю, по старой дружбе можно было бы и посоветывать что-нибудь. Вы подумайте – я одна-одинешенька! Кто мне от всего сердца добрый совет даст?.. Одна я, горемычная сиротинушка… А? разве неправда?
Варя говорила все это так естественно и полушутя, что Лихачев почти без опасения остался еще посидеть. Он сказал ей, что не по доброте, а просто для собственного спокойствия он очень рад этому браку и что верно они будут жить хорошими соседями. И хотя ему очень-очень хотелось, по привычке, подтрунить над ее планом, когда она сказала, что соседями они не будут, потому что она возьмет свое приданое и уедет с Богоявленским в Петербург – однако он на этот раз воздержался… А воздержаться ему от этой привычки трунить было так же трудно, как трудно было Милькееву не «развивать», Баумгартену не бранить русских, а Рудневу не видеть Любаши.
– Да-с, Александр Николаич, уедем мы от вас, – продолжала Варя, не поднимая глаз от работы. – Уедем, и помину не будет об нас… Дай-ка ты мне руку на прощанье, положи ее сюда на пяльцы, чтобы я видела, – сказала она вдруг.
Лихачов встал.
– Не буду, не буду! – воскликнула Варя, вскакивая и обнимая его. – Останься, не буду, милый мой, не буду. Последний разок.
– А теперь что ты делаешь… Оставь поцалуи; что только попусту тревожить себя…
Варя с отчаянием всплеснула руками.
– Неужели, неужели я так противна?! Неужели, когда у тебя уж и не просишь никакой любви, когда я должна выйти за другого – и выйду непременно, ты не можешь мне дать ни минуты счастья… Один вечерок по-старому… Один вечерок… Саша! голубчик мой Саша!
– Я не для этого приехал, Варвара Ильинишна, – отвечал строго Лихачев. – Вы знаете, что вы бы меня не дождались долго, если бы не нужно было по делу… Пустите же меня…
Но она уже забыла все – и Троицкое, и жениха, и стыд, и гордость… Его рука была в ее руках: она то подносила ее к губам, то к щекам своим, то прижимала к своей груди; каким отвратительным показался ей чемодановский семинарист: худой, бледный, ядовитый, в очках, с каким-то незнакомым, чужим воздухом вокруг себя…
– О, милый, милый мой! останься! Один вечер, один час… Господи, зачем я не Палашка, не Марфушка твоя какая-нибудь… Держал бы ты меня где-нибудь в чулане – я бы сапоги тебе чистила, снимала бы с тебя их.
– Варя, оставь; брат придет…
– Ты боишься брата? Очень нужно! Вот дурака бояться… Никогда не боялся прежде. Нет, я тебя сегодня не пущу, это вздор… Ты у меня наверху до полуночи просидишь… Я не пущу тебя…
Лихачев бережно отстранил ее, очень бережно, едва коснулся только, стараясь высвободить свою руку, и сказал: «Нехорошо смотреть на влюбленную женщину, которую сам не любишь! Отвратительно!» Он сказал это нарочно, чтобы совсем покончить дело, хоть оскорбительно, унизительно для нее, но она была неисцелима, неумолима, непреклонна.
– А, ты бьешь меня, толкаешь! – закричала Варя, – ты думаешь, я позволю тебе себя бить… Я сама умею… Вот тебе…
И, осыпая его грубой бранью, она начала бить его слабыми руками по груди, по плечам, по спине, куда приходилось.
Лихачев стоял неподвижно и смотрел ей в глаза с твердым упреком. Ни слова не сказал он ей и только покачал головой и вздохнул.
Как только она услыхала этот вздох, весь гнев ее пропал как дым; она упала перед ним на землю и обливала его сапоги слезами, цаловала его ноги… И… все-таки просила провести с ней один вечерок по-старому…
– Все будет кончено! Все – я буду на Фоминой жена его… Смотри, до Фоминой всего недели две осталось – больше не увидимся, коли хочешь.
– Нет, Варя, не надо, – отвечал Лихачев. – Не надо – и тебе не совестно его обманывать…
– Совестно, конечно! Совестно, – утвердительно сказала Варя. – Я чуть не сошла с ума в тот день, когда потихоньку от него написала к тебе записку, помнишь? А теперь уж сам случай вышел… Ну, я ему расскажу – ему это ничего, если бы только не обманывать его, а это ничего…
– Да, в прошедшем, быть может, ему и ничего, особенно когда у тебя пятнадцать тысяч приданого, а теперь, в настоящем – другое дело… Пусти меня, пусти, или я, наконец, толкну тебя… Нечего тебе перед свадьбой поднимать все старое…
– Да я бы уж сегодняшнюю ночь забылась, а там! Варя махнула рукой.
Лихачев был молод; ему показалась она прежней Варей, самой первой Варей, которую он когда-то встретил на Святках в штофном сарафане, с платком в руке и в удалую минуту русской пляски, той плутовкой, той черноглазой барышней-крестьянкой, которая отдалась ему молча и нечаянно, без обещаний и клятв и хитростей ни с той, ни с другой стороны. Он остался и поужинал с нею и братом, а после ужина пробыл с ней один до трех часов ночи.
– Смотри же, – сказал он ей, – не потеряй ты своего жениха; сказать неловко, а скрывать еще хуже: через людей дойдет… Опять, скажут, повадился… Смотри… Ведь я, ты знаешь, не люблю тебя…
– Знаю, знаю… – отвечала Варя, – и за это спасибо, что по-моему сделал… Я больше ничего не хочу.
Так она думала в эту минуту; но оставшись одна, когда Лихачев уехал, вдруг почувствовала всю слабость, всю вину свою перед Алексеем Семеновичем, все отвращение, которое проснулось вдруг к нему, – когда она вспомнила такое славное прошедшее…
Не раздеваясь, сидела она с ногами на диване, распевая любимые Лихачевым песни и раздумывая, что ей сделать… К утру она решила, что нечего делать: надо пойти в монастырь этим летом, а до тех пор пожить уж как хочется, а Богоявленский как знает! Ведь и она не виновата, что не может любить его, когда любимец истинный на глазах; а если не на глазах, то только мостик да плотина, да три-четыре версты полем, и до куреевского осинника, за которым стоит серый флигель, уж два шага!.. Какая же сила вынесет это!
– Ну! – решила она, наконец, перекрестясь три раза, и написала Алексею Семеновичу письмо: «Не могу! не могу! Алексей Семеныч! Вы уж простите мне; но я за вас замуж идти не могу и в Петербург с вами не поеду! Я думала, что забыла его; однако – нет, не могу! Уж там как хотите ругайте меня, а я слово свое беру назад. И школу знать не хочу! Чорт с ней совсем. Разорвите это письмо!» Богоявленский с наслаждением разрывал его, стоя бледный перед мужиком, которого прислала ему Варя.
– Вот тебе! – сказал он, вынимая из кармана гривенник, – не так-то я сам при деньгах, а то бы и больше дал за добрую весть. Куда это другая записка?
– Это к Александру Николаичу в Куреево, – отвечал мужик.
– Ну, это дело хорошее… Ступай скорей, брат! Он тебе больше даст. Постой, однако, я тебе тоже записку дам – в Куреево.
Перед обедом в Куреево вернулся Николай Николаевич Лихачев и прошел прямо в свой флигель. Молодые люди тотчас же пошли к нему. Молодой Лихачев еще поутру сознался Милькееву в том, как он провел вчерашний вечер, и сказал ему, между прочим: – Конечно, Богоявленского мне ничуть не жаль… но забавно, что он ищет ее обратить в свою веру, а она заблаговременно ставит ему рога… Если мне жаль кого, так это ее…
– Позволь мне рассказать ему, что она его еще раз обманула.
– Зачем это?
– Я его зову с собой ехать… а он через нее колеблется.
– Ты зовешь его с собой? – с удивлением спросил Лихачев.
– Зову, отчего же. Это ему, должно быть, очень по душе.
Лихачев с усмешкой отвечал: – Конечно, это твое и его дело, а не мое… Но, в самом деле, старики правы, когда говорят, что мы в странный век живем… Наша губернская семинария и Неаполь; кардинал Антонелли и Александр Семеныч Богоявленский; Ламорисьер и ты!.. Ну, впрочем, твое физическое, если не духовное, величие еще годно и туда, а вот я удивляюсь, как ты не боишься, что он своим присутствием всю поэзию Италии испортит?.. Чорт знает что – Богоявленский в очках над кратером Везувия…
– В этом есть правда, – отвечал Милькеев, – но я надеюсь, что он как-нибудь там сам окрасится…
– Разве загорит, – сказал Лихачев.
Говоря так, они переходили через весеннюю грязь двора во флигель предводителя; Милькеев уже занес ногу на крыльцо, но Лихачев приостановился и сказал ему: – Смотри, ведь это от Вари мужик пешком плетется… вязнет; видно, проповеди твоего будущего спутника не очень-то плодотворны… По этакой распутице пешком мужика с любовными письмами посылать… Ужасно она груба!
Мужик, в самом деле весь мокрый и в грязи выше колен, снял шляпу, с которой лился пот, и достал из нее две записки: одну побольше, другую поменьше.
– Откуда тебя это пугнули, душа моя? – спросил у посланного Лихачев.
– Да барышня к чемодановскому поповичу послала. Братец лошадки не дал своей… Да какая тут лошадь! утопнет всякая… Я пеший в вершинке вон в той так и повалился навзничь – лежу, ей-Богу, ни-ни с места – ровно пьяный! К поповичу, Александр Николаич, к поповичу…
– Зачем же ты ко мне пришел?.. Разве я попович? Спасибо, брат, за это.
– И к тебе, Александр Николаич, и к тебе тоже… Я поповичу уж отдал письмецо; и он вот гривенник мне дал; снеси, говорит, в Куреево… там барин в гостях из Троицкого, высокий такой, курчавый… ему отдай…
Молодые люди взяли письма и прочли их тут же на крыльце. Прочли, посмотрели друг на друга и поменялись письмами.
«Сердись, не сердись; ругай и презирай меня, сколько хочешь, а я Богоявленскому отказала сегодня, – писала Лихачеву Варя. – Не бойся, я тебе надоедать долго не буду; даю честное слово, что уйду или уеду куда-нибудь летом, только ты хоть два раза в неделю, хоть раз приезжай к нам по-старому! Алексей Семенович зовет тебя «консерватором», и он мне объяснил, что это такое значит… Так ты должен старое любить… Видишь, какая я умница и милое дитя, шучу и об страстной своей любви к тебе не говорю ничего… Любить не надо меня, а только приезжай ради старого. Право, не надолго!
Твоя Варя Шемахаева».
«Я к вашим услугам, – писал Богоявленский Милькееву. – Хоть сейчас, хоть после Святой, когда вам угодно… У меня есть триста рублей с небольшим; у вас есть пятьсот. Отлично доедем. Будьте только осторожны, чтобы нас не задержали где-нибудь.
Ваш Богоявленский».
– Ну, что? – спросил Лихачев.
– А ты что скажешь?.. – спросил Милькеев.
– Пойдем к брату пока… – отвечал Лихачев… – ответа не надо никому, – продолжал он, обращаясь к мужику, – скажи, что получили… Вот тебе полтинничек. Да барышне скажи, чтобы еще тебе дала за труды… Скажи, Александр Николаич Лихачев говорит, нехорошо даром в такую дорогу людей посылать… Поди, отдохни сперва в людской да пообедай у нас…
XIX
Полина едва только узнала, что Любаша отказала ее брату и что Авдотья Андреевна долго не будет пускать Любашу в Троицкое, – принялась сейчас же выпытывать от огорченной девушки, кто ей нравится, и, догадавшись по очень ясным признакам, что нравится именно Руднев, еще яснее намекнула Рудневу, что можно и почаще сюда ездить теперь, так как они слышали стороной, что он уже детям уроков в Троицком не дает… Руднев все это время не встречался с Милькеевым; как нарочно приезжал из округа в Троицкое, когда тот тосковал и строил планы в Курееве, и написал ему длинное и теплое письмо, упрашивая забыть все и простить ему «глупую вспышку», тем более, – прибавлял он, – «вы сами виноваты, что недостаточно еще переделали меня, несмотря на все ваше искусство затрогивать мне душу. Я не горюю теперь; вы, может быть, сами догадаетесь, почему, и при свидании я, милый мой, все вам подробно объясню. У меня теперь вдруг, кроме всего остального, скопилось так много работ по округу! Воробьев свалил на меня два вскрытия скоропостижных; я успеваю только благодарить судьбу за то, что в троицком лазарете теперь нет ни одного опасного больного. Хочется мне с вами давно поговорить целый вечер, да, Бог даст, в конце Страстной буду свободнее! Я могу вас уверить, что ни одна женщина вас вполне не убьет в моем сердце!» В зале Полины, в минуты отдыха, у рояля, возобновились прерванные беседы… Сестра князя не мешала им: то за две комнаты от них вышивала в пяльцах, то няньчилась в детской с Колей, то читала; муж ее был беспрестанно в отлучках, да и дома, сидя в кабинете, не обращал внимания на нескладную музыку Любаши, которая чаще всего играла одной рукой, потому что другая была в руке полуживого от счастья и от страха за свое счастье – Руднева. Иногда он успевал прочесть что-нибудь громко ей одной или при Полине… И при Полине хорошо; он взглядывал часто сбоку через книгу и выдел около себя розовые щоки и русые волосы, знакомые ямочки и веселые глаза, опущенные к работе. Сидели и по разным углам, то в том, то в другом укромном местечке, пробовали и за плющом, и на эсе за печкой, и на другом эсе посреди гостиной для очищения совести перед свидетелями. Иногда она играла как следует на рояле, и он смотрел целый час на ее спину и спину хвалил про себя, не говоря уже об игре.
Он рассказывал ей то самое, что он решился рассказывать про себя Милькееву: про детское горе свое, про мать и дядю, про других недобрых родных, про разнородные муки молодости, которые теперь уже казались чем-то далеким и почти невероятным, наконец, про свою дружбу с Милькеевым…
– Хороший ли он человек? – спросила Любаша.
– Я другого такого не знаю! – отвечал Руднев с восторгом. И объяснил ей, почему он считает его таким, а не иным.
– Мне кажется, он такой самолюбивый и для самолюбия своего готов все сделать… И все-таки, я думаю, что он фарсит-таки, важничает немного…
– Бывает! но он имеет, по-моему, больше прав на это, чем другой!.. Скажите, любили ли вы его хоть на минуту?
– Разве можно любить на минуту? Любить можно только всегда; я с ним так шалила, шутила… Нравился он больше при других, в обществе…
– Как это странно, – заметил Руднев, – он то же самое мне говорил об вас; я спросил раз у него: хотел ли бы он на вас жениться, а он отвечал: нет, я танцевать с ней хочу на всех вечерах, и за ужином, и за обедом рядом всегда хотел бы с ней сидеть и воображать… воображать; что мы друг друга не сегодня завтра полюбим страстно и без последствий…
Любаша на это не отвечала, и легонькое облако пробежало по ее лицу.
– Это нехорошо, – сказала она минут через пять, – это нехорошо, что я чувствую; мне стало что-то досадно, зачем это он так сказал; к чему это я так почувствовала? Вы мне простите это?
Руднев только пожал плечами и угрюмо отошел прочь.
– Не уходите, – сказала она кратко, – не уходите, я разве дурно делаю, что во всем признаюсь вам? Я еще не привыкла к вашему лицу, не знаю, когда вы сердитесь и когда конфузитесь…
– Не ухожу! Не ухожу-с! Куда я пойду от вас? Ну, посудите сами, разве я в силах уйти от вас?
– Какой суровый, и какой молодой! – сказала Любаша, качая головой, – как строго глядит, и сам какой еще молодой; что за лицо у вас, нежное, как у барышни… ничего еще здесь почти нет…
И, задумавшись на минуту, она провела рукой по его подбородку и щекам.
– Братец мой младший, Сережа… нет, не Сережа – другой брат, Вася… Посмотрите-ка на меня. Отойдите от двери; что я вам скажу, чтобы никто не видал.
Руднев отошел от двери, и Любаша, вдруг указав пальцами на него и на себя, поспешно сказала: «это мой брат, Вася, а это я…», поцаловала его в губы, но слегка, истинно по-братски, и ушла спать, а Руднев простился с хозяевами и уехал к себе.
«Чем-то это все кончится? – думал он дорогой, – зачем бы это так долго ждать, чтобы старуха смягчилась!.. Впрочем, пусть будет так, как она желает и как советует Максим Петрович».
Дома он сказал тотчас же дяде, что надо будет завтра, наконец, в Троицком провести целый день… Стыдно на глаза показаться! «Через все эти разъезды да вскрытия», – прибавил он потом.
– Недурно бы, – отвечал дядя, – очень недурно бы!.. Спрашивали о тебе эти дни. Да и сюрпризик небольшой там есть… Есть сюрприз там ныньче!.. Красное яичко к Христову дню!
– Что такое?
– Граф вчера приехал с Кавказа. Вчера около полудни.
– Граф, сам граф?.. Ну, это вы шутите?..
– Отнюдь не шучу. Приехал вчера при мне. Сидели мы с Катериной Николавной, вбегает опрометью дворецкий… Шар-шаром катится… «Ваше сиятельство, граф изволит ехать!.. я их узнал». Катерина Николавна взглянула на него, взглянула на меня, бледнешенька, вся побледнела. И Трофим тоже не без страха ждет ответа… Но, однако, этот минутный ужас продолжался недолго… Она пришла в себя и встала с софы… Дети вбежали вслед за этим и кричат: «папа, папа едет!..» Уж что в их душеньках деялось – не объясню, не объясню!.. Не берусь за это! Но все как бы смущены и испуганы были… Кроме Юши, конечно, кроме Юши, который был уже на крыльце…
– И вы сами все видели это? Ну, говорите, что ж дальше. Как он приехал? на чем?
– Не по-барски, попросту, на перекладной… Толстейший, здоровый мужчина, нога выше колена отнята и на костылях; здесь, натурально, на плечах густота… Таким орлом глядит!.. Она его встретила сама на крыльце, и с Машей вместе не дали ни одному слуге прикоснуться – сами высадили его из телеги; а Юша уж на нем повис; а Федя и Оля стоят и глядят из дверей: Оля хмурится, Федя плачет…
– Боятся оба, верно: они ведь его не помнят вовсе, – заметил Руднев… – Ну, потом что, дядя?.. Милькеева не было?
– К вечеру только отыскался, к вечеру отыскался; и он как бы ошалел немного – так, по крайней мере, по крайнему моему разумению, его наружность мне представлялась; а граф сам, нимало не стесняя себя ни в чем, идет на костылях на лестницу и рассказывает, как он возок у губернатора на дворе оставил через распутицу и сел на перекладную, и дочь старшую со смехом пополам похваливает, что она на английскую девицу, на англичанку молодую похожа… «В Англии я недавно был, – говорит, – так мне на всех балах девицы самого изысканного круга помогали на лестницу всходить и с лестницы сходить, увидав меня на костылях… Раненому человеку там почет великий… Отвели ему большую комнату внизу, в которой был театр зимой… понравилась… фасон окон долго хвалил. Я за ним все следил и слушал внимательно!.. Поезжай, и ты увидишь…
– Ну, уж нет, теперь даже из лазарета к ним не заеду… Нет, уж не надо… Им не до нас.
– Да и тебе тоже, Вася, не до них… – осторожным голосом добавил дядя.
– Ах, дядя, дядя. Мартиниан-то наш (помните?) плохо умудрил меня! Да что там, Бог знает, еще что будет. Покойной ночи пока!
Дядя, оставшись один, постоял, поглядел на закрывшуюся дверь пристройки и подумал: «Ничего… Мартиниан – Мартинианом, а Любаша – Любашей… Спать ныньче стал крепче и рано засыпает, не гнется над книгами до полуночи, не гнется над книгами… И то хорошо… Натура свое потребовала… Натура все делает… Без натуры человек ни на шаг! От нее все и в ней все обратно свой путь продолжает! Помяни нас, Господи, помяни нас, Владыко, егда приидеши во царствие Твое! Помяни нас, Господи, егда приидеши во царствие Твое… Помяни нас, Владыко, егда приидеши во царствие Твое…»
XX
Лихачев и Милькеев еще раньше Руднева узнали о приезде графа.
Одно из личных физиологических замечаний молодого доктора возбуждало не раз споры в Троицком: он упрямо утверждал, что умных лиц и особенно умных глаз не бывает, а бывают выразительные лица и глаза.
– Ум, – говорил он, – в чистоте своей – процесс бесстрастный и не может сам по себе быть источником ни движения, ни твердого покоя во взгляде. Глаза могут быть добрые, хитрые, томные и страстные, веселые, покойные – одним словом, они могут выражать качество характера, а не количество и силу ума. У гениев не потому выразительные лица, что они очень умны, а потому, что у них и многое другое сильно, если не все; а идиот беден не только умом, а вообще он – нищий духом.
В пример он не раз приводил с одной стороны глубокие, кроткие и бархатные – словом, выразительные глаза князя Самбикина, а с другой – холодные, незначительные серые глаза обоих братьев Лихачевых, которых все, однако, считали людьми умными.
– Особенно у предводителя, – прибавлял Руднев, – лицо добрее, чем у брата, а глаза навыкате, без всякой жизни. Допуская умные лица, надо счесть Николая Николаича глупым добряком и ошибиться. Я всего раз или два видел, как у него изображались в глазах жизнь и игра чувств: раз на балу у Протопоповых, когда он спорил с дворянами; а другой раз, когда Катерину Николавну начала бить лошадь и он схватил ее за повод и остановил.
Теперь, после того, как Милькеев признался Николаю Николаевичу, что после Святой он едет в Италию, и расспрашивал у него, как бы денег немного истратить и цели достичь – этот случай в жизни старшего Лихачева Руднев признал бы третьим случаем игры страстей на лице серьезного и спокойного толстяка.
– Да! – сказал он, вставая без нужды с кресел тотчас после плотного обеда… – Да! – повторил он, не спуская глаз с Милькеева, который, развалившись в креслах, строил на радостях, что есть деньги и что Богоявленский увлечен, всякие воздушные замки, в половину которых и сам не верил.
Потом, сказав еще раз «да! недурно!», предводитель все-таки не сел, а стал спиной к холодному камину и обвел заблиставшими глазами потолок.
– На Фоминой!.. – начален. – Святая ныньче поздно, на пароход и в Одессу – через Азовское море… Волга, Таганрог, Бердянск… В Одессе бывает всякий народ… Пожалуй! там найдешь охотников… Особенно в Одессе… Поляки там попадаются, они ведь на эти штуки охочи… Да чорт ли в этих поляках! Какая-то смесь жида с французом.
– Найдем всяких! – отвечал Милькеев, – не все ли равно.
– Лишь бы не очень велика компания – и с разбором ищи людей, чтобы не встретить какой помехи… Впрочем, постой-ка… Ты мне скажи, почему ты непременно хочешь ехать к Гарибальди? Отчего в Италию? Я и сам говорил, что тебе не следует успокоиться здесь на веки веков, а надо ехать и страдать и кипеть. Отдохнул душой, да пора и честь знать… Все это ты говорил и сам еще на Святках…
– Ну так что ж? Говорил – так надо ехать.
– Надо, надо… Да зачем в Италию! Ты бы поехал лучше знаешь куда!
– Куда? Уж не в Петербург ли? – воскликнул Милькеев. – Знаешь ли, что такое Петербург?.. Гуляли мы с Рудневым и детьми в цветнике… Небо голубое, цветы также, солнце яркое; сели мы на лужайке под тополем, а Руднев поднял большой камень, около меня, чтобы показать детям разных насекомых. Я посмотрел туда – сырость, грязь, какие-то черви и вроде мокриц ползают… Руднев опять опустил камень… Италия, это – цветник, а Петербург, это – место, где ползают мокрицы.
– Катерина Николавна говорит, – отвечал предводитель, – что Петербург, однако, принес свою долю пользы для России. Это правда; но я думаю, что он натяжка, а не столица: ни национальности, ни климата, ни настоящей красоты… Резиденцию могли бы перенести в Москву – и множество мыслящих и образованных людей рассеялось бы по внутренней России и волей-неволей разнесло бы по ней гражданское сознание, как гугеноты разносили свои ремесла и трудолюбие, когда их изгнали из Франции, или как византийцы – свое просвещение, спасаясь от Мухамеда Второго!.. Никто и не просит тебя ехать в Петербург.
– Я знаю, – перебил молодой Лихачов, – куда он тебе посоветует… Все туда же, в славянские земли…
Предводитель слегка покраснел.
– Ты говоришь, Александр, с легкостью об этом, потому что ничего в этом не смыслишь, брат, не прогневайся, – сказал он с досадой.
– Да ведь скука там, душа моя… Ничего вообразить себе нельзя. Париж – понятно, что такое; английская деревенская жизнь тоже; ну, Италия, Испания, Америка, Индия… Знаешь, что тебя ждет там, хоть приблизительно. Можно ждать опасности, лишений, горя, но не скуки, а все эти Дравы, Савы, Моравы… Никакого, кажется мне, в них характера нет.
– Это все равно, что суждение французов о России, точь-в-точь! Такая же пустота с кондачка. Признайтесь оба, что вы даже читать себе не дали труда об этих краях, а судите… Противен тебе Баумгартен, когда он говорит, что гораздо приятнее в Nancy или Celestà играть в шахматы в кофейной с каким-нибудь скотиной мэром, чем гулять в троицком бору? Ведь небось сволочью считаешь его, когда он это говорит, не зная ничего про Россию. Так и не врите вздору о том, в чем ни зги не видите… То-то! какие-то светские сапожники – вот что вы!
Предводитель так редко сердился, а младший брат так привык уважать его с детства, что не отвечал на это ни слова…
– Да и я плохо об них знаю, сознаюсь, – сказал Милькеев задумчиво.
– В этом-то и беда, – продолжал предводитель, – что наше общество глупо и невежественно. Оно способно сделать все, когда немцы или французы дали на это право примером своим, или когда прикажут, пошлют куда! Всякий дурак понимает Италию, Париж… Ярко, ясно, как 2 + 2 = 4… Нет, ты пойми там, где чуть брезжится все; пойми там, где, как ты сам, Милькеев, раз сказал: краски пестры, да лаком сознания и свободы еще не покрыты!.. Скучно! Мильоны славян говорят почти тем же языком, которым писана наша Библия; в глухих, диких деревнях с восторгом произносят наше имя! А мы их не знаем и не думаем о них. Прогрессисты наши, разочарованные недоверием и холодностью здешнего народа, бегут из своих имений шляться по Невскому, пляшут в растленных притонах или жрут в парижских кофейнях. А там бы их на руках носили, пророками бы считали, если бы они шли туда не только официально, а сами по себе! Там всякому еще есть дело: учителю, попу-проповеднику, художнику, купцу, искателю приключений. Живописные места; Дунай; первобытные народы, которых даже западные путешественники ставят сердцем выше греков, а умом выше турок; монастыри в горах, где молятся за наше государство; монахи там настоящие монахи – знают близко смерть и нужду; древние забавы, песни народные и эпическое время не прошло еще для них… Благодушны, гостеприимны, чисты нравами; за «честный крест», по их словам, каждый мужик готов кровь отдать без приказания. Если южная пылкость у них слабее, чем в Италии, зато мудрой стойкости больше…
– Ты, – продолжал предводитель, обращаясь к брату, – почитатель Пушкина – знаешь ли ты стихи, которые он писал дочери Карагеоргия? Не посмотрел, верно! А?
– Не помню…
– Ну, конечно! Эх, брат Милькеев, поезжай ты туда… Там ты не только одноплеменником, но и единоверцем станешь с ними!
– Не вошло еще сюда! – отвечал грустно Милькеев, указывая на сердце. – Не пролезло в щелку, которая здесь есть… Чуждо!
– Италия ближе?
– Пока ближе. Не знаю, что будет после. Я влечениям своим охотнее внимаю, чем чужому рассудку. А пока все, что вы говорили, для меня только рассудок.
– Оттого-то вы оба неполные люди, – сказал старший Лихачев. – У тебя есть познания, а почвы нет, русского в тебе мало; а у него есть почва русская, да твоих познаний нет. Ну, как знаете! Только в Петербург ты, Милькеев, ради Христа, не езди, нейди ты по битой дорожке!
Едва успел предводитель кончить, как на двор въехал посланный из Троицкого с запиской, в которой Катерина Николаевна писала, что муж ее приехал, и звала Милькеева поскорее к себе.
Александр Лихачев захотел проводить его до половины дороги. Уже совсем стемнело, когда друзья верхом въехали в лес. Со всех сторон оглашал его весенний крик ликующих птиц. Лихачев знал все эти голоса и объяснял их товарищу, который ехал молча и печально.
– А ведь ты горюешь, душа моя? – спросил Лихачов, пожимая ему руку.
– Горюю, – отвечал Милькеев.
– О Троицком?
– И о Троицком горюю, и сам не знаю о чем! Думаю, как бы граф не повредил бы им всем. Судя по ее рассказам, он молодец, и где-нибудь в ополчении или на севастопольском бастионе я бы его любил; но здесь… Послушай! что это за птица кричит? Послушай! послушай ее… Какой раздирающий крик… Когда я проводил первую весну в этом раю у Новосильских, я вначале пошел один в лес; еще мало знал их всех – но уже жилось сладко и покойно… Тогда тоже кричала эта птица… И что за воздух! Что за воздух! Слушай, видал ты много на Дунае убитых людей?
– Еще бы! – отвечал Лихачев. – Первый раз я увидал молодого казака лет девятнадцати. Бомбой его убило. Руки нет ниже локтя; две кости торчат обломанные; лицо и все тело малиновое; ног тоже нет. Из лица куски мяса вырваны; говорят, у него дома осталась жена молодая, и я прежде не раз говорил с ним.
– И ничего ведь тебе? Не слишком жалко и страшно?
– Нельзя сказать! Хоть у меня и нет столько воображения, сколько у тебя, а все-таки! Обстановка, мечты! Война эта, проклятая, как-то облагороживает человека, сколько ни мудри против нее все эти мудрецы, которые честно прокисли над книгами! На Дунае я реже скучал, чем дома, и гораздо чаще грустил… А в Италии должно быть еще лучше!
– Надеюсь, что лучше. Вот, когда бы с тобой вместе! – с жаром сказал Милькеев.
– Если тебе это приятно, я с удовольствием поеду, – сказал Лихачов. – Ты меня соблазнил; страшно еще как-то обречь себя на вечную жизнь дома. Брат хочет, чтобы я служил после эманципации: так до тех пор вернусь еще, если вернусь…
– Ты не шутишь?
– Нисколько! Я нарочно поехал тебя провожать, чтобы поговорить об этом. Молчи пока; не хочу толковать с братом: уеду – и конец… Если ты не боишься ехать, когда у тебя дома кровли нет, так отчего же мне и подавно не съездить: все же интереснее простого путешествия по дурацким гостиницам и минеральным водам! К тому же Варя… Хуже этого быть ничего не может! Бог даст, отвыкнет, образумится, и я отдохну…
– Надеюсь, по крайней мере, что ты не раскаяваешься в прошлом насчет ее? – спросил Милькеев.







