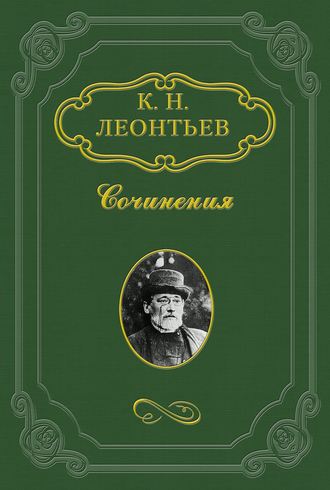
Константин Николаевич Леонтьев
Плоды национальных движений на православном Востоке
III
Всеравняющий дух XVIII века уже пронесся по всему христианскому миру, когда греки подняли знамя своего государственно-национального восстания, взяв идею Православия лишь в сильные пособницы своему эгалитарному либерализму. Без народа нельзя бунтовать, а народ греческий и до сих пор весьма православен.
Выражение эгалитарный либерализм я здесь употребляю не в смысле стремления греков к свержению власти неравных с ними, привилегированных, стеснявших их мусульман, – а по отношению к социальному составу их собственной греческой среды и под турком, и без турка.
В Турции и в то время не было глубоко выработанного сословного строя. Не входя в подробности, можно вообще сказать, что в этой империи было только два главные слоя: мусульмане и «райя»{3}. Эти два слоя, оба весьма равенственные в своей собственной среде, были очень просто и грубо наложены завоеванием один на другой. Были в среде христиан привилегии, дарованные там и сям иноверной властью; но эта неравноправность имела характер более провинциальный, чем сословный; более местный, областной или муниципальный, чем родовой или наследственный. Имела, конечно, в старину и там родовитость некоторый вес, но очень шаткий. Действительно же прочные привилегии против массы мирского населения имело «под турком» только православное духовенство (в то время почти сплошь греческое). Патриархи и епископы являлись перед Портой официальными представителями, заступниками христиан и в то же время начальниками их и даже во многих случаях бесконтрольными судьями… Что касается до мирян православных, то, кроме духовенства, определенных юридических слоев в их среде не было. Все держалось обычаем, и преобладали, конечно, только богатство и грамотность, – как преобладали они везде, где нет ни силой, ни законом утвержденного дворянства…
И вот в южных частях Балканского полуострова и на некоторых островах иго мусульман свергнуто (с помощью России) к 30-му году.
Греки новой Эллады свободны…
Повторять ли и здесь то, на что я уже указывал прежде… Я думаю – не нужно?
Дворянства нет; синод вместо Патриарха (т. е. форма против светской власти более слабая), духовенство устранено от прямого влияния на гражданские и политические дела… Конституция в высшей степени либеральная с одной только палатой, т. е. без тормоза… Неслыханное множество газет на столицу, которая меньше нашей Одессы… Фрак и сюртук европейской буржуазии, господствующие de facto над дикой и своеобразной поэзией шальвар и фустанеллы. «Корсар» Байрона стал чернорабочим или простым мошенником проезжих дорог. Он ездит на козлах кареты или коляски европейского иноверного короля, по-европейски одетого. Король Оттон и супруга его еще любили оба носить греческую одежду. Это им не помогло, и король Георг уже не находит это нужным для популярности. Никто уже из греков, видно, не нуждается в этом. В европейском «проще»; «все так нынче одеваются». «Это удобнее!» И так далее. Пышная, изящная фустанелла с престола попала на козлы!..
Это тоже символ времени; символ все большего и большего претворения всех местных, истинно национальных особенностей, столь живописных и возбуждающих дух любви к своему, – в одном всеобщем стиле общеевропейской прозы.
Эдм. Абу писал свой памфлет «Современная Греция» против свободных греков в 50-х годах, под влиянием досады на них за то, что они были на русской стороне во время дунайской и севастопольской борьбы. В его книге много преувеличений, но много и злой правды.
Абу прежде всего сам именно то, что я предлагаю называть для ясности «средним европейцем». Умеренно либеральный француз; нравами и обычаями европейской буржуазии вполне довольный; религии демократического прогресса поклоняющийся, ко всякой «ортодоксии» равнодушный; любящий, как многие, эстетику искусства, не понимая ничего в эстетике жизни… и т. д. Одним словом, это несколько более других способный и довольно даже остроумный представитель именно того общеевропейского типа, одна мысль о котором приводит иногда в истинное отчаяние того, кто вообразит, что этот тип есть разгадка и венец всей истории человечества.
Абу – это именно тот несколько более других «средних людей» крупный «средний человек», «genre»{4} которого так справедливо ненавидел бедный и гениальный Герцен, сбившийся со столь естественного в нем, московском барине, религиозного и аристократического пути.
Этот Абу в своей книге гневается на го, что греки свободной Эллады слишком любят Россию, на то, что они слишком набожны и православны, на то, что про западных христиан они говорят: «Это худо, крещеные собаки» (это его слова, а не мои). Он издевается над афинскими молодыми людьми того времени (50-х годов) за то, что они на вопрос: «Куда вы идете?», отвечают очень просто и не смущаясь: «Я говею; иду к своему духовнику». Ему это прямое и простое отношение к религии отцов, эта набожность в человеке, кой-чему обучившемуся и по-европейски «чисто» одетому, – кажется и глупой, и даже удивления достойной!..
Абу пророчит между прочим, что «через сто лет не останется ни одной фустанеллы на свете». «Не будет больше паликаров» (то есть молодцов, носящих греческую одежду).
Теперь этот развязный щелкопер, называющий себя учеником Вольтера, был бы, вероятно, гораздо довольнее греками свободной Эллады. Самодержавную Россию они разлюбили (отчасти по нашей вине, отчасти же и по собственной).
Если они нейдут и не пойдут, вероятно, против нас слишком открыто и слишком сильно, то это лишь потому, что болгары теперь идут против нас и что мы болгарами недовольны. Говеть{5} и не стыдиться говения (я заглазно уверен в этом!) многие за истекшие 30 лет уже перестали. «Фустанелла» попала на козлы…
И, конечно, если не будет у нас в России (да, главное в России) глубокого поворота в духе по окончанию Восточного вопроса (на Босфоре и Дарданеллах); если у нас в России взгляды, подобные моим, не возьмут верх надолго… Если не станет ненавистен нам именно тот тип развития, к которому принадлежит сам Абу, то не нужно ждать и ста лет!
Гораздо раньше этого не только «фустанеллы» и православной набожности в Греции, но и вообще ничего в ней греческого, кроме языка, не останется!
Только русские, переменивши центр своей культурной тяжести, могут стать во главе нововосточного движения умов и перерождения жизни…
Греки очень хороши, очень содержательны, очень симпатичны даже, пока их сравниваешь только с югославянами. Они во всех отношениях выше их. Но и только!
Ведь это похвала невысокая – «в царстве слепых признать кого-нибудь кривым лишь на один глаз».
Мой идеал ясен, если не в подробностях положительных форм, то, по крайней мере, в отрицательной основе своей: как можно меньше современно-европейского во всем.
Греки же новые в высшей степени падки до стиля Абу и даже не видят и не сознают того, до чего они европейцы, в самом дурном значении этого слова.
Дух свой они полагают только в языке и в сильном племенном государстве, о котором они мечтают издавна и тщетно.
Я говорю о государстве; я не говорю о государственности, т. е. о своеобразном, глубоком строе политических учреждений. Это уже культурная точка зрения.
Этого у них вовсе нет и едва ли будет…
Я, впрочем, о греках еще не все сказал.
Прошу терпения.
IV
Изо всех видных и влиятельных деятелей 20-х годов только один Меттерних понял истинный исторический дух греческого восстания. Он один только «чуял», что в сущности это движение – все та же всемирная эгалитарная революция, несмотря на религиозно-национальное знамя, которым оно прикрывалось. Люди движения могли быть искренни в намерениях своих; но само движение должно было стать обманчивым благодаря уже пронесшимся над всей Европой духам разрушительного опошления.
Быть может, Меттерних понимал яснее других тайный дух и будущее значение этой национальной инзуррекции лишь потому, что он был защитником и представителем интересов самого не племенного в мире государства. Существуют инстинкты и психические навыки звания и положения.
Он не имел насчет греков тех иллюзий, которые имели в его время столькие другие замечательные люди: лорд Байрон, Шатобриан, даже дипломат Каннинг. У Каннинга за соображениями чисто государственными (вроде того, что нельзя допустить Россию одну, без нашего, английского вмешательства, распоряжаться судьбами Востока) стояло, видимо, еще и личное сильное культурно-эстетическое эллинофильство.
Почти все видные деятели того («романтического») времени ждали от освобожденных эллинов чего-то особенного, творчески-национального, неслыханного и поучительного.
Надо помнить, какое тогда было время! «Властителями дум» были в те годы не Лессепсы и Эдисоны, а Байрон и Гёте!
Все ждали… и дождались самой обыкновенной рационалистической европейской демократии во фраке и с неслыханным множеством пустопорожних газет!
Нынешние греки, бесспорно, имеют важное в современной истории значение, но это благодаря лишь своему древнему и славному монашеству, которое владеет четырьмя Патриаршими Престолами и являет и теперь еще образцы великого аскетизма на Святой Афонской Горе и на Синае.
Но с истинным ужасом надо сознаться, что и эти столпы Православия поколеблены несколько за последние тридцать лет совокупными усилиями: болгарской революционной интриги, русской племенной политики и рационализмом собственной эллинской интеллигенции.
О вреде, который могли причинить Восточным Церквам за это же время естественное злорадство турецкого правительства и враждебные действия иноверных держав, – я умалчиваю; ибо силу этого «внешнего», так сказать, вреда нельзя сравнивать с тем злом, которое сделали греческому духовенству и Православию сами восточные христиане (европейского духа) своей племенной борьбою, начиная от 60-го года (когда болгары в первый раз прекратили возношение имени Вселенского Патриарха в своих церквах) и до нашего времени, когда жалкий сербский король позволяет себе так безбоязненно и нагло обращаться с уставами Церкви!{6}
Это истинно ужасно!
И ужасно оно тем более, что у нас, русских, при нашей вялости и при каком-то всевыжидающем бесстрастии (именно там, где страстность была бы спасительна), нет уменья вовремя узнавать в организме своей Церкви и своего государства те же самые болезни, которые губят Запад! Мы не узнаем того же худосочия лишь потому, что у нас весьма второстепенные припадки его имеют несколько иной внешний вид, чем на Западе.
Мы у себя, на Востоке, медленно подтачиваем и подмываем то, что в западных странах ломали ломом и взрывали порохом люди более нас убежденные, страстные и энергические! И ко всему явно или тайно, но примешан этот племенной принцип, в чистоте своей губительный для всего того, что дает истинную жизнь человечеству; губительный для религии, для государственности и даже для эстетики!.. Не для эстетики «отражений» на полотне или в книгах, а для эстетики самой жизни, – ибо без мистики и пластики религиозной, без величавой и грозной государственности и без знати блестящей и прочно устроенной – какая же будет в жизни поэзия?.. Не поэзия ли всеобщего рационального мещанского счастья?
Возвращаясь опять к более и более освобождающейся в этом веке новогреческой национальности, необходимо прибавить еще, что и тот в высшей степени важный элемент, греческое монашество, об ослаблении которого я с сокрушением сердца только что говорил, держится еще и сильно иногда влияет в греческой мирской среде, преимущественно благодаря тому, что греки еще не достигли своего полного национального освобождения и объединения.
Я уже прежде гораздо подробнее и нагляднее, чем здесь, объяснял в I томе моего сборника{7} (в статье «Русские, греки и юго-славяне»), что «интеллигенция» греческая гораздо «рационалистичнее» и суше в деле религии, чем наша, и потому тот, кто желает знать ближе мои на нее взгляды, может прочесть ту статью…
Здесь я упоминаю об этом лишь для того, чтобы сделать одно предположение – и вывести из него естественный вывод.
Если бы предположить, что греки достигли своего наиполнейшего (возможного в их мечтаниях и невозможного, слава Богу, на деле) объединения даже со столицей в Царъграде, то чего бы можно было ожидать по прежним примерам?..
Конечно, глубочайшего падения Православия – и больше ничего!
Теперь греческая «интеллигенция» еще держится за Патриархов, за духовенство свое и на монастыри не может посягнуть прямо, минуя турецкую (столь часто, увы, спасительную для христианства) власть! Эта самодовольная в мелком европеизме своем интеллигенция держится за Церковь в Турции лишь потому, что она до поры до времени ей оплот и удобный представитель среди иноверных сил и иноплеменных влияний…
Я сам знал лично и таких людей между образованными и весьма влиятельными греками, которые пламенно желали в 72-м году церковного разрыва не только с болгарами, но и с Россией и употребляли все усилия, чтобы довести до этого безумия свое духовенство. Духовенство же, хотя и недовольное русскими за их эмансипационное болгаробесие, не позволило себе такого неканонического шага.
Некоторые из мирских греков мечтали даже, что, именно оторвавшись от славянства, они создадут новую, свою особую оригинальную религию. Как это на них похоже! Таков, между прочим, был в 72-м году г. Марули, человек очень образованный и способный, восседавший немного позднее на боннской конференции, как представитель строго догматического Православия.
В 72-м году, в городе Серресе, в доме г. Конто, русского «ad honores»{8} вице-консула, он сказал мне так:
– Какая нам потеря от полного разрыва с Россией? Я уверен, что греческое племя, уже давшее миру прежде две великие религии – древнеэллинскую и православную, – в силах создать и третью, тоже великую…
На это я ему ответил так:
– Для того чтобы создать, как вы говорите, новую веру, надо самому сильно веровать; нужно иметь глубокие мистические порывы и потребности. А я именно этих-то порывов и потребностей не вижу вовсе ни в вашем образованном классе, ни в народе, хотя и живу с ним здесь в дружеском общении вот уже скоро десять лет. В России этих чувств в высшем классе общества гораздо больше, чем у вас. Мы начинаем пресыщаться рационализмом, а у вас он только что начал расти. Отделясь от России, вы только разрушите свою Церковь и повергнете скоро нацию вашу в безбожие. У нас и мужики создают секты под влиянием мистических стремлений, а у вас, кроме чистого деиста Кайра, в этом роде не было никого.
Умный Марули внимательно поглядел на меня через золотые очки свои и задумчиво замолчал. Года через два-три (кажется) он был послан в Бонн для рассуждений об «исхождении Св. Духа»{9} и т. п. предметах».
Это один из лучших представителей греческой интеллигенции, большого ума человек.
«Отрицание» до поры до времени, до желательного окончания либерально-национального вопроса, отрицание относительно религии, довольно, впрочем, осторожное. И больше ничего. Не по-болгарски дерзкое и преступное…
И во всех других отношениях ничего особенно национального, кроме политического патриотизма; ничего творческого, ничего поражающего. Ничего, кроме самой обыкновенной европейской демократии…
Современная, довольно грубоватая французская буржуазность, переведенная на величавый язык Иоанна Златоуста и Фукидида, – и только… Вот плоды так называемого национального возрождения греков.
V
Я сказал, что Меттерних, кажется, один только из всех влиятельных современников первого греческого восстания понимал истинный характер этого движения. Если при этом он имел другие соображения, собственно как австрийский министр, если он боялся, что, потрясая и ослабляя Турцию, это движение греков слишком усилит (со временем) Россию, то такого рода частное политическое соображение чисто австрийского рода ничуть не уменьшает силы его общеисторической прозорливости. Плоды национально-греческого движения оказались общедемократическими европейскими плодами.
Многие эллинофилы того времени, ожидавшие от «возрождающихся» эллинов чего-то особенного, были впоследствии глубоко разочарованы.
Байрон скончался, не видавши той демократической казенщины, которая воцарилась очень скоро у подножия Акрополя; но другие филэллины 30-х годов дожили и до нашего времени. Покойный Михаил Николаевич Муравьев-Виленский, уже старцем встречая в Западном крае молодого короля эллинов, когда он ехал в Петербург (в конце 60-х годов), сказал ему приветственную речь и в ней, между прочим, упомянул и о том, что он в молодости сам был эллинофилом и что «греки обманули ожидания всех своих прежних друзей».
Разочаровался в «свободных» греках и Государь Николай Павлович, который сделал так много для их эмансипации.
Во время трехлетней борьбы нашей с Турцией и ее союзниками на Дунае, в Крыму и за Кавказом (53–56) свободные греки, даже и стоявшие за нас, жаловались, что Государь не хочет для Эллады ничего сделать. Греческий публицист Реньери, вообще в то время благоприятный нам, приводил даже следующие слова Государя Николая I (слова, сказанные, кажется, Сеймуру): «Этому демагогическому народу я не дам ни пяди земли».
Документов у меня под рукою нет, пишу на память, и если вкралась какая-нибудь неточность, прошу мне ее извинить.
Но как бы то ни было, как бы ни изменил своего взгляда на греков свободного королевства Государь Николай I, ко времени Крымской войны, в 29 году, он им помог освободиться больше, чем кто-либо другой на всем свете. Не Наварринская битва окончила неравную, жестокую и долголетнюю борьбу их с Турцией, но взятие Дибичем Адрианополя. Начнись подобное движение не в 21 году, а десять лет позднее – в 31 г., едва ли бы Николай Павлович стал бы ему благоприятствовать. Вернее, что он постарался бы утушить его в начале.
Государь Николай I был истинный и великий «легитимист».
Он не любил, чтобы даже и православные «райя» позволяли себе бунтовать против султана, он самому лишь себе основательно предоставлял законное право побеждать и подчинять султана, как Царь царя.
Но и у великих людей определенный образ мыслей слагается не вдруг, и для них нужны время и опыт, необходимы сильные впечатления жизни.
Вооруженное заступничество его за греков благополучно окончилось прежде июльской революции во Франции и польского восстания 30 года.
Эти последние события имели, видимо, сильное влияние на его взгляды и, конечно, определили дальнейший, в высшей степени охранительный характер его блестящего Царствования.
Неудачный и легкомысленно либеральный дворянский бунт декабристов не мог еще внове так повлиять глубоко на его царственный ум, как потрясли и вразумили его позднее происшествия 30-х годов. С этих годов Государь стал противником всякой эмансипации, всякого уравнения, всякого смешения и у себя, и у других. Уверяют, будто бы он желал освободить наших крестьян, но не успел. В пользу этого мнения есть много важных указаний. Но я все-таки думаю, что, и не скончайся он в 55-м году, все бы он не решился этого дела начать. У замечательных государственных людей есть чутье, есть какой-то эмпирический инстинкт, подобный тому, какой бывает у хороших врачей-практиков. Этот инстинкт, не зная еще соответственной делу теории, уже предчувствует ее и действует сообразно с нею. И точно так же, как у хороших врачей-практиков, – недостаточные и даже ошибочные объяснения, по незрелой и неясной еще теории, ничуть не мешают правильным действиям, так бывает и у государственных людей. Теперь, к концу XIX века, теория социальная должна начать склоняться мало-помалу опять к идеалу неравноправности, мистической дисциплины, сильной власти и т. д. Это особенно разительно, если сравнить конец XVIII века с концом нашего. Вспомним, какая тогда была вера во благо эгалитарного и демократического прогресса! Какие надежды на индивидуальный и собирательный разум человечества! Вспомним, как в Париже праздновали праздники в честь этого «разума». На какие только жертвы и на какие только ужасы не были готовы тогда самые даровитые и искренние люди во имя «равенства и свободы»!
И теперь толпы еще стремятся к наибольшему уравнению и будут еще долго стремиться к нему, проливая даже кровь… Будет еще много людей способных и прямых, которые станут охотно служить этим стихийным инстинктам толпы, не говоря уже о людях только честолюбивых и коварных, готовых стать во главе всякого движения… Все это так, но все-таки чувствуется, что в высших умственных сферах этой прежней пламенной веры во благо демократического прогресса уже давно нет и что розовым надеждам этой вчерашней старины уже не вернуться более! И во всемогущество и всеблагость «разума» человеческого кто же из нас в эти последние года XIX века верит так безусловно, так богомольно, как верили в него прежде самые великие умы? Никто!
Можно и в наше время, положим, верить в еще большие успехи демократии и всеобщей ассимиляции в одном общем типе «среднего европейца». Можно верить, но только в самые успехи, а не во благо этих успехов. Мы верим и в неизбежность старости и смерти своей, и в неотвратимость множества других бедствий, скорбей и разрушений. Мы верим, но не любим их.
Что касается до социальной науки, то раз она принуждена была допустить, что всякое общество и государство, всякая нация и всякая культура – суть своего рода организмы, – а во всяком организме развитие выражается дифференцированием (органическим разделением) в единстве, то она должна допустить и обратное, то есть что близость разложения выражается смешением того, что прежде было дифференцировано, а потом, при большой однородности положений, прав и потребностей, ослаблением единства, царившего прежде в богатой разновидности составных частей.
Распадение же на части, как результат ослабления единства, есть конец всему.
Ибо «состояние однородности есть состояние неустойчивого равновесия».
И Наполеон I, по свидетельству Тьера, находил, что на французской почве (даже и его времени) трудно было что-нибудь строить, ибо она «как песок». Он мечтал создать военное дворянство; советовал ученым образовать крепкие корпорации наподобие монашеских и т. д.
Он тоже, не зная таких теорий, которые становятся возможными только в наше время, государственным инстинктом своим чувствовал эту истину общественной статики. Эгалитарное смешение сословий и сильное стремление к сплошной и вольной однородности, вместо прежнего деспотического единства в разнообразно и сдержанно антагонистической среде, – вот первый шаг к разложению.
Будем же и мы продолжать служить этому смешению и этой однородности, если хотим погубить скорее и Россию, и всё славянство!







