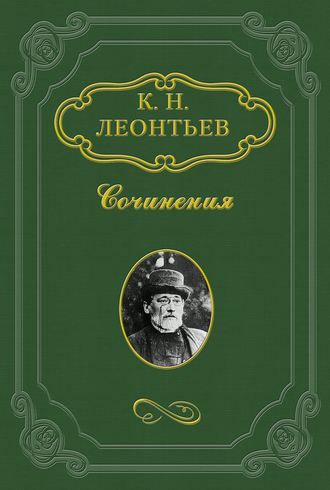
Константин Николаевич Леонтьев
Культурный идеал и племенная политика
Одним словом, употребляя любимое выражение И. С. Аксакова, можно сказать: Православие есть сущность русской народности. Можно ли против этого спорить? Конечно, и самый злейший враг Православия должен с этим аксаковским положением согласиться.
Поэтому казалось бы самым естественным делом назвать национальной ту политику, которая не только в пределах своего государства, но и за пределами его поддерживала бы именно эту народную сущность во всех ее проявлениях?
Однако, когда в <18>60 и <18>70-х годах все более и более распалялась распря между Вселенским патриархом и болгарской частью его паствы, национальной политикой считалась в России не защита одного из главных духовных представителей Православия (этой сущности русской национальности), а поддержка бунтующих против него и канонически неправых болгар.
Главные два проповедника национальной у нас политики, Катков и Аксаков, оба были до конца жизни своей на стороне сродного племени и против иноплеменных представителей – нашей духовно-культурной сущности.
И не только публицисты наши, но и само тогдашнее правительство, в лице гр<афа> Игнатьева, кн<язя> Горчакова и гр<афа> Дм<итрия> Ан<дреевича> Толстого (бывшего в то время обер-прокурором Св<ятого> Синода), вело тогда нашу политику в смысле племенном, а не в смысле поддержки церковных основ нашей народности, не в смысле аксаковской «сущности».
И все называли тогда такую политику (племенную) – а не обратную – национальной. Тех же немногих, которые были богобоязненнее «или искреннее» Каткова и дальновиднее Аксакова (Т. И. Филиппова, Н. Н. Дурново и меня), – звали греками, фанатиками-фанариотами, представителями «казенного» православия{10} и т. д.
Итак, в этом случае выражение «национальная политика» означало не политику религиозно-национальных основ, а политику племени, племенную, и вместе с тем противоосновную (революционную).
Возьмем и еще пример – иноземный. Католицизм и для большинства французского народа, и для итальянского сплошь был издавна такой же религиозной основой (или «сущностью»), какой было и есть Православие для России.
Кто же вел лет 30–25 тому назад национальную политику по отношению и к итальянскому единству, и к итальянской эмансипации от «тедесков и попов»{11} (как говорилось тогда) – Франция или Пьемонт? И Пьемонт, и Франция. Пьемонт выиграл, Франция проиграла. Пьемонт выиграл потому, что шел «преднамеренно» и прямо по пути противоосновному, революционному, т. е. по тому пути, по которому все шло (и все пока идет еще и теперь в XIX веке).
Пьемонт шел открыто против католичества, против своей вековой религиозной основы. Французские государственные люди ошиблись и проиграли дело, ибо, не понимая (как не хотите понять и Вы, г-н Астафьев) всей глубокой революционности племенного начала в международной политике, они надеялись одной рукой поддержать папство – в то самое время, когда другая рука их будет способствовать созданию единства либерально-племенной Италии.
И Франция, и Италия обе вели тогда именно ту политику, которая обыкновенно зовется национальной, и обе пришли к результату – противоосновному, «к потрясению» папства; обе пожали революционные плоды: Италия преднамеренно и прямо; Франция неожиданно и против воли своей.
О Германии и говорить нечего; у немцев, если взять их всех вместе и с австрийскими, – нет одной общей религиозной основы или «сущности»; католиков немного разве менее, чем протестантов; не говоря уже о том, что один ревностный католик по силе своей равняется, по крайней мере, троим протестантам. В Германии национально-государственное дело является с этой стороны чисто племенным, вне религии стоящим. И чем это дело будет более оконченным (после присоединения и австрийских немцев), тем оно станет более безосновным в религиозном отношении, тем сильнее выразится чисто племенной характер германского национального единства.
Уже и теперь император Вильгельм II в недавней речи своей офицерам сказал:
– Необходимо поддерживать в солдатах религиозное чувство; но при этом обращать внимание не на различие догматов, а на нравственную сторону дела.
Куда это ведет? Ведь и Робеспьер заботился о Верховном Существе и о чистой этике!
Однако – за блестящий образец вполне национальной политики считается германская политика последнего 30-летия. Франция послужила политике племенных национальностей во вред и на гибель себе. Италия и Германия послужили, самим себе на славу (до поры до времени), этой самой национальной политике. Их политика уже всеми называется прямо национальной.
* * *
Еще два-три слова.
Г-н Астафьев – философ, и потому он обязан быть хорошим терминологом. Но политическая терминология в его заметке мне не кажется особенно удачной (счастливой).
Из брошюры моей[4] он должен был видеть, что я слово революция понимаю по-прудоновски, т. е. я называю революцией то стремление обратить всех людей в среднего европейца или тот процесс всеобщей ассимиляции, которые Прудон считает истинной целью человечества на земле и которые так ужасают Дж. Ст. Милля и Герцена.
Такой революции (т. е. ассимиляции) служат не одни мятежи, цареубийства и восстания, но и самые законные демократические реформы, и всемирные выставки, и однообразие обучения, и однородные вкусы и моды, и равнодушие в деле религии, и даже все изобретения ускоренного обращения.
Если это мое широкое понимание слова «революция» показалось г-ну Астафьеву неправильным, то он мог бы прямо на это возразить… Но говорить по поводу моих нападок на космополитизм и ассимиляцию, что «даже и в религии не раз пытались искать освящения для теорий народовластия, цареубийства и революции…» – это как будто вовсе некстати.
Я до цареубийств, трактуя о революции ассимиляционной, вовсе и не касался; да и касаться мне их было вовсе и не нужно; ибо цареубийство, как бы ужасно и беззаконно оно ни было, само по себе вовсе еще не есть действие, всегда благоприятствующее революции в моем (или прудоновском) смысле – т. е. всеобщей демократической или буржуазной ассимиляции.
Убиение французских королей Генриха III и Генриха IV было действительно освящено католической религией, но оба эти цареубийства ассимиляционной революции ничуть не послужили, и сами направлявшие руку преступников не эту ассимиляцию имели в виду. Так что ни сознательно, ни непредвиденно (и это ведь бывает) оба эти преступления в пользу моей (и прудоновской) революции не действовали. Вообще было много и реакционных посягательств на жизнь людей, стоявших во главе того или другого государства. Густав III шведский был убит дворянином Анкарстремом из побуждений аристократических; реакционный же характер (в пользу рабовладельчества) носило и убийство президента Линкольна в Соединенных Штатах. На жизнь Наполеона I посягали роялисты, люди, уж конечно, не расположенные потворствовать уравнительной революции…
Мятежи и восстания тоже не всегда имели цели либерально-демократические (ассимиляционно-революционные), а носили нередко, как всем известно, весьма реакционный характер.
Раз мое понимание слова «революция» г-ну Астафьеву не понравилось, нужно было сказать мне, что я не так его употребляю. Но ставить рядом слова «народовластие, цареубийство и революция», в смысле восстания или кровавого переворота снизу, противополагать их все вместе представлению о медленном и нередко вполне мирном и законном процессе всемирной ассимиляции – право, этот прием не совсем удобный!..
Впрочем, все это до того у ж просто, что долго рассуждать об этом мне как-то и совестно.
Лучше я напомню г-ну Астафьеву вот что:
В 188… году он читал публичные лекции… <пропуск в тексте> и потом издал эти лекции отдельной брошюрой.
На этих лекциях и в этой брошюре он удостоил мои прежние труды особенно лестного внимания и про мою гипотезу вторичного разрушительного смешения выразился, что…{12} Но ведь это смешение и есть наилучший и наискорейший путь к ассимиляции. Если с тех пор г-н Астафьев изменил свой взгляд на эту мою гипотезу и стал находить, что процесс сословного, религиозного, областного и племенного смешения весьма охранителен или политически полезен, то это другое дело.
Если же он остался при прежнем хорошем своем мнении об этой моей мысли, то почему же он не хочет видеть, что рассуждение мое против политики племенных объединений есть не что иное, как приложение все той же общей теории предсмертного смешения к особому лишь частному случаю?
Сближаться политически со всеми остальными не русскими славянами – надо, но без доверия, без увлечения и поспешности, даже и в случае самых благоприятных для того обстоятельств. Не потому нужны это недоверие и эта медленность, что нельзя рассчитывать на дружбу славян. Нет – и дружба, и единство интересов найдутся, когда образуется славянская конфедерация; ибо один из членов этой конфедерации будет несоизмеримо сильнее всех других; боязнь и выгоды слабейших в этого рода делах суть самые верные залоги политические – верности. Но потому, что современная религиозная, монархическая, сословная и умственная реакция в России еще слишком слаба для того, чтобы Россия могла уже теперь безнаказанно связать свои исторические судьбы с судьбами всего славянства, особенно западного, австрийского.
Простое, т. е. только государственное, объединение итальянцев и немцев – достаточно для Италии и Германии.
Их культурное творчество – позади, в прошедшем; теперь, кроме опытов дальнейшего уравнения, им ничего не может глубокого предстоять. Культурно – весь Запад уже истощился.
Но наше «национальное самосознание» не должно удовлетвориться таким упрощенным и бесплодным европейским идеалом, а искать надо нам чего-нибудь более глубокого и широкого по содержанию. Иначе Вл. С. Соловьев будет совершенно прав, говоря:
– Куда нам, по Данилевскому, противополагать себя целой европейской цивилизации и претендовать на создание нового культурного типа! Русская цивилизация есть цивилизация европейская – и больше ничего. Частная форма общего европейского типа, весьма вдобавок небогатая содержанием.
Г-н Соловьев ошибется, наверно, только в одном: не с папством мы примиримся в новом и могучем догматическом и политическом единении; не римскому католицизму мы принесем в жертву те национальные основы наши (которыми мы оба с г-ном Астафьевым так дорожим) – нет, мы принесем эти основы в жертву общечеловеческой демократии и через ее посредство – еще гораздо более нынешнего – приблизимся духом к той всесветной буржуазии, которая поглощает мало-помалу все на земном шаре. Ибо даже и социалисты, и рабочие хотят быть все-таки буржуа. Это неизбежно только в случае, если над нашей русской религиозностью, над монархическими нашими убеждениями, над сословными наклонностями нашей национальной почвы мы, в погоне за одной чисто племенной государственностью, дадим восторжествовать в среде объединенного славянства – свободе, парламентаризму и религиозному равнодушию, которые не только глубоко въелись в души чешских, сербских и болгарских интеллигентов, но и в России еще вовсе не так вытравились, как многие воображают…
Я говорю: если бы после счастливой войны Австрия в развалинах лежала бы у ног наших, то и тогда надо подать ей руку и восстановить ее в прежних, додунайских, пределах.
И это необходимо сделать с двумя целями.
Во-первых, Габсбурги после подобного торжества могут служить как превосходное орудие против гогенцоллерновой гордости. Они в Германии еще не забыты!
А во-вторых – как я уже не раз говорил, – долгое существование Австрии даст нам время устояться в среде строго православной Восточной конфедерации с Царьградом во главе и предохранит эту конфедерацию от неизбежных уступок и сделок со славянами – католическими и либеральными.
Довольно! Рассуждать больше обо всем этом я не буду; спорить не желаю.
Что-нибудь одно из двух: или на г-на Астафьева нашло непостижимое затмение; или моя брошюра до того дурно написана, что я из поклонника национального идеала нечаянно попал в противники и, воображая, что я этот идеал берегу и защищаю, по неумелости моей оказал ему медвежью услугу.
Я не хочу быть пристрастным к себе, не решаюсь обвинить г-на Астафьева в непонятливости – и потому охотно беру вину этого странного недоразумения на себя.
Меа culpa! Mea culpa!{13}
Мои мысли, вероятно, так неискусно изложены, что даже и такого ученого человека, как г-н Астафьев, это мое недостоинство ввело в глубокое заблуждение насчет целей и намерений моих.
Г-н Астафьев убежден, что он понял мою брошюру; я же сознаюсь, что в его заметке ничего не могу понять и очень жалею об этом.
Сознаюсь и каюсь еще в одном.
Озаглавил я мою брошюру неудачно: «Национальная политика» и т. д. Надо бы озаглавить ее: «Национально-культурный идеал и политика племенных объединений».

Так было бы яснее.
Я дурно озаглавил мою брошюру не потому только, что заглавие ее очень длинно, но еще более потому, что захотел некстати придержаться общепринятого выражения «национальная политика». «Племенная политика», «политика племенных объединений» – это название принадлежит мне. Я первый стал употреблять его. Оно гораздо определеннее, чем название «политика национальная».
Последний эпитет, общепринятый, употребляется в самых разнообразных смыслах. Иногда она значит – просто политика твердая, независимая, самостоятельная. Иногда она значит – политика поддержки религиозных основ, скрепляющих нацию; иногда, напротив, ниспровержение этих основ во имя племенных стремлений.
Наполеон III ввел, так сказать, в моду в XIX веке политику племенных объединений, «политику национальностей». Он способствовал освобождению и объединению Италии; для Италии его национальная политика была политикой племенной. Но он хотел поддержать папство, как религию для Франции исторически национальную. Значит, для Франции его политика была политикой религиозных основ.
Мы отказываемся от участия в Берлинской конференции по рабочему вопросу{14} – и эту прекрасную политику можно назвать национальной (самобытной, даже имеющей культурно-обособляющий смысл).
Мы вводим в Остзейских провинциях общеевропейские (англо-французские) суды на русском языке. И это, говорят, национальная политика…
В <18>60 и <18>70-х годах мы поддерживали болгарское движение против константинопольского патриарха – это звали национальной политикой (в смысле племенной эмансипации).
Теперь мы от болгар отшатнулись – и стали несравненно внимательнее относиться к Православию, и это национальная политика (в смысле национальных религиозных основ)…
Национальность вообще можно графически вообразить себе в виде площади пересечения двух кругов. На одном написано культура (т. е. совокупность религиозных, государственных и бытовых отличий), а на другом – племя (т. е. совокупность природно-физиологических и лингвистических <отличий>).
Перетягивая жизнь в сторону более идеальную, мы усиливаем в нации весь слой культурный – силы и особенности. Перетягивая жизнь в сторону этно-природную, почти чисто-физиологическую, мы содействуем разрушению или – что в сущности то же самое – космополитизму, революции всеуравнивающей (всеобщей ассимиляции). Это случалось не всегда – в XV, XVI и XVII веках племенные объединения в России, Франции, Испании и Англии способствовали культурному обособлению этих наций. В XIX веке объединение Италии и Германии обнаружило ассимиляционный характер.
Что будет в XX <веке> – не знаю; но думаю, что русским очень полезно иметь все это в виду.
И тот не нападает на культурно-национальный идеал, который говорит, что хотя до сих пор в истории каждая культура требовала особого племени для своего воплощения, но ведь может настать и пора торжеству одной всемирной цивилизации, которой покорятся все племена волей и неволей…
Мы не хотим этого! Похвально. Но если не хотим, то наше «национальное самосознание» должно быть ясно, и мы из примеров других (должны) поучаться, что опасно для нашего культурного идеала и что <нет>. Например, открытая вражда, чья бы то ни было, не так для него опасна. Гораздо опаснее близкая дружба с единоплеменниками, зараженными, быть может, неизлечимо – общеевропейскими вкусами и привычками.







