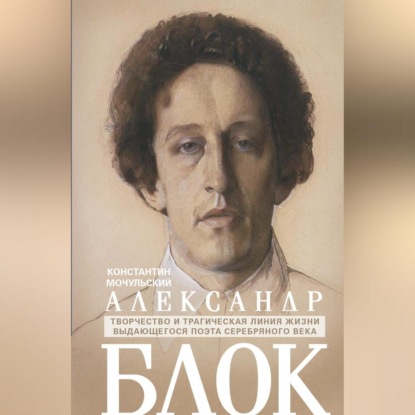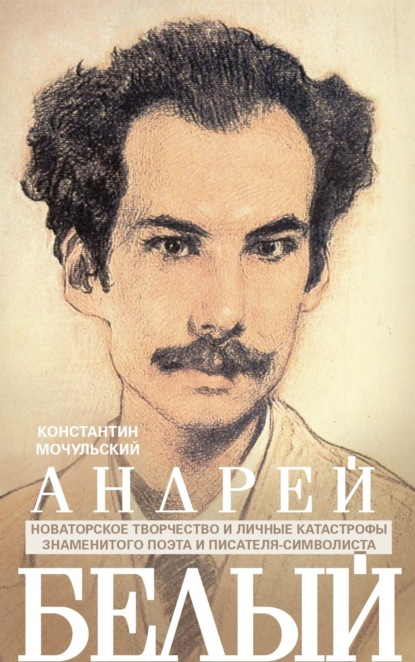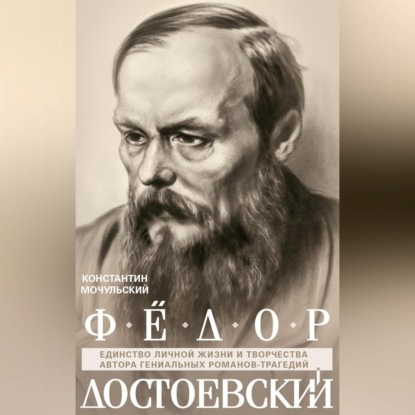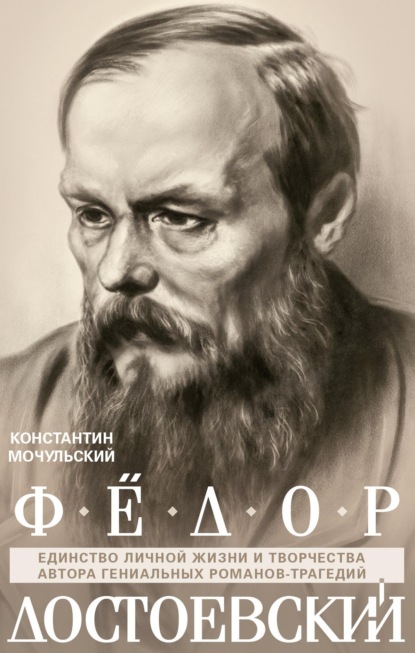
Полная версия:
Константин Васильевич Мочульский Федор Достоевский. Единство личной жизни и творчества автора гениальных романов-трагедий
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Константин Васильевич Мочульский
Федор Достоевский
Единство личной жизни и творчества автора гениальных романов-трагедий
Человек есть тайна.
Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком.
Светлой памяти моего друга
Юры Скобцова
© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2024
© «Центрполиграф», 2024
Предисловие
Достоевский прожил глубоко трагическую жизнь. Его одиночество было безгранично. Гениальные проблемы автора «Преступления и наказания» были недоступны современникам: они видели в нем только проповедника гуманности, певца «бедных людей», «униженных и оскорбленных». Людям XIX в. мир Достоевского представлялся фантастическим. Тургенев, Гончаров и Лев Толстой эпически изображали незыблемый строй русского «космоса» – Достоевский кричал, что этот «космос» непрочен, что под ним шевелится хаос. Среди всеобщего благополучия он один говорил о кризисе культуры и о надвигающихся на мир неслыханных катастрофах. Исступление и отчаяние автора «Записок из подполья» казались современникам чудачеством и болезнью. Достоевский был прозван «больным, жестоким талантом» и скоро забыт. Духовная связь между писателем и поколениями 80-х и 90-х гг. порвалась. В начале XX в., перед первой революцией, символисты «открыли» Достоевского. Исторические устои русской жизни заколебались; родились новые души, с новым трагическим мироощущением. Автор «Бесов» стал их духовным учителем; они были охвачены его пророческой тревогой. В книгах и статьях Н. Бердяева, Д. Мережковского, С. Булгакова, А. Волынского, В. Иванова и В. Розанова впервые раскрылась философская диалектика Достоевского, впервые была оценена произведенная им духовная революция. Творчество писателя приобрело третье измерение: метафизическую глубину. Заслуга символистов – в преодолении чисто психологического подхода к создателю «романов-трагедий». XX в. увидел в Достоевском не только талантливого психопатолога, но и великого религиозного мыслителя.
Второе «открытие» Достоевского произошло после революции 1917 г. В 1905 г. катастрофа только предчувствовалась и давала о себе знать глухими подземными толчками, в 1917 г. она разразилась. С самодовольным «культурным» благополучием XIX в. было навсегда покончено. Россия, а с нею и весь мир вступали в грозную эру неведомых социальных и духовных потрясений; предчувствия автора «Бесов» оправдались. Катастрофическое мировоззрение «больного таланта» становилось духовным климатом эпохи.
В истории изучения Достоевского 1921 г. – столетие со дня его рождения – важная дата. В России и за границей появляется ряд молодых исследователей (А. Долинин, В. Комарович, Л. Гроссман, Г. Чулков, В. Виноградов, Ю. Тынянов, А. Бем), которые кладут начало научному историко-литературному изучению творчества великого писателя. Публикуются архивы, издаются неизвестные или забытые произведения Достоевского, появляется полное собрание его писем; значительно обогащается мемуарная литература, выходят многочисленные монографии и сборники статей. Из новых публикаций наибольшую ценность представляет обнародование записных тетрадей Достоевского. Черновые наброски и заметки к «большим романам» полны захватывающего интереса. В них раскрывается лаборатория его творчества: на наших глазах рождаются, растут и развиваются его идеологические и художественные замыслы. Генезис романов-трагедий и законы их построения доступны теперь для исследования.
Поколение символистов открыло Достоевского-философа; поколение современных исследователей открывает Достоевского-художника. Миф об эстетической бесформенности и стилистической небрежности автора «Карамазовых» разрушен окончательно. Изучение поэтики писателя, его композиции, техники и стиля вводит нас в эстетический мир великого романиста.
Жизнь и творчество Достоевского неразделимы. Он «жил в литературе»; она была его жизненным делом и трагической судьбой. Во всех своих произведениях он решал загадку своей личности, говорил только о том, что им лично было пережито. Достоевский всегда тяготел к форме исповеди; творчество его раскрывается перед нами, как одна огромная исповедь, как целостное откровение его универсального духа. Это духовное единство жизни и творчества мы пытались сохранить в нашей работе.
Глава 1
Детство и юность
В XVII в. одна из ветвей древнего литовского рода Достоевских переселилась на Украйну. Дед писателя был священником; отец, Михаил Андреевич, пятнадцатилетним мальчиком бежал в Москву, окончил там Медицинскую академию, участвовал в Отечественной войне и с 1821 г. состоял главным врачом в Мариинской больнице в Москве. Это был человек тяжелого нрава, вспыльчивый, подозрительный и угрюмый. На него находили припадки болезненной тоски; жестокость и чувствительность, набожность и скопидомство уживались в нем. Жена его, Мария Федоровна, из купеческого рода Нечаевых, кроткая и болезненная, благоговела перед мужем. Федор Михайлович сохранил от матери миниатюру с летящим ангелом:
J’ai le cœur tout plein d’amour,Quand l’aurez-vous à votre tour?[1]Переписка между родителями Достоевского полна чувствительности. Отец пишет: «Не забывай меня, бедного, бесприютного», «не забывай меня, бедного горемыку». Мать отвечает: «Не горюй, голубчик мой… Да скажи мне, душа моя, что у Тебя за тоска такая, что такие за размышления грустные и что Тебя мучает, друг мой? У меня сердце замирает, когда воображу Тебя в таком грустном расположении. Умоляю Тебя, ангел мой, божество мое, береги себя для любви моей…»
От сентиментальных излияний отец быстро переходит к хозяйственным заботам: после отъезда Марии Федоровны с детьми в деревню он пересчитывает суповые ложки, бутылки, склянки и женины платья, подозревая слуг в воровстве. «Напиши, – просит он жену, – не осталось ли твоих платьев, манишек, чепчиков или чего сему подобного, равно, что у нас в чулане, вспомни и напиши подробно, ибо я боюсь, чтобы Василиса не обокрала». Он постоянно жалуется на бедность. «Ах, как жаль, – пишет он жене, – что по теперешней моей бедности, не могу Тебе ничего послать ко дню Твоего ангела. Душа изнывает». Но бедности не было: Михаил Андреевич получал сто рублей ассигнациями жалованья, имел частную практику, казенную квартиру, семь слуг и четверку лошадей. В 1831 г. он купил имение в Тульской губернии, состоявшее из двух деревень – Даровое и Чермашня.
Федор Михайлович Достоевский родился в Москве 30 октября 1821 г. Брат Михаил был старше его на год, сестра Варвара на год моложе. По словам жены писателя, Анны Григорьевны, «Федор Михайлович охотно вспоминал о своем счастливом, безмятежном детстве и с горячим чувством говорил о матери. Он особенно любил старшего брата Мишу и сестру Вареньку. Младшие братья и сестры не оставили в нем сильного впечатления».
Воспоминания Анны Григорьевны носят характер агиографический; едва ли детство Достоевского было таким безмятежным. Мать называла Федю «настоящий огонь»; столкновения с отцом, страх перед ним и скрытое недоброжелательство рано развили в ребенке замкнутость и неискренность. «Не удивляюсь, друг мой, Федькиным проказам, – писала Мария Федоровна мужу, – ибо от него всегда должно ожидать подобных». А отец говаривал Федору: «Эй, Федя, уймись, несдобровать тебе: быть тебе под красной шапкой». Эта угроза рекрутчиной, хотя бы и шутливая, все же не свидетельствует о родительской нежности.
Дети трепетали перед отцом, боялись вспышек его гнева. Он преподавал Михаилу и Федору латынь. Младший брат Достоевского, Андрей Михайлович, вспоминает: «У отца братья, занимаясь нередко по часу и более, не смели не только сесть, но даже облокотиться на стол. Стоят, бывало, как истуканчики, склоняя по очереди mensa, mensae, или спрягая amo, amas, amat». Летом, когда доктор отдыхал после завтрака, кто-нибудь из детей был обязан липовой веткой отгонять мух.
Патриархальный строй семьи своеобразно сочетался с сентиментальным стилем эпохи. Слащавая восторженность писем Достоевского к отцу производит тяжелое впечатление. В 1838 г. он пишет Михаилу Андреевичу: «Любезнейший папенька! Боже мой, как давно не писал я к Вам, как давно не вкушал я этих минут истинного сердечного блаженства, истинного, чистого, возвышенного… Блаженства, которое ощущают только те, которым есть с кем разделить часы восторга и бедствий, которым есть кому поверить все, что совершается в душе их… О, как жадно теперь я упиваюсь этим блаженством!..» Письмо кончается просьбой денег.
Все письма Достоевского к отцу из Инженерного училища переполнены восклицаниями, моральными рассуждениями и жалобами на нужду. Чтобы растрогать крутого старика, юноша искусно играет на его слабых струнах. «Лагерная жизнь каждого воспитанника военно-учебных заведений, – пишет он в 1839 г., – требует, по крайней мере, 40 р. денег. (Я Вам пишу все это потому, что говорю с отцом моим.) В эту сумму я не включаю таких потребностей, как, например, иметь чай, сахар и пр. Это и без того необходимо, и необходимо не из одного приличия, а из нужды. Когда Вы мокнете в сырую погоду под дождем в полотняной палатке или в такую погоду, придя с учения усталый, озябший, без чая можно заболеть; что со мной случилось прошлого года на походе. Но все-таки я, уважая Вашу нужду, не буду пить чаю. Требую только необходимого на две пары простых сапогов – шестнадцать рублей».
Угроза не пить чаю подкреплена в другом письме моральными сентенциями: «Дети, понимающие отношения своих родителей, должны сами разделять с ними все – радость и горе; нужду родителей должны вполне нести дети. Я не буду требовать от Вас многого. Что ж: не пив чая, не умрешь с голода. Проживу как-нибудь…»
Дипломатия сына становится менее невинной, когда для уловления отца он пользуется мотивами более серьезными, чем отречение от чая. «Я сейчас только приобщался, – пишет он. – Денег занял для священника. Давно уже не имею ни копейки денег».
Двойственность натуры Достоевского и сложные противоречия его души уже приоткрываются в этих юношеских письмах.
После смерти жены, смиренная любовь которой смягчала деспотический нрав Михаила Андреевича, он вышел в отставку и поселился в своей деревне. Там он стал пьянствовать, развратничать и истязать крестьян. Один крестьянин села Даровое, Макаров, помнивший старика Достоевского, отзывался о нем так: «Зверь был человек. Душа у него была темная – вот что… Барин был строгий, неладный господин, а барыня была душевная. Он с ней нехорошо жил, бил ее. Крестьян порол ни за что». В 1839 г. крестьяне его убили. Андрей Достоевский рассказывает в своих воспоминаниях: «Отец вспылил и начал очень кричать на крестьян. Один из них, более дерзкий, ответил на этот крик сильною грубостью и вслед за тем, убоявшись последствий этой грубости, крикнул: „Ребята, карачун ему“. И с этими возгласами крестьяне в числе 15 человек накинулись на отца и в одно мгновение, конечно, покончили с ним». Дочь писателя, Любовь Достоевская, прибавляет: «Его нашли позже на полпути задушенным подушкой от экипажа. Кучер исчез вместе с лошадью».
В переписке Достоевского мы не найдем ни одного упоминания о трагической смерти отца. В этом упорном молчании в течение всей жизни есть что-то страшное. Друг писателя, барон Врангель, сообщает, что «об отце Достоевский решительно не любил говорить и просил о нем не спрашивать». А. Суворин намекает на «трагический случай в семейной жизни». «Падучая болезнь, – пишет он, – которою Достоевский страдал с детских лет, много прибавила к его тернистому пути в жизни. Нечто страшное, незабываемое, мучащее случилось с ним в детстве, результатом чего явилась падучая болезнь».
С этим вполне совпадает свидетельство доктора С. Яновского: «Федора Михайловича именно в детстве постигло то мрачное и тяжелое, что никогда не проходит безнаказанно в летах зрелого возраста и что кладет в человеке складку того характера, которая ведет к нервным болезням и, следовательно, и к падучей, и к той угрюмости, скрытности и подозрительности, на которую обыкновенно указывают, как на борьбу с нуждой, хотя таковой, по крайней мере в ужасающей степени, и нет».
То «страшное», о котором говорят Суворин и Яновский, была насильственная смерть отца. Но они ошибаются, относя это событие к детству писателя. Достоевскому было тогда 18 лет. Именно к этому возрасту относится резкий перелом в его характере. Веселый и шаловливый мальчик, «настоящий огонь», превращается в нелюдимого и задумчивого юношу; таким рисуют его товарищи по Инженерному училищу. Черты, отмеченные Яновским – угрюмость, скрытность, и подозрительность – наследие отца. Воображение сына было потрясено не только драматической обстановкой гибели старика, но и чувством своей вины перед ним. Он не любил его, жаловался на его скупость, незадолго до его смерти написал ему раздраженное письмо. И теперь чувствовал свою ответственность за его смерть. Это нравственное потрясение подготовило зарождение падучей. Проблема отцов и детей, преступления и наказания, вины и ответственности встретила Достоевского на пороге сознательной жизни. Это была его физиологическая и душевная рана. И только в самом конце жизни, в «Братьях Карамазовых», он освободился от нее, превратив ее в создание искусства.
Это, конечно, не значит, что Федор Павлович Карамазов – портрет Михаила Андреевича. Достоевский свободно распоряжается материалом жизни. Но «идея» отца Карамазова, несомненно, внушена образом отца Достоевского. Дочь писателя, Любовь Федоровна, пишет в своих воспоминаниях: «Мне всегда казалось, что Достоевский, создавая тип старика Карамазова, думал о своем отце». В отеческом доме, под почтенными формами строго налаженной жизни, мальчик рано стал замечать ложь и неблагополучие. Все романы Достоевского в глубоком смысле автобиографичны. И конечно, в рукописи «Подростка» он пишет о своей семье: «Есть дети, с детства уже задумывающиеся над своей семьей, с детства оскорбленные неблагообразием отцов своих, отцов и среды своей, а главное – уже с детства начинающие понимать беспорядочность и случайность основ всей их жизни, отсутствие установленных форм и родового предания». Семья штаб-лекаря Достоевского, захудалого дворянина и мелкого помещика, вполне подходит под формулу «случайное семейство».
Стареющий Достоевский живет в воспоминаниях детства: чтобы освежить их, он посещает давно уже проданное имение отца. Вспоминает о дурочке Аграфене, которая весь год ходила в одной рубахе, ночевала на кладбище и рассказывала всем о своем умершем ребенке. «Идея» отца, движущая роман «Братья Карамазовы», влечет за собой и образ дурочки Аграфены из села Даровое (Лизавета Смердящая), и название деревни Чермашня. В этом – косвенное подтверждение связи между Федором Павловичем Карамазовым и отцом Достоевского.
Замкнутый мирок семьи с однообразным уставом жизни, а за решеткой сада – парк больницы, в котором прогуливаются больные в колпаках и халатах; сказки мамки Лукерьи о жар-птице и Иване-царевиче; по воскресеньям – выстаивание обедни, по вечерам семейное чтение – вот детство Достоевского. Он сохранил память о толстой няне Алёне Фроловне, которая его, трехлетнего ребенка, учила молиться: «Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим». Чинные прогулки летом в Марьиной роще с назидательными беседами отца и ежегодные паломничества в Троице-Сергиеву лавру были большими событиями в жизни ребенка. На мальчика производили сильное впечатление церковная архитектура, стройное пение хора и толпы богомольцев. Впоследствии он вспоминал, что видел исцеление кликуш. «Меня, ребенка, очень это удивляло и поражало». Азбуке учила его мать по «Священной истории Ветхого и Нового Завета» с картинками. Потом стал приходить учитель-дьякон, который прекрасно рассказывал «из Писания». Достоевские нигде не бывали и гостей не принимали; братья жили без сверстников, почти без соприкосновения с внешним миром. Два-три раза их водили в театр. Достоевский запомнил представление «Жако или бразильская обезьяна» и позже игру Мочалова в «Разбойниках» Шиллера. С этого времени – ему было тогда десять лет – начинается страстное его увлечение Шиллером. Федор и Михаил, оторванные от жизни, рано погружаются в «мечтательство»; стихи Державина, Жуковского, Пушкина, повести Карамзина и романы Вальтера Скотта открывают перед ними волшебный мир вымысла. Они бредят чувствительными героями и средневековыми рыцарями. Михаил тайком пишет стихи, а Федор грезит «Веверлеем» и «Квентин Дорвардом». Его воображение наполнено картинами Венеции, Константинополя, сказочного Востока. Пушкина братья знают наизусть. После смерти поэта Федор говорил: «Если бы у нас не было семейного траура (их мать скончалась в 1837 г. – К. М.), я просил бы позволения отца носить траур по Пушкину».
Начитанность мальчика Достоевского огромна: «Юрий Милославский», «Ледяной дом», «Семейство Холмских», сказки Казака Луганского, романы Нарежного и Вельтмана, и особенно история Карамзина и его повести, – мальчик все читал и все запомнил. У него была не простая любознательность, а настоящая страсть к литературе. В набросках к ненаписанному роману «Житие великого грешника» писатель отмечает: «Подробный психологический анализ, как действуют на ребенка произведения писателей и пр. „Герой нашего времени“. Он ужасно много читает (Вальтер Скотт и пр.). Он сильно развит и много кое-чего знает. Гоголя знает и Пушкина. Всю Библию знал. Непременно о том, как действовало на него Евангелие. Согласен с Евангелием. Чтение о Суворове. Арабские сказки. Мечты». Запись эта, несомненно, автобиографична.
Для юноши Достоевского литературные впечатления важнее жизненных. Знакомство с В. Скоттом или Шиллером более определили его душевный строй, чем влияние природы или обстановка семейной жизни. Он по натуре своей человек внутренний, отвлеченный. Внутреннее всегда преобладало в нем над внешним. Напряженность душевной жизни грозила нарушением равновесия и подготовляла трагедию мечтателя, тщетно стремящегося к «живой жизни». Проблема «человека из подполья» восходит к «абстрактной», книжной юности писателя.
В 1833 г. братья Достоевские поступили в пансион Сушара, довольно невежественного француза, который вместе с женой кое-как обучал французской грамматике. Быт этого любопытного заведения изображен писателем в «Подростке». Через год мальчики перешли в патриархальный привилегированный пансион Леонтия Ивановича Чермака, в котором преподавали лучшие профессора Москвы; учителем русской словесности был известный ученый Давыдов. У Федора не было товарищей; он не умел сходиться со своими сверстниками. Каждую субботу больничная карета отвозила братьев домой, где их ожидали любимые книги. Мать умирала от чахотки. В 1837 г. она скончалась; смерть ее поразила Достоевского гораздо меньше, чем кончина Пушкина.
Михаил Андреевич решает переехать с младшими детьми в деревню, а старших, Михаила и Федора, поместить в Инженерное училище в Петербурге. В мае 1837 г. он отвозит их в столицу и для подготовки к вступительным экзаменам отдает в пансион Коронада Филипповича Костомарова. В «Дневнике писателя» Достоевский вспоминает об этом путешествии. «Мы с братом стремились тогда в новую жизнь, мечтали о чем-то ужасно, обо всем „прекрасном и высоком“, – тогда это словечко было еще свежо и выговаривалось без иронии. Мы верили чему-то страстно, и хоть мы оба отлично знали все, что требовалось к экзамену из математики, но мечтали мы только о поэзии и о поэтах. Брат писал стихи, каждый день стихотворения по три и даже дорогой, а я беспрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни. Тогда, всего два месяца перед тем, скончался Пушкин, и мы дорогой сговаривались с братом, приехав в Петербург, тотчас же сходить на место поединка и пробраться на бывшую квартиру Пушкина, чтобы увидеть ту комнату, в которой он испустил дух».
Венецианский роман был грубо оборван столкновением с русской действительностью: на станции в Тверской губернии Достоевский встретил фельдъегеря, «плотного и сильного детину с багровым лицом», который методически бил ямщика здоровенным кулаком по затылку. «Эта отвратительная картина, – продолжает писатель, – осталась в воспоминаниях моих на всю жизнь. Я никогда не мог забыть фельдъегеря, и многое позорное и жестокое в русском народе, как-то поневоле и долго потом наклонен был объяснять уже, конечно, слишком односторонне…» Таково было первое пробуждение от грез молодого мечтателя. Достоевский вспомнит о фельдъегере, создавая образ мучительства в сне Раскольникова (кляча, умирающая под ударами Миколки).
В пансионе Костомарова братья Достоевские погрузились в геометрию и фортификацию. Федор выдержал экзамен и в январе 1838 г. поступил в Инженерное училище. Михаил не был принят по состоянию здоровья и отправился в Ревель, в инженерную команду. Между братьями начинается живая переписка. Годы учения в Инженерном замке бедны событиями. Юноша тоскливо тянет лямку лекций, экзаменов, лагерных учений; с трудом подчиняется суровой муштре, зубрит ненавистную математику. В мрачном замке, в котором был убит Павел I, хранятся традиции выправки, молодечества и выслуги перед начальством. Но существует и «тайный дух»: два воспитанника, музыкант Чихачев и Игнатий Брянчанинов, окончив офицерские курсы, поселились послушниками в Сергиевской пустыни. Среди воспитанников училища были «брянчаниновцы». Возможно, что эта мистическая струя коснулась и юного Достоевского.
Романтический период жизни писателя ознаменован литературными увлечениями и пламенным культом дружбы. В Петербурге он знакомится с Иваном Николаевичем Шидловским, молодым чиновником Министерства финансов и поэтом. Шидловский пишет туманно-мистические стихи, страдает от возвышенной любви, вдохновенно говорит о Царствии Божием и сладостно мечтает о самоубийстве. Он разочарован: даже любимая женщина не может вдохновить его на великие создания, даже она «не сорвет аккордов с цевницы его, зачарованной благоуханием цветка нечаянного». В душе его звучат стихи Шиллера и Новалиса, веют бесплотные тени поэзии Жуковского, откликаются натурфилософские идеи Шеллинга. Он верит, что «человек есть средство к проявлению великого в человечестве, что тело, глиняный кувшин, рано или поздно разобьется». Достоевский в исступлении восторга пишет о Шидловском брату. В его письмах литературный стиль романтизма доведен почти до пародии. Юноша не только глядит на все глазами своего друга, но буквально чувствует его чувствами. Здесь впервые проявляется способность писателя к творческому перевоплощению.
В 1840 г. он сообщает Михаилу Михайловичу: «Ежели бы ты видел его (Шидловского) прошлый год… Взглянуть на него – это мученик! Он иссох; щеки впали; влажные глаза его были сухи и пламенны; духовная красота его лица возвысилась с упадком физической. Он страдал, тяжко страдал! Боже мой, как любит он какую-то девушку… Без этой любви он не был бы чистым, возвышенным, бескорыстным жрецом поэзии… Передо мной было прекрасное, возвышенное создание, правильный очерк человека, который представили нам и Шекспир и Шиллер; но он уже готов был тогда пасть в мрачную манию характеров байроновских. Часто мы с ним просиживали целые вечера, толкуя Бог знает о чем. О, какая откровенная, чистая душа! У меня льются теперь слезы, как вспомню прошедшее… Наступила весна; она оживила его. Воображение его начало создавать драмы, и какие драмы, брат мой!.. А лирические стихотворения его!.. Последнее свидание мы гуляли в Екатерингофе. О, как провели мы этот вечер! Вспоминали нашу зимнюю жизнь, когда мы разговаривали о Гомере, Шекспире, Шиллере, Гофмане… Прошлую зиму я был в каком-то восторженном состоянии. Знакомство с Шидловским подарило меня столькими часами лучшей жизни».
Скоро друзья расстаются, и навсегда. О дальнейшей судьбе Шидловского, русского романтика-мистика, мы узнаем из письма его невестки к Анне Григорьевне Достоевской в 1901 г. Шидловский скоро бросил писать стихи и стал работать над историей русской церкви. «Но ученая работа не могла всецело поглотить его душевную деятельность. Внутренний разлад, неудовлетворенность всем окружающим, вот предположительно те причины, которые побудили его в 50-х гг. поступить в Валуйский монастырь. Не найдя, по-видимому, и здесь удовлетворения и нравственного успокоения, он предпринял паломничество в Киев, где обратился к какому-то старцу, который посоветовал ему вернуться домой в деревню, где он и жил до самой кончины, не снимая одежды инока-послушника. Его странная, исполненная всяких превратностей жизнь свидетельствует о сильных страстях и бурной природе. Глубокое нравственное чувство Ивана Николаевича стояло нередко в противоречии с некоторыми странными поступками; искренняя вера и религиозность сменялись временным скептицизмом и отрицанием». В своем имении Шидловский то кутил с драгунами, то проповедовал. «Еще долго по окраинам Харьковской губернии можно было видеть у входа в шинок человека высокого роста в страннической одежде, проповедовавшего Евангелие толпе мужиков».