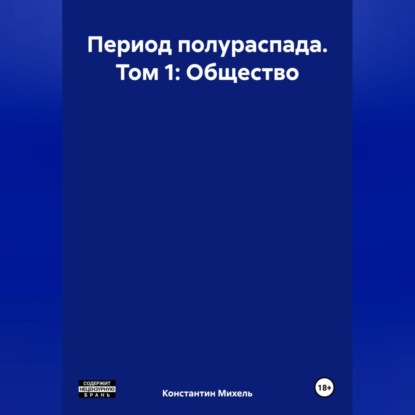Полная версия:
Константин Михель Перун
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Константин Михель
Перун
После сражение, в обугленных, разорённых пространствах, я сидел и дрожал телом, вобрав боль, желание жить и дышать свободно. По разорённому на чувства лицу капал дождь, отпрыгивая в стороны и стараясь шаловливо запрыгнуть в карманы и другие сложенные пространства. Может быть, это были мои слёзы или чьи-то иные – не знаю. Рядом лежали тела – они молча застыли и не плакали, хотя и по их холодным лицам текли ручьи, заливая нашу линию окопа в лужу. Где-то по набежавшей свежей и ненужной воде плюхали ноги. Тяжело и испуганно они плюхали – то ли спасались, то ли убивали, то ли умирали. Пока я, зажав уши, старался дышать и не потерять тело, отвязавшись слишком жалкой душой, череда шла дальше.
– Давай, давай! Вперёд! – меня тянули на смерть.
В страхе поддаваясь, даже не веря, что можно отвертеться, я встал, держа автомат в руке.
– Иди! Туда! – кто-то тянул меня и махал рукой, а сам бежал в другую сторону.
Не давать же усилиям человека пропасть – так и решил, поэтому побежал в сторону лесополосы. Надо было прятаться, а я бежал. Где-то стреляли. Взрывались гранаты, прилетали дроны на крошечных верёвочках – как поздравительные шарики. Всё это могло напоминать праздник, для совсем плохо видящих или непонимающих. Тут умирали, а потому понимание приходило быстро – или смерть.
Скулящий одинокий ветер поднимал осенние листья и ревел – будто стреляли в него и попадали каждый раз в сердце. Оно там у него зарастало, а новые пули ещё раз попадали, и гранаты, и дроны, и бомбы – всё попадало. Он ревел от тоски и злобы на всё, метал ветки и всякую грязь. Объединив с ним силы, дождь хлестал мокрыми плетьми, а земля связывала ноги в себе. Вспышки молнии били везде. На призыв людей природа отвечала гораздо большим и сносила всех с ног.
Впереди меня, в ста метрах, в лес ударила молния. С огромным треском, словно мир проснулся и недоволен. Я прыгнул в тёмные кусты, чтобы не попал пулемётчик – он меткий, а мне совсем не везло здесь. Да и везде. Поэтому, со страху, прятался куда угодно.
Странный звук был чуть вдалеке. Затянутый и невероятно уверенный – даже наглый. Он резал душу, пробуждая то ли инстинкты, то ли воспитанность – где-то плакал ребёнок. Не помня себя, пробежал сквозь кусты, изрезался шиповником и другими колкостями, плакал, и всё равно бежал.
Посреди опушки, где трещали от недовольства людьми вековые сосны, что держали кричащее чёрное небо, лежал голый ребёнок. Без пелёнок, без культуры – на голой земле, сиротой. Светленький и уже покойный. Рядом с ним лежала змея. Ребёнок потянул её за хвост, да и выкинул – мёртвая и неинтересная.
– Откуда ж ты такой… – проговорил я, падая с ним рядом. – И как же… Прям с неба?.. Зачем нам такое?
По порыву поднял его на руки и убежал совсем, не помня себя. Казалось, в этом ребёнке была моя душа, радость и страх человечества. Как только я его поднял, ребёнок, к слову, мальчик, начал смотреть на меня спокойно – властно ждал. Когда мы выбежали из леса, он начал махать руками и смеяться, разбрызгивая слюни. Бой заканчивался, светлело. Под плевки пуль и страшное ожидание появляющихся дронов, добежал до нашей траншеи, где, пробегая трупы, понёсся в блиндаж.
Внутри хорошего, крепкого и здорового блиндажа был наш взвод. Противник хорошо постарался над укреплением, вырывая комнатки и переходы под землёй. Теперь это было наше и работало на добро.
– Заяц, жив ещё! Смотрите! – закричал один из моих сослуживцев. – И притаранил что-то! На новый год гостинцы? – и рассмеялся.
– Это ребёнок! – с важностью заявил я, пытаясь отдышаться.
– Чей? Твой? Откуда? – спросили другие, обступая вокруг. Мальчик смотрел на всех с интересом и молчал.
На секунду показалось, что он даже как будто осматривал владения – страшная глупость, откуда вообще взялась?
– В лесу лежал! На опушке… – растерявшись, сказал я. Прошёл чуть вперёд и сел на стул. Теперь здесь было еле протолкнуться – зато спокойнее от компании.
– Ребёнок… ребёнок… дитятко… – говорила толпа без страха и с глубоко человеческим интересом.
– А женщина? – спросил кто-то.
– Что женщина? – ответил я.
– Ребёнок из женщины выходит. Рядом не было? – спрашивал тот же. – Всегда бывает.
– Да-а, женщину сейчас – было бы хорошо! – сказал другой.
– Что у вас здесь? – раздвигая толпу, проходил человек. Это был наш комвзвода: Ёж – за причёску и колкий характер, сам выбрал себе такой позывной. Сам по себе он был хорошим и можно было договориться.
– Взводный! Взводный! – зашелестела толпа и повиновалась.
– В рот мне ноги: это же ребёнок. Дай-ка его сюда, – я подал Ежу малыша. Тот сам протянул руки и замахал ими, как плывущая к радости правильная лодка. – Ага, мальчик. Мальчик – это хорошо! Значит, был мальчик-то! И будет! А откуда мальчик?
– Из леса, – спокойнее, говорил я.
– Лесной, значит… Может, он леший? – Ёж улыбнулся.
– Да нет, он маленький! Лешие большие – и с бородой!
Повинуясь истине, Ёж кивнул:
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.