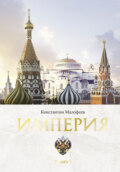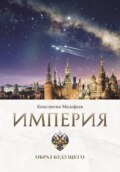Константин Малофеев
Империя. Третий Рим. Книга 2
Симфония Патриарха Филарета и царя Михаила Федоровича
По договоренности с Речью Посполитой, в 1619 году из плена вернулся митрополит Филарет, отец государя Михаила Федоровича. Царь устроил ему торжественную встречу, оказывая величайшие знаки почтения, а когда впервые после долгих девяти лет разлуки сын увидел родителя, он расплакался.
Вскоре Филарет был возведен на Московскую патриаршую кафедру. В годы его предстоятельства (1619–1633) глубоко и всесторонне претворялся в жизнь принцип симфонии властей, столь важный для жизни истинной Империи. Церковь и царская власть пребывали в состоянии доброго соработничества, и для страны это оказалось спасительным.
По словам историка С. М. Соловьева, «…неопытностью и мягкостью молодого царя воспользовались люди, которым по заслугам их не следовало быть близко у престола. Иначе пошло дело, когда приехал Филарет… некоторые, привыкшие к своеволию при молодом царе, не желали возвращения Филарета, который должен был положить предел этому своеволию; другие, наоборот, были довольны тем, что с приездом Филарета избавлялись от смутного и тяжкого многовластия»[62].
Отец и сын имели полное взаимопонимание в вопросах государственного управления и духовного просвещения. Патриарх не посягал на то, чтобы заменить царя в роли главного вершителя политических, административных и военных дел, а царь выказывал ему неизменную почтительность лично и требовал того же от всех подданных, включая высшую аристократию. Вместе с тем опытнейший политик Филарет стал для Михаила Федоровича ценным советником и помощником в государственных трудах, во многом – соправителем. В виде исключения Филарет даже получил в официальных документах титул «великого государя» – такой же, как у самого царя, хотя до него главу Русской Церкви именовали «великим господином».
Когда речь заходила о нуждах Церкви, Михаил Федорович шел навстречу отцу. Значительные государственные деньги были истрачены на восстановление храмов, разрушенных в годы Смуты. С мест шли бесконечные челобитные от священников и крестьянских общин, в подобных бумагах звучали одни и те же формулировки: «наш храм запустел от литовского разорения» и «ныне стоит пуст, без пения», нет в нем ни «церковных сосудов», ни «книг церковных служебных»[63], а потому хорошо бы прислать утварь, без которой вести богослужение невозможно, а денег на ее приобретение нет. Государство жертвовало. Кроме того, на Московском печатном дворе было налажено издание богослужебной литературы, значительная часть которой расходилась по обедневшим храмам «безденежно». Печатные книги бесплатно отсылались и в Сибирь, где Филаретом была учреждена Тобольская епархия и велась масштабная миссионерская работа.

Патриарх Филарет (1553–1633) (Царский титулярник)
России после окончания Смуты еще на протяжении довольно долгого времени пришлось восстанавливать силы. Страна понесла катастрофические потери в экономическом и демографическом плане. Столица пережила пожар и затяжные военные действия в своих пределах. Обезлюдели города, исчезли с карты многие села и деревни. Городские посады неоднократно были подвергнуты разгрому и разграблению. Дворянство, составлявшее наиболее боеспособную часть войска, сократилось, по разным подсчетам, на 20–25 % и страшно обеднело. У большинства дворян исчезла возможность полноценно вооружаться для участия в военных кампаниях.
Для успешного восстановления требовалось полное, абсолютное взаимопонимание между Церковью и государством, а также четкое взаимодействие в делах практических. Этого удалось добиться: симфония властей позволила стране подняться из разрухи, восстановить народное хозяйство и к середине XVII века обрести еще большую мощь, чем прежде. Выйдя к Тихому океану и границам Китая, Третий Рим в царствование Михаила Федоровича стал самым большим государством мира и остается им по сей день.
Господь послал отцу и сыну Романовым – царю и патриарху – ободрение в их тяжелых трудах: иранский шах Аббас в ознаменование успешных политических договоренностей с Москвой преподнес в дар Филарету великую христианскую святыню – частицу Ризы Господней, которую персидские войска в качестве военного трофея вывезли из главного грузинского храма Светицховели (груз. «Животворящий Столп»).
На западных рубежах оставалась нерешенной проблема обширных территорий, населенных русскими православным людьми и отторгнутых Речью Посполитой. Филарет вкупе с Михаилом Федоровичем снарядили хорошо подготовленное воинство для отвоевания Смоленска, но в разгар кампании Филарет скончался, и лишь его твердой воли не хватило, чтобы закончить эту освободительную войну триумфально для России.
Симфония сына – царя Михаила Федоровича и отца – патриарха Филарета была великим благом для России. Выйдя изможденной из кровопролитной Смуты, едва не уничтожившей государство, Россия под скипетром Романовых возродилась в своей прежней мощи. При этом Москва получила действенную прививку против западного влияния, поскольку именно европейские наемники столько лет опустошали Русскую землю во имя присоединения к цивилизованной Польше и «святому» престолу в Риме. Эта прививка дала России возможность развиваться самостоятельно в течение всего XVII века, оградив ее от пагубного влияния Запада. Таким образом, Московское царство, с одной стороны, оставалось в стороне от бушевавшей в Европе в 1618–1648 годах Тридцатилетней войны между «империей» Габсбургов и протестантскими силами, а с другой, было закрыто для языческого Просвещения, натурфилософского (оккультного) учения возрожденного Ханаана, которое окончательно порвало с Христианской Церковью. Древняя языческая магия в работах деятелей европейского Просвещения превратилась в современную науку. Появление этой «науки» в России было отложено первыми Романовыми на целый век – до Петра I.

МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ (1613–1645)
Ханаанское Просвещение
Последним претендентом на звание западного императора был король Испании Филипп II, набожный католик, правивший почти полвека, с 1556 по 1598 год. Он был настоящим защитником веры. Однако Филипп унаследовал от отца Карла V только западную часть «империи» Габсбургов: Испанию, Нидерланды, Бургундию и итальянские владения. Сам же титул императора Священной Римской империи германской нации отошел брату Карла V Фердинанду I, затем его сыну Максимилиану II, а затем его внуку Рудольфу II. Юный принц Рудольф воспитывался при дворе своего дяди в Мадриде, но не сумел приобрести ни его твердости в вере, ни его мудрости в государственных делах.
В то время как Филипп писал: «Я скорее предпочту потерять все свои владения и 100 жизней, если бы я их имел, потому что я не желаю быть господином над еретиками»[64], австрийский император Рудольф, не совладав с венским двором и перенеся свою резиденцию в Прагу, окружил себя многочисленными каббалистами и алхимиками.

Прага (Чехия)
Историк Фрэнсис Йейтс так пишет об этом «императоре»: «Рудольф II, хотя и принадлежал к дому Габсбургов, весьма прохладно относился к своему дяде Филиппу II Испанскому, сам же вел непонятную для других европейских государей жизнь, без остатка заполненную таинственными и мудреными занятиями. Императорский двор свой он переместил из Вены в Прагу, и столица Богемии превратилась в средоточие алхимических, астрологических и научно-магических изысканий всяческого рода… Прага при Рудольфе стала Меккой для ценителей эзотерических и научных знаний, стекавшихся в этот город со всей Европы. Здесь побывали Джон Ди и Эдуард Келли, Джордано Бруно и Иоганн Кеплер. И пусть тогдашняя Прага слыла местом несколько странным, зато обстановка в городе отличалась терпимостью к инакомыслящим. Никто не мешал евреям углубляться в каббалистические штудии (у Рудольфа в религиозных советниках числился – и был весьма близок к своему покровителю – Писторий, каббалист)… Прага была крупнейшим в Европе центром еврейской каббалы»[65].
В 1583 году в Прагу к Рудольфу приехали английские оккультисты Джон Ди и Эдвард Келли. Джон Ди известен нам как один из основателей Московской компании, целью которой была колонизация России. Он был придворным астрологом королевы Елизаветы и автором каббалистического трактата «Иероглифическая монада» (1564). Ф. Йейтс называет Ди классическим ренессансным магом, хотя в современных энциклопедиях он превратился в «ученого-математика».

Оккультистский текст Агриппы
Этот математик вместе с «медиумом» Эдвардом Келли практиковал спиритические сеансы, результатом которых стали дневники, содержавшие протоколы бесед оккультистов с являвшимися им «ангелами». Ф. Йейтс считает, что Джон Ди предпринял эти спиритические эксперименты под влиянием «Тайной (оккультной) философии» Агриппы (Генриха Корнелиуса Неттесгеймского, немецкого гуманиста XVI века, одного из отцов-основателей оккультизма – учения о «тайных знаниях»)[66].
Магия, по определению Агриппы, это «совершенная и главная наука… священный и высший вид философии»[67]. На первом уровне магия естественная, земная. На втором – небесная, математическая, позволяющая постичь звездные гармонии. На третьем – обращенная к субстанциям тонкого мира магия церемониальная. О своем мистическом опыте постижения этой магии Джон Ди рассказывал Рудольфу II: «Всю свою жизнь я провел обучаясь… На протяжении этих сорока лет, разными способами и в разных странах с огромным трудом, тщательностью и затратами… И я обнаружил, что ни один живущий человек и ни одна книга, которую я мог бы найти, не была способна научить меня тем истинам, которых я жаждал. И тогда я решил молить подателя мудрости о даровании мне таковой… чтобы я мог знать природу всех его творений… И Ангелы Бога явились передо мной»[68].
Одним из немногих зримых проявлений обещанной «ангелами» Джону Ди мудрости стал «Адамический язык», или «язык Ангелов» из 22 знаков, отдаленно напоминающих буквы еврейского алфавита. Эти знаки привиделись во сне компаньону Ди Эдварду Келли. Затем «ангелы» стали требовать от Келли, чтобы он и Джон Ди достигли особого «духовного единения», обменявшись на одну ночь женами. Ди усомнился было в правильности новой доктрины, но тогда «ангелы» начали угрожать своему адепту. В конце концов, потусторонние голоса заявили, что Ди и Келли – «избранные» и что обмен женами – это «испытание в вере». Такие эксперименты очень напоминают развратные практики ханаанских сект прошлого: от гностиков до альбигойцев.

Портрет императора Рудольфа II в образе языческого бога Вертумна (Дж. Арчимбольдо, ок. 1590 г.)
Тот факт, что оккультиста обманули демоны, был для современников самоочевиден. «Главной и роковой ошибкой было принимать за Ангелов Света лживых духов и дьяволов ада»[69], – говорилось в предисловии к выпущенному в 1659 году изданию спиритических дневников Джона Ди.
Этот «математик», оккультист и сатанист, всецело проникнутый древним духом Ханаана, стал родоначальником розенкрейцеров, которые, в свою очередь, стояли у истоков европейского Просвещения. В 1583–1589 годах Ди и Келли побывали в Богемии и Германии, а в 1614 году в городе Касселе были опубликованы «розенкрейцерские манифесты» «Слава Братства» (лат. Fama Fraternitatis) и «Исповедание Братства» (лат. Confessio Fraternitatis). В качестве главного персонажа этих памфлетов выступает некий отец Х. Р., или Христиан Розенкрейц, о котором сообщается, что более двухсот лет назад он основал некое братство, которое теперь, на момент обнародования манифестов, возродилось и приглашает всех желающих вступить в свои ряды.
«Появление манифестов повергло публику в немалое возбуждение, а когда в 1616 году вышла в свет третья публикация серии, покров тайны, окутывавший эти произведения, сгустился еще больше. Третья книжка оказалась странным алхимическим романом – в переводе с немецкого его название звучит так: „Химическая свадьба Христиана Розенкрейца”. Герой романа как будто тоже был связан с каким-то орденом, использовавшим в качестве символов алые розу и крест»[70], – пишет Ф. Йейтс. По сути, философия розенкрейцеров была не более чем вариацией лжеучения, сформулированного в «Иероглифической Монаде» Джона Ди.

Манифест розенкрейцеров Fama Fraternitatis
Авторы этих памфлетов были политическими последователями лидера германских протестантов Фридриха V Пфальцского. Ф. Йейтс так характеризует розенкрейцеров: «Похоже на то, что движение это было запоздалым следствием путешествия Ди в Богемию – события, свершившегося за двадцать лет до появления розенкрейцерских манифестов. Пропагандировавшиеся Ди идеи не были забыты и ко времени, о котором идет речь, распространились в кругу соратников курфюрста Пфальцского… будучи главой Протестантской унии, курфюрст воплощал в себе идею всегерманского объединения… Речь шла не просто о политической антигабсбургской акции – богемское предприятие явилось выражением религиозного движения, собиравшегося с силами на протяжении многих лет. Оно впитывало в себя подспудные идейные течения, расходившиеся по Европе, и искало разрешения религиозных противоречий на путях мистицизма, намеченных герметизмом и каббалой… в Пфальце формировалась культура, продолжавшая традиции Возрождения, но впитавшая в себя достижения новейшей мысли, – мы могли бы определить эту культуру термином „розенкрейцерская”»[71].
Женой Пфальцского курфюрста была английская принцесса Елизавета Стюарт. Ей шел 13-й год, когда умер Джон Ди, влачивший жалкое существование неподалеку от королевского дворца в Лондоне. По иронии судьбы, когда Елизавета взошла на престол Богемии, ей предстояло стать наследницей идей Ди и надеждой резенкрейцеров.
После отречения императора Рудольфа в пользу своего брата Матфея и последовавшей католической реакции пражские алхимики и чернокнижники были разогнаны, а их деятельность запрещена. Однако вскоре чешская оппозиция отказалась повиноваться новому королю Фердинанду Штирийскому, племяннику бездетного Матфея. Вдохновленные розенкрейцерской пропагандой, пражцы выбросили в окно королевских наместников, а спустя четыре месяца предложили корону Богемии курфюрсту Пфальцскому. Эти события послужили причиной грандиозной Тридцатилетней войны, сотрясавшей всю Европу в 1618–1648 годах.

Джон Ди (1527–1608/1609)
Тридцатилетняя война в политическом отношении привела к крушению Священной римской империи Габсбургов и признанию суверенитета национальных государств над своей территорией. Вестфальский мир 1648 года уравнял католиков и протестантов и узаконил конфискацию церковных земель протестантскими монархами. Историк С. Веджвуд констатирует: «Империя стала лишь географическим понятием… Подтвердив право князей на заключение иностранных альянсов, мирный конгресс завершил процесс дезинтеграции империи как единого государства. Из ее развалин поднялись Австрия, Бавария, Саксония и Бранденбург, будущая Пруссия». Вестфальская система окончательно разрушила католическую Европу Ватикана и «империю» Габсбургов, «над которой никогда не заходило солнце»[72].
Восемь лет спустя Нидерланды одержали победу в 80-летней войне за независимость от Испании. Миропорядок в Европе отныне стал основываться на новых принципах международного права, разработанного голландцем Гуго Гроцием.
В то же время победителями в Тридцатилетней войне стали не только Голландия, Франция, Англия и Швеция, которые приобрели новые земли. Главным бенефициаром оказался возрожденный Ханаан. Во-первых, теперь у него появились собственные государства – сначала Голландия, а затем и Англия. Голландская Вест-Индская и Ост-Индская компании, первые транснациональные корпорации в современном духе, стали мощнее собственного государства. Они с помощью эмигрировавших из Португалии евреев захватили бывшие португальские колонии и фактории в Новом Свете и Азии. В Англии же разразилась кровавая революция, в результате которой этот остров стал логовом нового Ханаана. Англия идеально расположена для ведения морской торговли и, подобно древнему финикийским Тиру, отгорожена от своих континентальных противников.

Во-вторых, протестантизм, порождение Ханаана, как мы увидели в предыдущей главе, стал теперь государственной религией в странах Северной Европы. Это означало снятие всех преград на пути дальнейшего восстановления языческих ханаанских традиций, как в культурной, так и в экономической (разрешение ростовщичества) сферах. Теперь Ханаан мог приступить непосредственно к борьбе с самим христианством.
Эта борьба получила название «Просвещение». С его помощью адепты каббалистической и языческой традиций собирались осуществить замену идеалистического мировоззрения европейских христиан на безбожное и материалистическое. Однако в тайных своих глубинах этот «материализм» базировался не на атеизме, а на вере в иных «богов». Вместо Святой Троицы «просвещенные» верили либо в Иегову каббалистов, либо в «ангелов» – демонов спирита Джона Ди и розенкрейцеров, либо в «великого архитектора вселенной» масонов.
Ф. Йейтс, выводя масонов из розенкрейцеров, отмечает: «Проблема происхождения масонства… представляет собой две отдельных проблемы: проблему интерпретации легендарной истории франкмасонства и вопрос о том, когда это движение сложилось как реальный организованный институт. Согласно масонской легенде, масонство столь же старо, как сама архитектура; оно восходит к строителям Соломонова храма, к гильдиям средневековых каменщиков, создававших соборы. В какой-то момент „оперативное” масонство (каменщичество), то есть строительное ремесло как таковое, превратилось в масонство ”спекулятивное” (умозрительное), в нравственную и мистическую интерпретацию строительного ремесла, в тайное общество с эзотерическими ритуалами и эзотерическим учением»[73].
Строителями Соломонова храма были ханаанейцы, а архитектором – мастер Хирам, присланный царем Тира, который также именовался Хирамом.

Здание Лондонского королевского общества в 1873–1967 гг.
© Claudio Divizia / shutterstock.com
Эта масонская легенда выросла из традиции, которая передавалась внутри ханаанских тайных кружков и обществ со времен конверсии проигравших пунийцев-карфагенян в еврейскую общину Рима II века до Р. Х.
Два первых достоверно известных историкам масона – это Роберт Марри и Элайс (Илия) Ашмол. Первый был принят в ложу в 1641-м, а второй – в 1646 году. Ф. Йейтс пишет: «Марри, как кажется, приложил больше усилий, чем кто-либо иной, чтобы ускорить учреждение Королевского общества [аналог Академии наук, – К. М.] и убедить Карла II стать его официальным патроном. Он глубоко интересовался алхимией и химией. Итак, Марри и Ашмол, два человека, оставивших самые ранние достоверные свидетельства о масонских ложах, впоследствии стали членами-учредителями Королевского общества. Масонская организация, стало быть, старше Королевского общества (основанного в 1660 году) по крайней мере на двадцать лет. Источников по более раннему периоду ее деятельности практически нет»[74]. Сам король Карл II, учредивший Королевское общество, по утверждению первого масонского историка Андерсона, тоже был масоном. Недаром предшественником Лондонского Королевского общества была «Незримая коллегия», тайный клуб английских натурфилософов и оккультистов, существовавший с революционного 1645 года.

Исаак Ньютон (1642–1727) (Кембридж, Великобритания)
© JJFarq / shutterstock.com
Королевское общество считается первой в мире Академией наук. Оно было учреждено недавно открыто заявившими о себе масонами, которые в свою очередь вышли из среды розенкрейцерства – продукта оккультизма и каббалистики. Самым выдающимся членом Королевского общества стал знаменитый Исаак Ньютон, один из величайших ученых всех времен и народов. Помимо научной деятельности, приведшей к поразительным открытиям фундаментальных законов мироздания, он занимался и алхимией. Ньютон собственноручно переписывал разнообразные алхимические трактаты, включая весьма загадочные по содержанию алхимические поэмы, следы чего сохранились в его грандиозном архиве. Доступ к подобного рода текстам Ньютону обеспечивали различные алхимические сборники, такие как «Британский химический театр» Ашмола.
Вообще многие идеи Ньютона были созвучны розенкрейцерскому учению. Среди прочего Ньютон написал знаменитую «Хронологию древних царств», посвятив ей 40 лет жизни, хотя публикация труда состоялась в 1728 году уже после смерти автора. «Хронология» предприняла попытку пересмотреть принятую учеными того времени датировку мировой истории. Характерно, что Храм Соломона был обозначен в ней как древнейшее событие, с которого началась вся история человечества. Взгляды Ньютона на хронологию, как и интерес к алхимии, безусловно, выдают в нем наследника ренессансной и розенкрейцерской традиции, отождествлявшей науку и магию.
Эпоха Просвещения, научная революция XVII века, по мнению Ф. Йейтс, основывалась на «особом подходе к природе, при котором алхимические и каббалистические традиции, сочетаясь с математикой, порождали нечто совсем новое. Быть может, именно эта часть розенкрейцерского учения, таившая в себе ростки нового мировидения, привлекла к движению некоторых крупнейших ученых времен „научной революции”»[75].
Таким образом, Тридцатилетняя война стала борьбой Ханаана за собственную легализацию по всей Европе. Позже этот процесс был назван научной революцией, или Просвещением. В XVIII веке «просветители»-энциклопедисты и масоны приведут к революции католическую Францию, которая в Тридцатилетней войне выступила на стороне протестантов, совершив стратегическую ошибку. Революция – это орудие Ханаана, с помощью которого он будет менять Европу в своих интересах до тех пор, пока в ней не останется ничего христианского.
Православную Москву этот «триумф» Ханаана практически не затронул, благодаря религиозной и идеологической обособленности. Для России западом являлась Речь Посполитая – самая консервативная европейская страна, оплот иезуитской реакции против протестантов. Ослабление этого природного врага России по итогам Тридцатилетний войны, в том числе в ходе борьбы с протестантской Швецией, создало благоприятные политические возможности для воссоединения русских земель под скипетром православного царя.