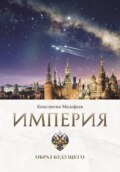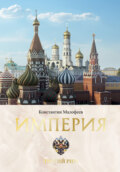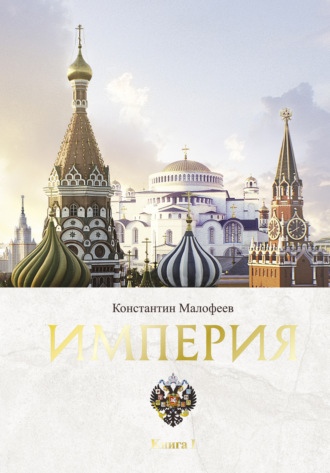
Константин Малофеев
Империя. Книга 1
Ханаан бежит от Империи
В те периоды истории Месопотамии, когда по тем или иным причинам случался разрыв в «переходе царственности» (то есть в передаче имперского начала от одной державы Междуречья другой), ханаанейцы благоденствовали. Ослабление Империи предоставляло олигархам-капиталистам широчайший простор для коррупции, с помощью которой они уходили от уплаты налогов. В современной экономической терминологии этот процесс называется улучшением инвестиционного климата. Бизнес торговцев рабами, наркотиками и предметами роскоши процветал.
Самый длительный из перерывов подобного рода относится ко времени приблизительно с 1150 по 850 год до Р.Х. Старовавилонское царство находилось во власти олигархов, а его преемник, Ассирия, еще не вошла в полную силу.
Современный популяризатор истории Ханаана-Финикии А. Волков с изумлением констатирует: «Даже удивительно, что целых три столетия никто не покушался на независимость финикийских городов. В сущности, своим расцветом они – эти беззащитные сокровищницы Востока – были обязаны воле случая. Почти триста лет во всем Восточном Средиземноморье не появлялось ни одной могучей державы, способной направить свои войска к финикийскому побережью и покорить его. Это было время мелких царств, ослабевших империй, обломков отживших свое держав»[73].
Но позднее сюда пришла Ассирия и установила полную власть над Ханааном. Затем контроль над регионом перешел к Нововавилонскому царству, а от него – к персам. Независимость ханаанских городов осталась в далеком прошлом. Порой она возрождалась, но лишь на относительно короткое время.
После трех веков полной свободы Ханаан сталкивается с необходимостью выстраивать долгосрочные отношения с Империей. Адаптация к новым условиям удалась не всем – часть ханаанейцев эмигрировала в заморские колонии. Ханаанские города за счет колонизации Средиземноморья стремятся получить пространство, свободное от контроля со стороны Империи. Ханаан бежит от Империи, максимально увеличивая разделяющую их дистанцию. Историк Ю. Циркин пишет: «На время, предшествующее ассирийскому завоеванию, и на период ассирийского господства приходится второй этап финикийской колонизации… второй этап финикийской колонизации коснулся только Тира… ко времени крушения Ассирии и восстановления своей независимости Тир продолжал быть сувереном морской и колониальной державы, раскинувшейся вплоть до Атлантического океана… Каков же был характер финикийской колонизации на ее втором этапе?.. Центральная часть Северной Африки была объектом финикийского внимания уже в конце II тысячелетия до Р.Х., когда там была основана Утика. На втором этапе колонизации этот район становится зоной интенсивной финикийской экспансии… в этом районе Африки был основан и Карфаген»[74].
Другим направлением колонизационных потоков стал Пиренейский полуостров, особенно его южная часть, территория современной Испании и Португалии. Ханаанейцы селились и за Гибралтарским проливом, включая земли, на которых сейчас расположен Лиссабон. Однако там их стесняло сильное государство Тартесс. Поэтому в кульминационный период второй финикийской колонизации (конец IX–VII столетия до Р.Х.) ханаанские колонии, или фактории, появляются в большом количестве именно на юге и юго-востоке полуострова. Особенно крупной и знаменитой стала ханаанская колония Гадес (современный испанский город Кадис).
Колонизация мощно стимулировала одну, специфическую сферу ханаанской цивилизации, а именно международную работорговлю. Рабство появилось за тысячу лет до того, как ханаанейцы построили свою колониальную сеть. Но именно они получили дурную славу как работорговцы и охотники за живым товаром. И. Шифман пишет: «Финикияне в больших масштабах вели в Греции торговлю рабами. Так, свинопас Эвмей был похищен финикиянами на родине и продан в рабство в Греции. Одиссей рассказывает о том, как коварный финикиянин замыслил продать в рабство доверившегося ему эллина. Сюжет о похищении финикиянами свободных греков и негреков был широко распространен в греческой, да и не только в греческой традиции. Отметим, в частности, рассказ Геродота о похищении финикиянами из Аргоса Ио, дочери Инаха, восходящий, по указанию историка, к персидским источникам»[75].

Древний мир знал разные способы обращения в рабство. Свободный человек мог стать рабом, если попадал в плен на поле боя или становился частью военной добычи, захваченной армией удачливого завоевателя. Другой источник рабства – неисполнение долговых обязательств. Но ханаанейцы практиковали нечто беззаконное даже в тогдашних условиях: они похищали свободных людей, чтобы впоследствии продавать их как рабов. Безраздельное доминирование на море предоставляло им для этого большие возможности.
На суше же полностью господствовала Ассирия, что создавало для Ханаана множество проблем. У ассирийцев, в отличие от Империи Вавилона или III династии Ура, была прекрасно развита торговля. Их столица Ашшур выросла на пересечении торговых путей, пролегавших через реку Тигр между Западом и Востоком тогдашней ойкумены. В Малой Азии торговые колонии ассирийских купцов известны с начала III тысячелетия до Р.Х. Поэтому владыки Ашшура не ограничились наложением на ханаанские города обычной дани. Они впервые в истории ограничили коммерческую деятельность Ханаана, нанеся ему таким образом удар в самое сердце. Тиру, крупнейшему торгово-финансовому центру Ханаана, было запрещено торговать с Египтом и даже с соседней Палестиной. В этих условиях ханаанейцы были вынуждены активизировать торговлю с западным Средиземноморьем.
Между походами ассирийских царей в Ханаан и колонизационной активностью Тира наблюдается прямая зависимость. Так, после похода ассирийского царя Ашшурнацирапала II (IX в. до Р.Х.), тирский царь Итобаал основал крупные колонии: Ботрис в самой Финикии и Аузу в Африке. Принципиальное нежелание ханаанских олигархов жить в Империи заставляло их покидать родной город и отплывать за море, подальше от строгих имперских законов.
Ханаан несколько раз восставал против имперской власти. Ассирийцы подавляли мятежи, однако не уничтожали важнейшие центры Ханаана, заключая с ними мир на условиях выплаты дани. Тот же Тир, располагая неприступной крепостью, расположенной в 300 метрах от берега, успешно выдержал несколько осад со стороны ассирийцев и вавилонян. Так, в первой половине VI столетия до Р.Х. вавилонский царь Навуходоносор II осаждал Тир на протяжении тринадцати лет и заставил его сдаться не столько силой оружия, сколько блокадой. Тем не менее город не только не был разграблен и уничтожен, хотя для месопотамских владык такие способы усмирения врага были обычным делом, но и продолжил пользоваться автономией, став частью Ново-вавилонского царства.
Та же картина наблюдается и в период господства Ахеменидов. Тир, Сидон, Библ и Арвад по-прежнему несли налоговое бремя и снаряжали боевой флот, когда того требовала центральная власть, но все же ханаанейским городам удавалось сохранять в известной степени автономный статус в составе Персидской Империи.
Тир, наиболее могущественный ханаанский город, сравнительно мирно входит в состав Империи Ахеменидов и поначалу не поднимает восстаний. Напротив, под покровительством персов ханаанейцы надеются сокрушить своих главных конкурентов в морской торговле – афинян, к тому времени сильно потеснивших их позиции.
Таким образом, интересы двух разнородных сил, Ханаана и Империи, временно совпали. Для дальнейшего продвижения на Запад персы нуждались во флоте, который ханаанейцы им с радостью предоставили, рассчитывая, что те выдавят из Восточного Средиземноморья греков, но сами не займут их места. Ранее ханаанейцы уже помогали персам в завоевании Египта и греческих колоний в Северной Африке: их корабли составили тогда ядро персидского флота.
Как полагает современный популяризатор истории Ханаана А. Волков, в благодарность за эту помощь персидский царь Камбиз «предоставил финикийцам почти полную независимость. Они превратились в союзников персов, а не в их слуг. Так, при попытке напасть на Карфаген финикийцы отказались предоставить персам флот, не желая поражения соплеменникам. Этот случай показал, что военные успехи персов во многом зависят от поддержки или нерасположения нескольких финикийских городов»[76].
В 480 году до Р.Х. персидский царь Ксеркс I предпринял свой знаменитый поход на Запад в надежде покорить европейскую часть Греции. Его успех зависел от действий на море, и он собрал поистине внушительный флот: 1207 боевых кораблей, которыми командовали ханаанейцы. До нас дошли даже имена некоторых из них: правитель Сидона Тетрамнест, Мербаал из Арвада и Маттен из Тира. В той войне персы потерпели поражение, и надежды ханаанейцев расправиться с опасным конкурентом чужими руками рухнули. Очень скоро в отношениях Ханаана и Империи наступило охлаждение.
Симбиоз Ханаана с Ахеменидским царством был возможен только до тех пор, пока это приносило Ханаану торговые и политические выгоды. Ослабление персов должно было привести к очередному мятежу. Так и произошло. Незадолго до крушения Персидского царства против него взбунтовался ханаанский Тир, который ранее множество раз восставал против Ассирии и Вавилонии, но при владычестве персов в течение долгого времени не поднимал головы.
Когда Александр Македонский двигался во главе победоносной армии по необъятным просторам Персидской Империи, громя войска Дария, ханаанейцы решили сыграть с новым завоевателем в ту же игру, что и с прежними правителями имперских государств. Они мирно подчинились ему, но принялись добиваться для себя особых льгот. Особенно усердствовал Тир. Олигархи Тира осмелились убить послов Александра и приказали оставить их без погребения, выбросив останки в море, что по тем временам считалось редким святотатством.
По словам Ю. Циркина, власть Александра Македонского Тир готов был признать, но «впустить македонского царя в свой город тирийцы отказались. Попытка Александра захватить город силой не удалась. Началась семимесячная осада Тира, в ходе которой по приказу Александра была насыпана дамба, соединившая остров с материком, в результате чего остров постепенно превратился в полуостров. По этой дамбе македонские войска подошли к самым стенам Тира и ворвались в город. После упорных уличных боев Тир был взят, и Александр обрушил на тирийцев жесточайшие репрессии»[77]. Неприступный Тир пал. На сей раз Империя не пощадила главный город Ханаана.
Весьма ярко отношения внутри ханаанской цивилизации характеризуются крахом надежд тирийцев на помощь со стороны их собственной колонии Карфагена. Историк И. Шифман отмечает: «Принимая решение защищаться, тирское правительство рассчитывало на островное положение города, делавшее его неприступным для сухопутных войск, на господство на море тирского флота и на отсутствие флота у Александра, на мощь оборонительных сооружений Тира, наконец, на поддержку своей североафриканской колонии – Карфагена. Ежегодно из Карфагена в Тир приезжали священные послы для принесения жертвы в местном храме Мелькарта. Такие послы находились в Тире и тогда; они уверяли власти, что Карфаген окажет Тиру возможную помощь… Расчеты тирского правительства на помощь из Карфагена не оправдались. Под предлогом войны, которую Карфаген как раз в этот момент вел в Сицилии, он отказался прислать свои войска для обороны метрополии»[78].
Пока Тир был силен и нужен Карфагену, карфагенское правительство, представлявшее, как и повсюду во владениях Ханаана, прежде всего власть капитала, находилось с ним в почтительном диалоге, а также в отношениях союзничества. Но ослабление метрополии сделало связь с ней невыгодной и, более того, рискованной. Она попадала в «расходную часть». Следовательно, связь эту следовало разорвать. Чистый деловой прагматизм, ничего личного.
Итак, Александр Македонский пренебрег благами, которые мог дать ему Тир. На фоне этого поступка намного рельефнее проступает принципиально иная политика, проводившаяся по отношению к Ханаану позднеассирийскими и нововавилонскими царями. Они берегли мятежный Тир и не карали главный город Ханаана слишком жестоко, рассчитывая на его финансовые ресурсы. Для тирийцев это означало спокойную жизнь при условии своевременной выплаты дани. Но дело было не только в данничестве.
Ханаанейцы вошли в тело Империи, подобно вирусу, ослабляющему организм и использующему его жизненные силы для поддержания собственного существования и роста. В столице Древнего мира Вавилоне, равно как и по всей Империи, расцвели финансовые операции. Тир и Сидон также превратились в важнейшие коммерческие центры Ветхой Империи.
По словам историка В. Эрлихмана, «войдя в состав Персидского царства, Финикия… смогла лучше изучить традиции банковского дела, возникшего в Вавилоне еще во II тысячелетии до Р.Х. Ассиро-вавилонские банкиры вначале были обычными ростовщиками, которые выдавали ссуды на определенный срок под проценты. Потом они перешли к более сложным операциям – давали купцам кредиты на отдельные коммерческие операции, принимали и выдавали вклады и проводили безналичные расчеты между разными городами (для этого использовались кожаные чеки с печатями того или иного финансового учреждения). Ту же практику переняли финикийцы… и если вавилонские и ассирийские дельцы обслуживали в основном своих соплеменников, то финикийцы – впервые вывели „бизнес” на международную арену. Их услугами пользовались практически все негоцианты Восточного Средиземноморья, цари, народные собрания греческих полисов. На рубеже VI и V веков до Р.Х. Тир и Сидон играли ту же роль „всемирного банка”, что в наши дни – Швейцария»[79].
Торговец, побежденный военной мощью Империи, брал реванш иными способами. Кредит становился тем орудием, которое давало ему невидимые нити власти над мощной государственностью. Власть капитала порой оказывалась столь значительной, что на должность управляющего финансами и торговлей Империи назначались (как в Нововавилонском царстве) именно ханаанейцы.
Более того, сама возможность сначала получить кредит, а затем – послабления в выплатах кредитору, представляла и по большому счету до сих пор представляет собой сильнейший соблазн, от которого трудно отказаться. Империя крепко держала в руке меч, но ее руку начинали опутывать сдерживающие сети, которые полностью контролировались ростовщиком международного масштаба.
В наши дни встречаются историософы, которые открыто восхищаются той почти магической силой, которой наделяли финикийцев кредитные операции. Один из них, А. Талонов, пишет: «Было время, когда весь античный мир кредитовался финикийским золотом. Должниками были Вавилон, Ассирия, Персия, Египет, позднее – Греция и Рим. В частности, финикийцы на долгое время фактически монополизировали торговлю Египта, выступая в роли агентов или поставщиков фараонов. Интересно, что с сиятельных особ финикийцы не брали расписок, предпочитая возвращать кредитованные деньги доходами от эксплуатации имений или целых городов. Много египетских городов арендовалось финикийскими купцами, где практиковались специфические и очень прагматичные, если не сказать жесткие методы управления. Выбиваемый доход многократно превышал сумму кредита. Войны фараонов велись либо за финикийское золото, либо с целью расплатиться по кредитам захваченной добычей. Однако финикийцы были не только ростовщиками. Они сумели наладить массовый выпуск товаров, наиболее ценимых на древних рынках, и делали их массовыми, дешевыми и качественными, а также активно заимствовали технологии изготовления национальных товаров и доводили их до экономически оправданного совершенства. Нередко работа мастера придавала новое очарование простой имитации чужеземной модели… За всем этим стояла гибкая и четкая система финансирования. Конкуренты имели мало шансов против этой финансово-промышленной машины даже на своих национальных рынках. Сила финикийцев была как раз в том, что каждый национальный рынок они превращали в частицу глобального рынка. Если прибегнуть к аналогиям, которые часто нелепы, то Финикия была одновременно и Уолл-стрит, и современным Китаем»[80].
Основой невиданной финансовой мощи ханаанейцев объявляется полное отсутствие в их цивилизации каких бы то ни было законодательных или нравственных запретов на взимание процентной ставки на кредит.
Религия же народа Израиля категорически осуждала ростовщичество. Христианство также будет решительно возбранять предоставление денег в долг под процент. Но современная западная экономика в значительной степени наследует Ханаану: ее быстрое развитие основано на преодолении подобных запретов.
Однако даже если не принимать в расчет нравственную сторону вопроса, власть ростовщика имеет свои ограничения и свою оборотную сторону. Во-первых, она всегда и неизменно порождает в обществе вражду, всеобщее озлобление, а значит, социальную нестабильность. Во-вторых, разрыв финансовых нитей ставит сколь угодно сильного мастера кредитных операций в положение моллюска, лишенного раковины. Назидательным примером для ханаанейцев всех времен должна служить история Тира, не дождавшегося помощи от своей колонии Карфагена в критически важный момент осады города великим македонским завоевателем. Ничего личного, только бизнес. Тир просто утратил свой кредитный рейтинг. Вкладывать в его спасение показалось карфагенянам слишком рискованной инвестицией. Тир был фактически уничтожен, а Карфаген расцвел, заняв освободившиеся от тирийцев рынки товаров и капитала. Ученик превзошел учителя в циничном коммерческом прагматизме.
Подобный прагматизм был чужд религии древнего Израиля, краеугольным камнем которой являлась вера в Единого Бога. Однако долгая жизнь рядом с Ханааном привела к тому, что потомки Авраама начали из-за этого соседства утрачивать изначальную пасторальную простоту своих нравов. Еще большим искушением для евреев стал Вавилон – столица развращенной Империи, от мерзостей которой за полторы тысячи лет до того бежал по зову Бога Авраам.
Вавилонский плен Израиля
В 722 году до Р.Х. Северное Израильское царство было завоевано Ассирией, а большинство его населения (10 из 12 колен Израиля) уведено в плен. По всей вероятности, эти еврейские пленники в течение последующих столетий были полностью ассимилированы окружающими народами. Южное Еврейское царство, Иудея, которая была союзником ассирийского царя, тогда никак не пострадала.
С падением Ассирии имперская корона перешла в Вавилонию, в вассальную зависимость от которой в 605 году до Р.Х. попал иудейский царь Иоаким. Два десятилетия спустя в ответ на череду антивавилонских восстаний царь Навуходоносор II захватил и разрушил Иерусалим, угнав в плен на территорию коренной Вавилонии значительную часть населения Иудеи (2 оставшихся из 12 колен Израиля).
Вавилонский период произвел колоссальную перемену в массовом сознании народа Израиля, не говоря о традициях повседневной жизни и быта. Если перед падением Иерусалима сознание каждого еврея определялось тем, что он был частью единого народа и древнего государства, с законом (пусть он и не соблюдался в полной мере), священством, богословием, судом, Храмом, столицей, где правили члены династии Давида, то теперь все это исчезло.
Земли иудеев стали частью большой вавилонской провинции и впоследствии, за исключением периода Хасмонейского царства (164–37 гг. до Р.Х.), не имели никакой самостоятельности. По словам современного знатока Ветхого Завета, священника Г. Егорова, «само понятие народ тоже уже было не государственным, а связанным исключительно с законом Божиим и с верностью Богу, поскольку иудеи были перемешаны территориально с язычниками»[81].
Три поколения изгнанников прожили в «пленении» (евреи именуют его «галут») в Вавилонии. Они не считались рабами и не жили в тюремном заключении. Им выделили плодородные земли в области древнего Шумера и предоставили право получать с них доход в обмен на выплату налогов, военную службу и трудовые повинности. Управление в общине переселенцев осуществлялось старейшинами (Иез 14:1; 20:1; Иер 29:1), как и в период до Саула. В правовом отношении изгнанники из Иудеи были уравнены с местным населением.
На евреев, переселенных из маленького провинциального Иерусалима в Вавилон, этот огромный мегаполис произвел ошеломляющее и ужасающее впечатление. Столица Месопотамии в то время являлась важнейшим центром международной торговли, поэтому многие из числа переселенцев занялись этим ремеслом и, как показывают сохранившиеся документы, нажили большие состояния, став настоящими финансовыми магнатами.
Другие заняли крупные посты в государственном аппарате и при царском дворе. Попав в водоворот вавилонской жизни, значительная часть евреев ассимилировалась и забыла о своей родине. Иудейские переселенцы перешли на общераспространенный тогда на Ближнем Востоке арамейский язык и усвоили арамейский алфавит. Вавилонские наименования месяцев вытеснили у них исконные древнееврейские. Евреи стали использовать вавилонские имена, восходящие к именам месопотамских богов: Мардехей (Мардук), Есфирь (Иштар) и т. п.
Неисповедимы пути Господни. Потомки Авраама, призванного Богом покинуть имперскую столицу Ур, чтобы сохранить чистоту веры, через полторы тысячи лет оказались в новой столице Империи. У Израиля, прожившего героические века своей ветхой истории и сумевшего сберечь веру Авраама, появился шанс вернуть Империю на путь истинный – к Богу. Это был один из самых драматичных моментов человеческой истории.
Для исполнения этой высокой миссии Израиль должен был сохранить в чистоте Закон Божий, пусть окружающая реальность своими соблазнами и подталкивала его к отступничеству. Книга пророка Даниила рассказывает нам о примере такого исповедничества: «три отрока еврейских» не отказываются от своей веры и не кланяются идолу даже под угрозой сожжения в печи; Бог же спасает их, явив великое чудо (Дан 3:17).
Но не все вавилонские евреи были готовы хранить верность Господу Богу, подобно «трем отрокам». Многие адаптировались к новым условиям жизни. До «галута» народ Израиля уже имел широкий опыт общения с Ханааном, страной торговцев и ростовщиков. Однако вавилонское пленение создало гораздо более широкие возможности для заражения иудеев идеями и обычаями древнего капитализма. Нововавилонское царство купалось в деньгах. Здесь действовал развитый рынок финансовых операций с кредитами, залогами, депозитами и векселями. Многочисленные документы, дошедшие от данного периода, не оставляют в этом ни малейшего сомнения. Таким образом, народ Израиля, находясь в Вавилонском плену, получил навыки финансовых спекуляций, немыслимые для богоизбранного народа.
Писатель П. Люкимсон пишет: «Согласно наиболее распространенному мнению, первые ростовщики появляются среди евреев лишь после разрушения Первого Храма и их массового изгнания в Вавилон. И это понятно: та, происшедшая две с половиной тысячи лет назад, депортация значительной и вдобавок наиболее обеспеченной части еврейского народа за пределы родной земли носила, как известно, относительно „цивилизованный характер”. Это проявилось, прежде всего, в том, что евреям разрешили взять с собой большую часть накопленного ими имущества. Оказавшись в Вавилоне – стране с развитой системой ростовщичества – бывшим зажиточным еврейским земледельцам, не владеющими навыками каких-либо ремесел, по сути дела, не оставалось ничего другого, кроме как заняться торговлей и ростовщичеством, на ходу обучаясь премудростям этих занятий у местных жителей»[82].
В Торе, Моисеевом Пятикнижии, содержатся недвусмысленные запреты на ростовщичество. В древнееврейском обществе нормой было осуждать дачу денег в рост. Но на деле ростовщические операции стали постепенно входить в жизнь народа Израиля: сначала они совершались тайно либо маскировались, а затем приобрели массовый масштаб. Это «нововведение», появившееся у иудеев во времена Вавилонского плена, жестоко бичевалось (Неем 5:7). Но в данном случае Закон был побежден соблазном. Ростовщичество стало обычным явлением, включая такие его разновидности, когда заимодавец берет «лихву» с людей своего народа, с братьев по вере.
От изгнаннической доли евреев избавил персидский царь Кир II Великий. Взяв Вавилон в 539 году до Р.Х. и перевернув последнюю страницу в истории Нововавилонского царства, он стал проводить мягкую политику в отношении ранее покоренных народов: им разрешалось переселяться на те территории, с которых они были депортированы, организовывать самоуправление, восстанавливать храмы и святилища. Кир позволил евреям вернуться в Иерусалим и даже призвал их строить «дом Господа, Бога Израилева» (1 Езд 1:3). Переселенцам были переданы священные сосуды и утварь, вынесенные из Иерусалимского храма Навуходоносором (1 Езд 1:7–8).
Ветхозаветное откровение уже в эпоху господства персидской державы и задолго до Константина Великого называет владыку Империи помазанником Божиим, предвосхищая мысль о соработничестве (по-гречески «симфонии») Церкви и Империи. Пророк Исаия возвестил евреям о том, что Бог именует персидского царя Кира Своим пастырем и помазанником, которого Он держит «за правую руку», помогая ему во всех его делах.
«Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтоб отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись; Я пойду пред тобою и горы уровняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю; и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что Я Господь, называющий тебя по имени, Бог Израилев. Ради Иакова, раба Моего, и Израиля, избранного Моего, Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал Меня. Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя ты не знал Меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного» (Ис 45:1–6).
Никого больше, кроме царей из дома Давида и самого Спасителя – Иисуса Христа, Писание не называет «помазанником». Очевидно, что в лице Кира Бог усыновил Империю и ввел ее в пространство Священной истории. Отныне императоры, пусть они еще и не знали Истинного Бога, переставали быть просто земными владыками и становились помазанными от Бога царями. И это будет относиться ко всем последующим персидским монархам, равно как и к Александру Македонскому и его преемникам, а также римским императорам, вплоть до святого Константина Великого, в котором соединятся власть помазанника и ведение Истинного Бога.
Освобождение из Вавилонского плена вновь создавало для евреев уникальную возможность следовать своей вере, как ее проповедовали пророки Израиля. Они стояли перед царем огромной державы уже не как подданные, не как потерпевший поражение и порабощенный народ, но как свободные люди. Персидский правитель обходился с ними крайне благожелательно и проявлял почтительное отношение к их религии. Таким образом, Бог вновь посылал евреям шанс через проповедь оплодотворить языческую Империю истиной и научить ее правильной вере.
Однако встреча общины израильтян и Персидского царства лишь высекла искру идеи о симфонии, после чего и Ветхая Империя, и Ветхозаветный Израиль вступили в последний этап своей исторической жизни. Всего через несколько веков им предстояло передать эстафету Богом данной миссии своим преемникам. Империю впервые в истории ожидало перемещение в другую часть ойкумены – из Месопотамии в Рим. А Ветхозаветной Церкви надлежало встретиться со своим Богом – Господом Иисусом Христом, основателем Церкви Нового Завета.
Но все это впереди, а пока вернувшиеся на родину из Вавилона еврейские эмигранты ликовали по поводу восстановления Храма, который был построен не без трудностей. Виной всему были самаритяне – немногочисленное население северного Израильского царства, уцелевшее после покорения Ассирией, оставшееся жить в Палестине и испытавшее сильнейшее влияние Ханаана. По их доносу, как рассказывает 1-я книга Ездры, персидский царь (по всей видимости, это был Камбиз) остановил восстановление Храма из соображений борьбы с сепаратизмом. Но пророки Аггей и Захария побудили иудеев возобновить строительство, а вскоре царь Дарий, великий устроитель Персидской Империи, официально поддержал возведение Храма: «И от меня дается повеление о том, чем вы должны содействовать старейшинам тем Иудейским в построении того дома Божия, и именно: из имущества царского – из заречной подати – немедленно берите и давайте тем людям, чтобы работа не останавливалась; и сколько нужно – тельцов ли, или овнов и агнцев, на всесожжения Богу небесному, также пшеницы, соли, вина и масла, как скажут священники Иерусалимские, пусть будет выдаваемо им изо дня в день без задержки, чтоб они приносили жертву приятную Богу небесному и молились о жизни царя и сыновей его. Мною же дается повеление, что если какой человек изменит это определение, то будет вынуто бревно из дома его, и будет поднят он и пригвожден к нему, а дом его за то будет обращен в развалины. И Бог, Которого имя там обитает, да низложит всякого царя и народ, который простер бы руку свою, чтобы изменить сие ко вреду этого дома Божия в Иерусалиме. Я, Дарий, дал это повеление; да будет оно в точности исполняемо» (1 Ездр 6:8–12).
Очевидно, что строительство Храма в Иерусалиме рассматривалось как общеимперское дело, а Ветхозаветная Церковь смотрела на Дария как на своего царя. Освящение состоялось 12 марта 515 года до Р.Х., при этом были принесены жертвы и прочитаны молитвы за персидского царя. Казалось, Ветхозаветная Церковь осознала свое место в Империи. Это был день великой радости и надежды, многие считали, что вскоре станут свидетелями пришествия Господня в мир людей.
Однако коллективная память народа Израиля оказалась заражена чужим опытом. Кроме того, далеко не все пожелали вернуться на землю прадедов. Хотя большинство все же отправилось в Иерусалим и прилегающие области, однако оставшиеся в Вавилонии образовали весьма многочисленную и богатую диаспору. Эта часть иудеев, изгнанных из родных мест, прельстилась своим материальным положением и комфортом в Вавилоне и не вернулась в Землю, обетованную Богом Израилю.
Вавилонская диаспора оказывала значительное влияние на тех, кто вернулся и отвращала иудеев от обычаев чистоты веры. Евреи вновь стали активно смешиваться с окружающими языческими народами, и прежде всего, с Ханааном. Дети, рождавшиеся от смешанных браков, не получали истинно иудейского воспитания и религиозного образования, плохо знали родной язык. Все больше распространялось дерзкое неприятие и опровержение существования промысла Божия.