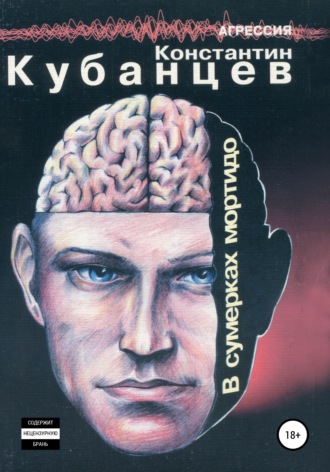
Константин Борисович Кубанцев
В сумерках мортидо
Глава VII
“7 июня, понедельник, 20.00.
– Все, Катя, спасибо. Мы закончили, – Катя смотрит на меня вопросительно и уходить не собирается, а я смотрю на часы. 20.02. Ничего срочного. Я благополучно завершил обход и теперь, если не произойдет что-то экстренное, пару часов практически свободен. В десять мне предстоит еще раз по быстрому пробежаться по всем этажам, а потом – можно отдохнуть. И Отпустить девочку, а самому посмотреть телевизор и почитать? Катя меня опередила.
– Павел Андреевич, может быть, выпьете со мною чаю?
Она произносит это с такой игривой и двусмысленной интонацией, что я сдаюсь. Не сделать этого сейчас… а вдруг она уговорит меня позже? Тогда я не высплюсь, и завтрашний рабочий день – насмарку! Два часа до десяти – вполне достаточно.
– Хорошо, – я ласково улыбаюсь. – Мне в голову пришла неплохая мысль, – машинально я продолжаю думать о репутации – и своей, и, между прочим, ее, – давай-ка спустимся на шестой этаж. Это прямо под нами, но все-таки – другое отделение. Люкс у них свободен. Там и посидим. Хорошо?
Я имею в виду такую же палату, как та, в которой у нас на этаже лежит Дмитриев, с телевизором, туалетом, замком.
– Здорово! Побежали!
Катя выпалила эти слова с таким энтузиазмом, что мне опять стало немного стыдно. Вот что значит молодость!
Мы направились к лестнице. По дороге я заглянул в свой кабинет и прихватил с собой пару бутылок пива. Вместо чая.
Открыть пиво я не успел. Как только мы вошли и за нашими спинами автоматически защелкнулся замок, Катя принялась раздеваться. Сначала неуверенно, бросая на меня быстрые взгляды из-под опущенных ресниц, а потом – все быстрее и быстрее. Через несколько секунд она в последний раз вопросительно посмотрела на меня и… и белоснежный халат упал с ее плеч одновременно с лифчиком.
Теперь Катя стояла передо мною в белых узеньких трусиках и матерчатых тапочках на босу ногу. Маленькая грудь с небольшими светлыми сосками была покрыта ровным загаром. Мысль о том, что эта девочка загорала голой возбудила меня и я, молча, как и минуту назад Катя, принялся теребить пуговицы своего халата.
Стаскивая через голову свою операционную куртку, я почувствовал, как легкая девичья ручка уверенно пробралась ко мне в трусы.
Кровать поскрипывала в такт ритмичным движениям, отвлекая…
Катя, лежа подо мною, обхватив меня мускулистыми ногами и положив стопы мне на ягодицы, старательно двигалась. У нее была прохладная упругая кожа и влагалище нерожавшей женщины. В первые минуты она попыталась в голос стонать. Я прошептал ей на ухо, что мы, все-таки, на работе, в больнице. Она вняла и страстные стоны сменились веселым мелодичным смехом, как мне казалось, искреннем!
Я ускорил темп…
Словно ударил гром: бам-мм-м! Где-то очень близко. Над ухом. Что случилось? А-а, что-то упало! Что? Но кровать, под нашими телами, еще держалась, остальное – было неважно. Пора! Моя сперма стремительным и неудержимым потоком излилась во внутрь горячей тесной полости. Забыв о моем предупреждении, Катя запричитала: – Ах, ах, ах”.
20.35.
– Молчи и слушай.
– В…ули.
Голоса раздавались совсем рядом. И в какой-то момент Павлу показалось, что говорившие вошли в палату. Прислушаваясь, Павел приподнялся, опираясь на локти. Катя, улучив момент, несколько раз глубоко вздохнула, а потом, обогатив свое юное тело кислородом, еще плотнее сомкнула свои бедра вокруг его талии.
Никого. Ух, действительно показалось. Все в порядке!
20.42.
– Должен, мы договорились.
В ответ невнятное бормотание: —Н-нь – гу…гу…гу.
И снова тот голос, что звучал погромче: —…ешь …йешь …подумай …я не знаю …лучше …верю …ешь.
Длинная фраза закончилась словом «завтра». И снова невидимый собеседник несколько раз повторил “гу, гу, гу”, словно во рту ему что-то мешало. И опять – “ешь”.
Павел разбирал отдельные слова, он их смысл уловить не пытался, как если бы в комнате работал телевизор или радиоприемник. Ему было не до слов. Катя под ним опять раскачивала и елозила тазом, набирая темп: из стороны в сторону, вверх – вниз. И он сосредоточился на ее теле. Расширенные зрачки, учащенное дыхание, напрягшиеся соски, резкий сумасшедший аромат и – горячая волна омыла его член.
– Сволочь, сделаешь, – звонкий звук пощечины и глухой сдерживаемый стон оторвали Павла от женщины, но и она, достигнув пика своего наслаждения – восхитительного мига оргазма, утратила свою активность и двигалась лишь по инерции.
– Катя, ты слышишь? – шепотом спросил Павел.
До конца не осознанное беспокойство закопошилось где-то на заднем дворе его сознания. Может быть – ему знаком этот голос? Черт его знает.
– Что? А-а, это? Слышу. Заслонка вылетела.
– Что? Какая заслонка? – удивляясь, переспросил Павел. Он еще не вышел из нее и продолжал, словно позабыв, по-прежнему лежать на ее теле.
– Вон та! Видишь валяется.
Катя извлекла из-под него свою руку и указала пальчиком в центр комнаты.
Павел обернулся. У противоположной стены, на полу, покрытом коричневым линолеумом, дешевом и некрасивом, действительно лежал предмет, издалека напоминавший щит, выкрашенный в светло-зеленый цвет больничных стен. А под потолком серым пятном зияло отверстие, совпадающее с ним по площади и форме. В глубине этой дыры были видны черная металлическая труба, провода, что-то еще.
– Коммуникационная шахта, – догадался Павел.
– Вентиляция. А может и нет. Не знаю. Но если на пятом курят, здесь воняет, и даже у нас, на седьмом – воняет, – продолжала разъяснять Катя, лениво облизывая ему лицо.
– Ага, – пробормотал Павел, – На пятом.
Павел размышлял. Обрывки разговора показались ему необычными. И потом – звук удара. И стон. Его он слышал отчетливо. Придется выяснить, что происходит. Ведь в больницах случается всякое. Как и в любом другом публичном месте, люди здесь общаются, а значит и не дружат, ругаются, дерутся. И не только – они выпрыгивают из окон, воруют наркотики, вступают в половые отношения, убивают и умирают. А если принять во внимание потенциал негативной энергии, присутствовавший под ее крышей, то такой выброс эмоций совсем не удивляет. И Павел совсем не желал, чтобы на его дежурстве произошло нечто подобное.
– На пятом? В гинекологии. Интересно, кто и кого столь интенсивно заставляет там кушать? – вспомнил он последние слова. – Катенька, ты – чудо.
Он начал подниматься.
– Ты уходишь? Вы…
– Катя, Катя, – он шутливо погрозил ей пальцем. – У нас с тобою – рабочий процесс. Не забывай. Я спущусь в гинекологию, а ты прибери в палате и поднимайся в отделение. Я еще зайду.
– Я жду, – протянула Катя так томно, как только ей позволил ее девичий темперамент, не омраченный расставаниями, изменами, горькими разочарованиями. Павел улыбнулся.
Оставшись в одиночестве, Катя лениво потянулась и перекатилась на живот. Вставать не хотелось. Имеет она право на несколько лишних минут. Никто за это её не поругает.
Ей было хорошо. Было тихо и тепло. Она лежала в чистой постели, хранившей запах мужчины, смешанный с ее собственным. И спешить действительно было некуда. И оправдываться ей не придется. Можно еще раз насладиться только что пережитыми мгновения, вспоминая и воссоздавая свои чувственные ощущения мысленно.
К Павлу она чувствовала искреннюю симпатию и интерес и то, что он был ее непосредственным начальником, в сущности, значило для нее немного. Она была еще слишком молодой и бесшабашной для долгосрочных расчетов и прогнозов. Сиюминутное удовольствие и радость – вот что притягивало её и манило. И, сама не понимая да конца этого чувства и его значения, она была ему благодарна. Не Павел затащил ее в кровать, раздавливая сопротивление своим авторитетом и положением. Нет. Он не заставлял её, как другие, давиться с ним водкой – а после водки ее тошнило, прежде чем повалить ее на больничную койку, прежде чем согнуть её пополам у стола в ординаторской. Нет. Хотя… И усталые хирурги, принявшие для тонуса, и рьяные интерны и задумчивые клинорды и любознательные студенты-старшекурсники – все лучше, чем разбитные сопляки со двора, где она жила со своими родителями с самого рождения. Те разговаривали с ней привычным матом. Этим же языком выражали свои притязания на ее тело. И приходилось уступать. Потому что было страшно! Не хотелось быть избитой или обритой наголо глумящимися волчатами. Не хотелось бояться каждый день, что вот сегодня тебя затащат в подвал, где обкурившись или надышавшись клея или какой иной гадости свора подонков изнасилует её и надругается, и изуродует чистое красивое юное тело. Нет, уж лучше дать – самому сильному. И она – давала.
В больнице все происходило по-другому. Чистые простыни… Некоторые из ее подружек брезговали. Да, на их бледно-серых застиранных поверхностях хорошо были видны разводы и узоры. Мочи. Крови. Гноя. Всего вместе. Ерунда! Простыни стираются в прачечных. И они, небось, почище тех, что выдают в банях, куда бегают ее подруги, чтобы трахнуться на тамошних диванах, лоснящихся от подсохшей спермы. А в больнице постоянно есть вода. Не может её не быть! Душа, конечно, в палатах нет, не предусмотрен, но умывальники – в каждом помещении. Есть возможность подмыться. А это – не маловажно! И на работе – она всегда сытая. На кухне столько остается! Даже сейчас, когда все кричат, что денег на питание больным нету. Неправда! Не вкусно, но много. И больным хватает, и самым-самым бедным. А те, что побогаче, заискиваясь, дарят конфеты, шоколадные плитки, апельсины. На праздники – шампанское и коньяк. И нередко! Она не любительница, но почему бы не пригубить с подругами во время вот такого дежурства, как, например, сегодня. И высыпается она хорошо! Обычно – высыпается. На дежурстве – поднимают нечасто. Может, отделение спокойное? Плановое. Наверное. А еще – бесплатные лекарства. И доктора стараются помочь, если кто-то из близких вдруг заболеет. У Кати, слава богу, из родных никто не болеет, но – на всякий случай – приятно знать. А аборты? Да мало ли чего еще. Всего не предусмотришь! Обо всем не расскажешь. Ох, с работой ей определенно повезло!
Две бутылки пива так и остались неоткрытыми. Паша про них и не вспомнит, подумала Катя и одну открыла и сделала глоток прохладной горько-сладковатой пьянящей влаги. Вкусно. Хорошо. Она облизала с губ пену. Еще…
Волна истомы накатила и унесла, убаюкивая. Она задремала, утомленная любовью и мыслями, разбавленными легким алкоголем.
– Мы тебя убьем.
Катя встрепенулась. Неужели заснула? Сколько времени?
Она по-прежнему лежала обнаженная на жесткой больничной койке, поскрипывающей каждой своей растянутой пружиной, повернувшись на правый бок, подложив ладошку под щеку, как учили в детском саду, а левую руку – пропустив между бедер, словно защищаясь.
“Проспала?”
Ей показалось, что в дверь стучали. Или, наоборот, захлопнули? Она прислушалась, но звук не повторился. Кто-то сказал, что убьет ее? Нет! Все приснилось. Сколько же времени? Почти половина десятого. Значит… На минуту Катя задумалась, стараясь сообразить – значит, спала она минут двадцать пять, не больше. Ничего, терпимо.
Она вскочила. В минуту набросила на себя трусы, лифчик, халат, сунула босые ступни в легкие разношенные тапки, взглянула на себя в крошечное карманное зеркальце, что всегда носила при себе, и снова его спрятала. Готова! На свежем юном лице не было и следа сонливости, утомления и отпечатка пережитого наслаждения. Оно было беззаботным и по-кукольному невинным. И когда она вышла из палаты, гостеприимно приютившей ее на полтора часа, она уже позабыла и про свой сон, и про странные звуки, наполнившие палатное помещение сиюминутной тревогой и недосказанной угрозой.
Десятью минутами раньше, в то время пока сонные мечты и грезы владели Катериной, к дверям палаты подошел человек в белоснежном накрахмаленным халате. И громко постучал. А затем сильно дернул за ручку. Заперто? Он снова постучал. Он действовал не таясь и шумно, не стесняясь потревожить в поздний час больных и персонал.
Из сестринской, расположенной довольно далеко, а именно через три или даже четыре палаты, выглянула, а затем вышла дежурная сестра и, узнав стучавшего и немного оробев, поспешно приблизилась к нему: – Добрый вечер, – и догадавшись, чего он ждет от нее, объяснила: – А палата – пустая. Открыть?
– Ах, пустая. Да нет, не надо. Кажется я перепутал этажи. Мне – на седьмой. Прости, деточка, перепутал. У вас все в порядке?
– Да. Все спокойно, обход Павел Андреевич провел.
– Павел Андреевич дежурит? Чудесно! А где он, кстати?
– У себя, наверное. От нас ушел давно. Часа два назад.
Сестра отвечала не задумываясь и совсем не врала. Тот факт, что Павел в течение часа находился на этом этаже, был ей нет ведом.
– Значит у себя. Спасибо, дружок, – задумчиво пробормотал “белый” халат.
Павел неторопливо шел по коридору. Проходя мимо настежь распахнутых дверей больничных палат, он невольно улыбался, все еще держа в уме милое Катино личико и смешной тон, коим она, наивная, изображая из себя возлюбленную уходящего в поход рыцаря, попрощалась с ним.
“Куда я? Ах, да, в гинекологию, – вспомнил он почему оставил влюбленную сестру. – Ждать лифт не буду. Спущусь. Труда не составит”.
Вскоре он стоял перед нужной дверью.
Однажды, войдя в палату на утреннем обходе, Павел застал молодую пару в пикантной ситуации. Буквально за час до операции. Возможно, девушка, а оперироваться предстояло именно ей, таким не традиционным образом успокаивалась? А если вдуматься – способ хорош. По физиологическому эффекту – в самую точку. Сначала выброс адреналина, а потом – спад, до опустошения. Полное освобождение от тревожных мыслей, забот и только мягкая приятная усталость и сонливость. Хороша премедикация! В общем, когда в палату входит доктор, он, естественно, не стучит.
В палате действительно находилось двое. Женщина лежала на спине, укрывшись до подбородка простыней. Черты ее лица были спокойны, разглажены. Рядом с постелью в массивном кресле, уткнувшись в газету, сидел её пожилой супруг.
Он вопросительно посмотрел на Павла и устало улыбнулся, топорща обвисшие усы: – Добрый вечер, доктор.
– Добрый, – Павел улыбнулся в ответ и задал – обоим – традиционные вопросы: – Как себя чувствуете? Что-то вас беспокоит?
– М-да, все хорошо. Людмила Александровна заходила, – ответил муж.
– Хорошо? Значит, все в порядке? – переспросил Павел. – Ко мне вопросов нет?
– А вы кто? – вежливо поинтересовался муж.
– Родионов. Заведующий хирургическим отделением, – пояснил Павел. – На данный момент – ответственный врач.
– Ясно, но мы вроде бы все с Людмилой Александровной…
– Ну и ладненько, – не дослушал Павел.
Ему здесь делать нечего, понял он, но и объяснять ему что-либо – не надо. Нет такой нужды. Заглянул врач в палату – внимание больному. Если в этой палате и бушевали страсти когда-то – сейчас все в порядке.
И хорошо, с облегчением подумал Павел. Развернувшись, он заспешил к себе.
С пятого на седьмой он поднялся на лифте. Не высоко, но – из принципа! За суточное дежурство легко можно набегать несколько километров.
Отделение казалось опустевшим. Пустой коридор, больные разошлись по палатам, на сестринском посту, что расположен посередине отделения, тоже никого.
Он выругался вслух: – Черт! И ведь замечание – не сделать! Кто сестру увел? Я. А тех двоих – только тронь. В моей ситуации – лучше не трогать. Нарвусь на грубость, и вообще, чем меньше поводов для обоюдного раздражения, тем меньше болтовни. Впрочем, Катя наверняка перескажет сюжет вечера своим подругам. Это у сестер – как правило. Интересно, что она расскажет обо мне?
Нет, по-серьезному, не интересно. Ничего не изменится в его собственной самооценке, подумал Павел.
Далеко впереди себя, в конце коридора, он вдруг заметил высокую фигуру, облаченную в белый халат. Человек удалялся быстрым шагом. Еще секунда, и он скроется за углом. Высокий, широкоплечий.
“Константин! Кто же еще? Что он тут делает так поздно? Куда бежит? А-а, в реанимацию”.
Выход из отделения с дальней от лифта стороны, там только что скрылся человек в белом халате, считался “черным ходом” и был удобен для посещения опер. блока и реанимации. На остальные этажи было удобнее попасть, пройдя по центральной лестнице, или по боковой, где был расположен пассажирский лифт. Им только что воспользовался Павел.
Глава VIII
(не имеющая отношения к сюжету, а лишь иллюстрирующая тот факт, что в больнице может случиться всякое).
По общечеловеческим меркам дядя Ваня человеком был определенно положительный – вел он добропорядочный образ жизни, жене не изменял, пил мало. (И, возможно, последний факт и не имел того фатального значения, что потом, ретроспективно, ему приписывали. Вполне можно допустить, что имело место обычное неблагоприятное стечение обстоятельств: невезение и непруха, банальные, как времена года). …Растил сына и дочь. Вырастил! И однажды решил отдохнуть в санатории – в одном из многих, коими славен курортный город Сочинск. В санаторий, разумеется, они должны были отправиться вместе – он и его спутница жизни, законная супруга. Но та неожиданно захворала. Сказался возраст. Чтобы путевка не пропала, дядя Ваня уехал один.
Сосед по купе попался компанейский. Шебутной, веселый. Как водится, выпили. Не устоял дядя Ваня уговорам искусителя-соседа и изрядно приложился к бутылке, выставленную на стол. А что? Ехал отдыхать!
В Сочинск поезд прибыл по расписанию, почти ночью.
Сойдя с него, дядя Ваня почувствовал недомогание. Да просто очень хреново он себя почувствовал. Высокая непривычная влажность в купе с жарой, алкоголь и элементарная физическая усталость, и недосып – все сыграло свою роль. Он присел на скамеечку, схватился рукою за сердце и как будто задремал.
Когда его привезли в больницу, он был еще жив, а иначе – попал бы сразу в морг. Но в приемном покое, еще до того, как дежурный доктор оформил его поступление, наш герой – дядя Ваня – скончался.
История болезни – документ, что в существенной и самой важной своей части заполняется со слов больного. И, конечно, на основании данных осмотра живого человека… пациента, больного, клиента – как хотите, но живого и разговаривающего. Да и бланки таких историй, как некстати, находятся по ночам взаперти.
Ситуация создалась необычная. Оформлять или не оформлять, писать историю болезни в три часа ночи, болезненно борясь с приступом сна, что на дежурстве, обычно, как полоса прибоя – не преодалим, или не писать?
Врач лаконично черканул на листочке паспортные данные почившего, чтобы доложить на утреннем рапорте, и этот бумажный обрывок небрежно запихал к себе в карман. Из кусочка розовой клеенки три на шесть см. сделал бирочку, надписал и привязал её к запястью. Нет, если честно, он только создал этот непромокаемый документ, а уж на руке его закрепила сестра. Но зато доктор собственноручно положил на грудь умершему его собственный паспорт и отдал посмертные распоряжения. Смысл последних заключался в следующем – немедля отправить труп, а именно в это превратился теперь дядя Ваня, в больничный подвал (с глаз долой – в прямом и переносном значении), чтобы там, в тишине и покое, он ждал свое последнее такси – специальную машину для перевозки трупов из больниц в морг, неброский медицинский “РАФ”, под “скорую”, прозванный в медицинской среде “труповозкой”, чтобы ждал, потому что служба транспортировки трупов (другими словами, уже упомянутая “труповозка”) работает не круглосуточно, а с восьми до четырех, и с обеденным перерывом. И такая машина – одна на весь город. И справляется служба или нет с объемом работы – в нашей истории неважно.
Вызывают “труповозку” обычно по утрам. Сделать это обязан дежурный врач.
И так, мертвого человека повезли в подвал. Там прохладнее.
Спуститься требовалось всего на один этаж, но умерший, ясное дело, самостоятельно сделать этого не может. Его повезли на каталке. Процессия: медицинская сестра – руководитель, санитарка в роли свидетельницы и одновременно плакальщицы и исполняющий заглавную роль дядя Ваня, в указанном состоянии плоти. Все вместе спустились в подвал. Растворились двери лифта…
– Давай оставим его здесь, в лифте. Чего его катать туда сюда? – пристально рассматривая невысокий порожек, предложила санитарка, – через два часа начнется новый рабочий день (в самом деле¸ уж пробило шесть) и за ним придут.
– Хорошая мысль, – немного подумав, согласилась мед. сестра.
И живые покинули авансцену. А труп просто оставили в лифте. Чтобы не бросался в глаза и не портил бы умиротворенного в своей пустынной простоте мрачноватого подвального пейзажа, заставляющими и без того размышлять о вечном, чтобы не загонял в шок случайно забредшего больного или посетителя. Словом, бросили дядю Ваню одного, захлопнули двери и… что-то там поломалось. (Но ничего страшного! Во-первых, больница была трехэтажной, а в во-вторых, еще два лифта продолжали благополучно функционировать).
На утренней конференции дежурный доктор подробно и обстоятельно, как ему потом самому казалось, доложил о случившемся ночью. И – ничего необычного. И в самом деле – умер больной, но до того… до всего, до того, как его стали лечить! А то бы выздоровел! И нет тут вины докторов! Определенно нет! Промелькнуло сообщение – умер человек, но не отложилось оно в памяти ни у кого! Не наше дело, подумали все. Не наша головная боль, рассудили заведующие отделениями – раз больной по отделению не проведен. Меня не касается, отметили каждый врач-ординатор, из присутствующий на утреннем рапорте, коль в палате его ноги не было.
О дяде Ване доложили, услышали, забыли.
Впрочем, существует определенная процедура и все были уверены, она – исполняется.
Это уже потом дежурный врач божился, что машину он вызвал. А может быть и вправду вызывал. Может, машина все-таки приезжала и даже забрала труп. Но другой, вновь возникший! И посчитала вызов закрытым! Все может быть. Одним словом, тело дяди Вани в тот день из лифта никто извлекать и не подумал!
Врач, дежуривший в ту злополучную ночь, отправился в заслуженный, гарантированный нашей конституцией, двадцати четырехдневный отпуск. И уж отдыхал он – на полную катушку. Ни разу его не посетила мысль о больнице, о своем рабочем месте, о страждущих и страдающих. Вино и пиво, женский смех, теплая соленая вода наполняли каждый его день радостью, отодвигая в сторону рутину прошлого и предсказуемую усталость будущего. А когда он благополучно и в срок вернулся, все, что произошло, уже выветрилось из его просветленной памяти.
А лифт не работал. Что-то сломалось. По какой причине? Черт его знает. Больничные лифты выходят из строя регулярно и без предупреждения.
Лифт не работал, но его бездействие не сбивало весь рабочий коллектив с общего рабочего бодрого ритма, потому что пользовались им нечасто, а лишь по особой нужде, в случае острой необходимости. По этой же причине, лифт не принадлежал никому! То есть – не был составной частью какого-то конкретного отделения. Иногда им пользовались сестры-хозяйки, чтобы спустить вниз белье, предназначенное к стирке, иногда – чтобы вывезти, как уже живописалось, труп. Лифтеры о его поломке, конечно, знали, но по своей природе лифтеры люди неторопливые, не на экспрессах гоняют, и молчаливые. То ли такие идут сюда, то ли профессия их делает такими, кто разберет. Флегматичные люди – лифтеры! Да и работы им поменьше, если один из лифтов вдруг замер, встал, превратившись на время – то ли в телефонную будку без аппарата, то ли в подлодку без перископа, то ли в крошечный бордель.
Но, наконец-то, информация пошла по инстанциям. И дошла до заместителя главного врача по хозяйственной части. Тот срочно и строго вызвал бригаду лифторемотников. Да, строго!
Но и в бригаде люди оказались не слишком торопливыми. Бригадир бригады, как положено руководителю, наезжал в больницу. Дружески тряс руки многим. Уединялся с начальником хозяйственной части в его кабинете, где они подолгу пили коньяк или, на худой конец, спирт и говорили про лифты. Иногда бригадир подписывал бумаги. Иногда бумаги подписывал завхоз.
Так продолжалось недели три-четыре.
Наступила осень, разъехались курортники. Опустели пляжи. Теперь по их пустому овдовевшему пространству прохладный морской бриз метал легкие пластиковые бутылки, стаканчики из-под вина и обрывки газет, на которые еще совсем недавно отдыхающие опускали свои радостные зады, ловя остаточные лучики последнего летнего, уже не греющего, солнца. Бегали местные мальчишки, высматривая среди серых голышей потерянные беспечными отдыхающими вещи: очки, авторучки, плавки, купальные шапочки, выискивая мелочь, выброшенную на берег в шторм, заброшенную в море – в надежде.
Семья дяди Вани, конечно же, не дожидались этого грустного момента. Они спохватились сразу. Дня через три, может быть четыре. Прозвонили санатории. Обратились в милицию. Самое страшное – больницы и морги – проверили.
Милиция предприняла свои меры, в эффективность которых, впрочем, сама не верила. Но всероссийский розыск объявлен был! Но безрезультатно!
Недели через две и жена, и дети уже не надеялись увидеть своего мужа и отца живым. И мертвым – тоже. Да и что оставалось думать? Человек уехал отдыхать – здоровый, любимый, добрый, беззащитный, дорогой, немолодой. В одиночестве. Отдыхать – значит кое-какие деньжонки при нем были, а летний курорт – очевидно-опасно-криминогенный район. Да! Здесь меняются судьбы. Тела устремляются друг к другу в порыве… сметая прошлое, разбивая, попутно, фарфоровую хрупкость детских глаз и прозрачную остекляненность супружества. Любовное сумасшествие, как преступление, а преступление, как игра, охватывает толпу. Нетрезвый ресторанный взгляд. Шезлонг, пирс и прыжок в бурлящее море, заполненное опаленными солнцем телами – и не протолкнуться, и случайные объятия под водою, скользкие и мимолетные. Невольное прикосновение к руке у кассы, потом – соседние места в кинотеатре под открытом небом, и стиснутость бедер на заднем автобусном сидении – всё, каждый эпизод, каждое слово объединяют людей в таинственные законспирированные общества, чтобы через неделю разметать их по необъятной нашей стране, как декабристов, оставив след – сквозь годы. И мелькают лица, и звучат голоса, и люди, как силуэты, безмолвны и призрачны. А в курортном городе полно “гастролеров”, злых и безнравственных. И здесь легко затеряться и скрыться.
О чем еще думали – жена, сын и младшая дочь?
Настал долгожданный момент, и бригада треста по эксплуатации грузовых подъемных агрегатов, как спецназ, как тайная группа морских диверсантов, спустилась в больничный подвал…
Привычно откинув маленькую металлическую дверку щитка управления, один из них – тот, кому положено, тот, кто был готов к этому лучше всех, покрутил указательным пальцем небольшое, хорошо смазанное техническим маслом колесико, и двери лифта, кряхтя и постукивая друг о друга от нетерпения, грея застывшей солидол, кровь своего сердца, растворились…
Ну нельзя сказать, что запах был ужасным. За два месяца он выветрился. Пролетел сквозь шахту, спуская пар на каждом этаже понемногу, по чуть-чуть и практически незаметно. Но вид разложившейся, распавшейся, растекшейся органической ткани, совершившей качественный скачок и превратившейся в неорганическую, самопроизвольно преобразовавшей свою внутреннюю глубинную структуру… Ах, лучше не описывать.
То, что ни с кем из лифторемонтомастеров не случилось ничего плохого – это только благодаря тщательно продуманной всеобъемлющей подготовке! (И даже минут за пятнадцать до того, как спуститься вниз и приблизиться к дверям лифта, то есть, по их мнению, приступить к работе, они приняли грамм по сто разбавленного до семидесятиградусной крепости медицинского спирта, который и сыграл роль кардиопротектора. Предвидение!) Да, они все пережили это, но чтобы восстановить душевное равновесие и их дальнейшее спокойствие, администрации больницы пришлось пожертвовать остатком дневного запаса спирта, не считая, как водится по больницам, коньяка и водки.
И начались разборки. В этот же день выяснили, что, кто и когда! Выяснили фамилию больного.
Доктор, дежуривший в злополучную ночь смерти дяди Вани, несмотря на предвкушение отпуска и явного пренебрежения своими обязанностями в оформлении истории болезни, все-таки оставил запись в журнале дежурного врача, содержащую всю ту же паспортную справку. Это спасло его от юридической ответственности. Ему, не раздумывая, влепили выговор, на который он тут же, выйдя из кабинета главного врача, и положил… После чего удалился к себе в отделение, отменил плановую операцию и раскупорил бутылку коньяку, полученную авансом именно за ту операцию, что он отменил.
Паспорт? Да. Был. Положенный рукой деж. врача на обнаженный живот мертвеца, этот документ настолько промок в зловонной черной жидкости и слипся, что никто не мог заставить себя взять его в руки и попытаться прочесть.
Патологоанатом – ему деваться было некуда, подхватил картонный переплет длинным пинцетом и, брезгливо морщась, опустил документ или то, во что он превратился, в полиэтиленовый пакет и тут же сунул его санитарке: – Люба, отнеси главному врачу.
Увидев зловонную бумажку, некогда бывшую документом, главный врач завернул ее во второй полиэтиленовый пакет, затем – в газету, и брезгливо бросил в свой сейф.
Что делать дальше – он должен был подумать. Вообще, как выйти из получившейся ситуации, об этом следовало подумать хорошенько…
За истекший период, а прошло почти три месяца, в горбольницу Сочинска по поводу умершего никто не обращался. Нет! Определенно! Ну и хорошо. Возможно, он бомж, хотя и не похоже. Со слов дежурного доктора – картина типичного инфаркта, криминала вроде бы нет. Как оформить труп, за которым не обратились?
– Никто? Точно, что никто! Проверили?
– Да!
И на следующий день останки дяди Вани в наглухо задраенном гробу были захоронены за счет больницы на дальнем, самом забытом кладбище города.
На фанерке, закрепленной на коротенькой палочке, воткнутой в свежевзрыхленную землю, значились фамилия и инициалы.
Следующий вопрос, что пришлось решать главному врачу, звучал банально – кто виноват?
А виновных вроде бы и не было.
Но так, конечно, не бывает.
– Допустим, дежурный врач отчитался по правилам… Его, кстати, уже наказали. А второй раз, как известно, за то же преступление не наказывают. Хорошо, оставим этого доктора в покое. А почему никто не обратил внимание на информацию о смерти пациента? Очень, очень плохо. Недопустимо! Кто-то должен был обратить! Да! – высказал он свое мнение на утреннем рапорте.
К счастью, в больнице существовала специальная для подобной ситуации должность. Этакий мальчик для битья, а именно – нач. мед, заместитель главного врача по лечебной части по фамилии Карпенко. В основном потому что был он молод и не умен, и опытные заведующими отделениями, разбирающиеся в своей области, не ставили его ни во что. Он зачитывал приказы и подавал главному врачу бумаги, приносил из кабинета копии методичек и исполнял обязанности “козла отпущения”, если того требовали обстоятельства и производственная необходимость. Его и наказали. Впрочем, что значит – наказали? Сам он отнесся к этому философски – деньги не отняли, по лицу не били, а выговор – пчхи-и!





