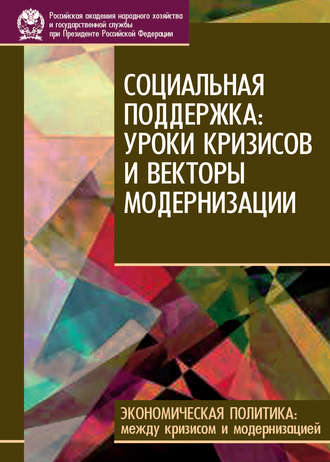
Коллектив авторов
Социальная поддержка: уроки кризисов и векторы модернизации
1.1.4. Структура использования денежных доходов
Важным индикатором оценки потенциала населения, с точки зрения маневра в условиях кризиса за счет накопленных ресурсов и перспектив модернизационного развития, является структура расходов населения. На макроэкономическом уровне динамический структурный анализ данного объекта затруднен изменениями в методологии статистического учета, связанного с выделением отдельных статей расходов, таких как приобретение недвижимости, покупка иностранной валюты и другие новые для россиян виды расходов. Ориентированная на советские стандарты модель учета использования денежных доходов представлена в табл. 1.8.
Таблица 1.8
Структура использования денежных доходов населения Российской Федерации, %, доходы = 100 %

Источник: Рассчитано на основе данных Росстата.
Таблица 1.9
Состав денежных расходов населения, %

Источник: Рассчитано на основе данных Росстата.
Рыночная модель формирования расходов была внедрена с 1999 г. и отличается от ранее действовавшей именно спецификой учета финансовых активов и расходов на приобретение недвижимости (табл. 1.9). Что же характеризует специфику расходов российского населения? Во-первых, обязательные платежи и взносы по сравнению с другими странами с развитой рыночной экономикой составляют незначительную часть расходов населения. Это означает, что основным плательщиком налогов продолжают оставаться корпорации, а не население. Данная характеристика экономического поведения граждан наиболее важна для разработчиков моделей модернизационного развития, поскольку именно маневр передачи доходов и полномочий по уплате налогов от корпоративного сектора населению помог формированию сообщества свободных и ответственных граждан, способных реализовать модели постиндустриального развития, и этот этап развития у нас в стране еще не пройден. Вместе с тем при практически неизменной системе налогообложения сектора домохозяйств, с 2003 г. наблюдается устойчивый рост расходов на обязательные платежи и взносы, который обусловлен развитием жилищных, образовательных и потребительских кредитов. Кредитование сектора домашних хозяйств само по себе является мощным институтом рыночного развития.
В самом начале структурного кризиса (1992–1994 гг.) у населения практически не было ресурсов для сбережений, но при первых признаках экономического оживления и появлении надежных форм хранения сбережений значительная часть доходов стала инвестироваться в сбережения. В целом в 1992–1999 гг. наиболее надежной формой хранения сбережений являлась иностранная валюта (см. табл. 1.8), однако она перестала быть основным способом хранения сбережений на этапе экономического роста. На первой его фазе население наращивало финансовые активы (см. табл. 1.9), к 2003 г. они стали составлять более 20 % расходов населения, но вторая фаза (2004–2008 гг.) предложила населению более развитой рынок недвижимости, инвестиционные и кредитные предпочтения стали сдвигаться именно в сторону приобретения жилья и нежилых помещений. Кризис 2008 г., проявившийся в обесценении национальной валюты и росте недоверия к банковской системе, нашел свое отражение и в структуре расходов: население нарастило расходы на товары длительного пользования, справедливо ожидая роста цен после обесценения национальной валюты; избавилось от наличных рублей, забрало сбережения из банков и купило валюту. Прирост финансовых активов на 8,9 % общего объема расходов населения на 90 % произошел за счет покупки валюты. В принципе, сектор домашних хозяйств продолжал выполнять обязательства по кредитам, поэтому доля обязательных платежей и взносов, измеренная в процентах доходов населения, выросла: доходы упали, а обязательства по кредитам, наоборот, выросли.
Макроэкономические данные свидетельствуют о том, что на второй фазе экономического роста (см. табл. 1.9) расходы населения на приобретение товаров и услуг стабилизировались на уровне 70 %. Их дифференциацию можно увидеть при переходе к анализу расходов на конечное потребление на микроуровне[15] на основе данных выборочных обследований (ОБДХ) бюджетов домохозяйств (табл. 1.10, рис. 1.7). До рыночных преобразований основной статьей были расходы на непродовольственные товары, а покупка продуктов питания составляла 38,4 % расходов на конечное потребление. С 1992 по 2003 г. лидерами расходов стали траты на продукты питания, что свидетельствует о низких стандартах уровня жизни. Доля расходов на питание начала снижаться с 1999 г. и за истекшие десять лет сократилась на 21 п.п., что является косвенным доказательством повышения доходной обеспеченности населения и потребительских стандартов. Среди других тенденций – довольно заметный рост расходов на оплату услуг (с 9,7 % в 1991 г. до 25,5 % в 2008 г.), обусловленный в первую очередь ростом тарифов на жилищно-коммунальные и транспортные услуги. Важно также подчеркнуть, что всплеск потребительских расходов на товары длительного пользования, зафиксированный на макроуровне в первые месяцы кризиса (август – ноябрь 2008 г.), не нашел подтверждения в данных обследования бюджетов домохозяйств, это значит, что он концентрировался в очень узком сегменте среднего класса. При этом рост цен на продукты питания, обусловленный девальвацией национальной валюты, нашел отражение даже в среднегодовых данных о структуре потребительских расходов за 2008 г.
Таблица 1.10
Структура потребительских расходов домашних хозяйств в среднем на члена домохозяйства в год, по данным ОБДХ, %

Источник: Рассчитано на основе данных Росстата.

Источник: Рассчитано на основе данных Росстата.
Рис. 1.7. Основные компоненты потребительских расходов домашних хозяйств в среднем на члена домохозяйства в год, по данным ОБДХ, %
1.1.5. Субъективные оценки изменения уровня жизни и потребительских настроений
Обратимся теперь к оценкам отношения населения к социально-экономической ситуации в стране и собственному благополучию, основанным на данных социологических опросов населения ИПН[16]. Частные составляющие индекса, характеризующие материальное положение населения, как и основные макроэкономические индикаторы, показывают, что период экономического роста сопровождался улучшением ситуации с душевыми доходами: доля отрицательных оценок текущего материального положения с 2000 по 2008 г. снизилась с 44 до 20 % (рис. 1.8). Однако сразу же стоит оговориться, что такое снижение происходило преимущественно не за счет роста доли семей, чье материальное положение улучшалось (такой прирост составил лишь 8 п.п.), а за счет роста доли тех, кто находился в зоне стабильности (их материальное положение не улучшалось и не ухудшалось). Именно поэтому на уровне сектора домохозяйств в массовом сознании последние восемь лет воспринимаются не как годы роста, а как период стабилизации благосостояния.

Источник: Рассчитано на основе данных обследования ИПН.
Рис. 1.8. Компонента изменения текущего материального положения семей
Нынешний кризис внес коррективы в динамику данной компоненты ИПН. Если в июне 2008 г. 20 % населения считали, что их материальное положение за последний год ухудшилось, то уже в феврале 2009 г. доля таких людей возросла до 51 %. Такого высокого процента населения, отмечающего падение уровня доходов, не наблюдалось ни разу на рассматриваемом промежутке времени. Но еще более интересным является результат, свидетельствующий о том что в апреле 2009 г. ситуация выглядит более оптимистично по сравнению с февралем, и это при том, что экономисты говорили о нарастании экономического кризиса, «дно» которого тогда еще не было достигнуто.
Аналогичные тенденции характерны для компоненты ожиданий изменения материального положения домохозяйства в ближайший год. На рис. 1.9 видно, что до 2009 г. ситуация улучшалась, ожидания населения становились более оптимистичными. В феврале 2009 г. произошло резкое ухудшение ожиданий семей: половина респондентов считали, что их материальное положение ухудшится. В апреле доля пессимистов сократилась до 35 %, что отражало происходящую в сознании людей адаптацию и понимание того, что худшие опасения не оправдались.

Источник: Рассчитано на основе данных обследования ИПН.
Рис. 1.9. Компонента ожиданий изменения материального положения домохозяйств в ближайший год
Подводя итог, отметим, что за годы постсоветского развития Россия прошла гигантский путь в адаптации доходов и потребительского поведения населения к новой экономической модели: возникли новые источники доходов и направления расходования денежных средств; население, пройдя через структурные и финансовые кризисы, выработало модели поведения в условиях экономического спада; массовое участие в кредитовании и рынке жилья способствовало развитию навыков рыночного поведения на уровне сектора домашних хозяйств; финансовые активы и расходы на покупку недвижимости стали составлять значимую часть в доходах и расходах домохозяйств. Цена за прохождение через реформы и кризисы была заплачена немалая: двукратное падение реальных доходов в начале рыночных реформ и восстановление их предреформенного уровня только к концу 2006 г. Эти процессы развивались на фоне роста дифференциации доходов в 3,5 раза. Вместе с тем структура расходов населения России указывает на то, что она еще далека от социумов постиндустриального типа, в рамках которых население напрямую, а не через корпорации, платит основные налоги, что существенно повышает его статус как экономического агента.
1.2. Неравенство в распределении доходов населения: факторы развития и стагнации
1.2.1. Макроэкономический мониторинг дифференциации доходов населения: возможности и ограничения
Как уже отмечалось, становление рыночных отношений в России сопровождалось стремительным ростом неравенства в распределении доходов. Большинство исследователей[17] относят рост неравенства и бедности к основным социально-экономическим рискам, порождаемым глобализацией. Значение неравенства по уровню доходной обеспеченности в объяснении динамики основных экономических и социальных процессов до сих пор остается недооцененным как исследователями, так и лицами, принимающими ответственные политические и управленческие решения. Большинство экспертов длительное время терпимо относились к росту дифференциации, придерживаясь известной гипотезы Саймона Кузнеца, согласно которой экономический рост, с одной стороны, провоцирует всплеск неравенства, с другой стороны, создает материальную основу для перераспределения ресурсов в пользу бедных и снижения неравенства. Справедливости ради следует отметить, что речь шла не о конъюнктурном экономическом росте, а о развитии экономики за счет роста производительности труда и заработков у большинства работающего населения, а перераспределительная функция государства рассматривалась только относительно неработающих граждан.
Сравнительный анализ динамики показателей распределения доходов в разных странах позволяет сделать вывод о неодинаковости там роста доходного неравенства[18]. Например, в Венгрии коэффициент Джини за 10 лет увеличился совсем незначительно (с 0,21 в 1987 г. до 0,25 в 1997 г.). В Чехии, Польше и Латвии увеличение неравенства было более существенным, но все же не таким масштабным. И только практически для всех стран СНГ рост неравенства оказался беспрецедентным и стал сопоставимым с показателями стран Латинской Америки.
Как на разных этапах экономического цикла изменения в структуре и уровне доходов населения России отразились на их дифференциации? Для понимания данного вопроса вновь обратимся к рассмотренным ранее двум макроэкономическим измерителям неравенства (рис. 1.2):
1) децильным коэффициентам дифференциации, которые, как уже отмечалось, чувствительны к изменению неравенства на краях распределения;
2) коэффициентам концентрации доходов Джини, реагирующим на неравенство в середине и на «хвостах» распределения.
В период структурного кризиса (1992–1999 гг.) на фоне двукратного падения реальных доходов и заработной платы произошел трехкратный рост дифференциации доходов. И далее на этапе экономического роста наблюдалась плавная тенденция к росту коэффициента Джини и фондового коэффициента дифференциации доходов, который отражает нарастание разрыва в объемах доходов 10 % самых обеспеченных, с одной стороны, и 10 % самых низкодоходных людей в стране – с другой.
Важно подчеркнуть, что тенденции к изменению дифференциации оплаты труда, которая является основным источником доходов российского населения, не совпадают с динамикой доходного неравенства. В период с 1991 по 2001 г. коэффициент фондов по зарплате увеличился с 7,8 до 39,6 раза, а затем резко снизился в 2002 г. до 30,5 раза, положив начало процессу сокращения неравенства по оплате труда. Если обратиться к данным последнего наблюдения за заработной платой (апрель 2009 г.), то впервые дифференциация оплаты труда стала ниже неравенства по доходам и опустилась до уровня 14,7 раза.
Какова взаимосвязь между неравенством в доходах и в заработной плате? Данные, представленные на рис. 1.2, свидетельствуют о том, что этой взаимосвязи в России нет. В 2001 г. при децильном коэффициенте дифференциации доходов в 13,9 раза для заработной платы данный показатель составил 39,6 раза. Во II кв. 2009 г. этот критерий оценивал дифференциацию доходов на уровне 15,8 раза, а заработной платы – на уровне 14,7 раза. Такие колебания наблюдаются на фоне того, что около 70 % доходов формируется за счет оплаты труда, и 62 % домохозяйств имеют в своем составе работающих. Именно поэтому большинство экспертов считают, что в основе дифференциации доходов лежит дифференциация оплаты труда.
Поляризация доходов в значительной степени обусловлена появлением доходов от собственности и предпринимательской деятельности, составляющих около 20 % общего объема доходов, но этого объема недостаточно, чтобы создать эффект разнонаправленных векторов динамики дифференциации доходов и заработной платы. Очевидно, что есть серьезные проблемы измерения, и начнем с заработной платы. Представленные показатели ее дифференциации оцениваются на основе наблюдения только за крупными и средними предприятиями, и, согласно данным официальной статистики, в начале текущего кризиса (по состоянию на ноябрь 2008 г.) штатными сотрудниками организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, были 37,1 млн чел., или 52 % общей численности занятых. Еще 2 млн чел. (в эквиваленте полной занятости), или 2,6 % общей численности занятых, привлекались на условиях совместительства или по договорам гражданско-правового характера. Следовательно, практически половина работающих не попадают в поле зрения, когда оценивается дифференциация оплаты труда.
Как уже отмечалось (см. табл. 1.2), около 40 % фонда оплаты труда (или четверть всех доходов) скрыто от статистического наблюдения. Если это так, то ненаблюдаемая часть заработной платы в совокупности с доходами от собственности и предпринимательскими доходами может задать разнонаправленные векторы в динамике доходов и наблюдаемой части заработной платы. Но тогда возникает вопрос о легитимности официальных оценок дифференциации заработной платы.
Необходимо отметить, что оценки дифференциации экономического благосостояния домохозяйств чувствительны к методологии расчета коэффициентов неравенства. В частности, Росстат, игнорируя межрегиональные различия в стоимости жизни, тем самым завышает фактический уровень неравенства, но, с другой стороны, не учитывая территориальные различия в уровне доходов, занижает дифференциацию. Поскольку последнее превосходит первое, в конечном счете методика Росстата занижает уровень дифференциации для России. Если пересчитать официальные коэффициенты дифференциации с учетом региональных различий в стоимости жизни и не собирать децильные группы из региональных децильных групп, то значение коэффициента фондов повышается до 25 раз. Это означает, что реальная дифференциация в России существенно выше. В целом официальная методология оценки коэффициента дифференциации доходов так все сглаживает, что если и фиксируются какие-либо изменения коэффициента дифференциации, то реальные изменения в наблюдаемых доходах значительно больше. Правда, мы не знаем, что происходит с доходами, скрытыми от наблюдения.
Максимально правдоподобная картина дифференциации оплаты труда складывается для крупных и средних предприятий. Имеющиеся данные указывают на то, что для этого сегмента экономики характерно высокое межотраслевое и внутриотраслевое неравенство. Межотраслевая дифференциация заработной платы обусловлена как различиями в экономическом положении отраслевых групп, имеющих разную экономическую значимость, так и конкурентоспособностью производимой продукции.
Таблица 1.11
Различия в средней заработной плате по видам экономической деятельности в 1995–2009 гг., % к средней по экономике

Источники: Рассчитано по данным сборников Росстата: Социальное положение и уровень жизни населения России. 2006. Стат. сб. / Росстат. M., 2006; Россия в цифрах. 2007. Крат. стат. сб. / Росстат. M., 2007.
Данные табл. 1.11 подтверждают устойчивость иерархии отраслей применительно к анализу дифференциации оплаты труда, поэтому рассмотрим ее на примере 2006 г.[19] В отраслях с самой высокой заработной платой ее уровень превосходит средний по экономике как минимум в 1,2 раза. В эту группу входят добывающие и инфраструктурные отрасли (добыча полезных ископаемых, транспорт и связь, финансово-кредитная деятельность) и госуправление. «Средняя» группа образована отраслями обрабатывающей промышленности и строительством. В этих отраслях показатели оплаты труда тяготеют к среднероссийским.
В «низшей» группе представлены отрасли, в которых средняя зарплата составляет примерно две трети среднероссийской: это отрасли бюджетного сектора, а также торговля, общественное питание, гостиничный и ресторанный бизнес. Из бюджетных сфер в данную группу не попадает только более высокооплачиваемый сектор государственного управления и обеспечения военной безопасности, включающий и занятых в обязательном социальном обеспечении. Особо низким статусом обладает сельское хозяйство, в котором средняя зарплата составляет лишь 43 % среднероссийского показателя.
Итак, очевидно, что бюджетный сектор и сельское хозяйство – зоны низкооплачиваемости, что, собственно, и объясняет высокое представительство среди бедных работающего населения, в том числе с высшим образованием, и высокие риски бедности в сельской местности, где низкие заработки в значительной степени обусловлены низкими профессионально-квалификационными характеристиками занятых. Для бюджетного сектора характерна другая ситуация, что подтверждается, например, работами В. Е. Гимпельсона и Р. И. Капелюшникова, в которых данные о вознаграждении приводятся к сопоставимому виду посредством выделения работников, занятых в различных секторах экономики, но с одинаковыми профессионально-квалификационными характеристиками. Согласно их результатам, «в России, в отличие от большинства стран, работникам бюджетной сферы существенно недоплачивают по сравнению с аналогичными работниками альтернативного сектора»[20]. Следовательно, более ускоренные темпы роста заработной платы в бюджетном секторе, сельском хозяйстве, торговле и общественном питании не поменяли место этих отраслей в общей иерархии. Это означает, что бюджетники, которых многие эксперты рассматривают как главный потенциал для роста среднего класса, в годы экономического подъема не изменили своего положения в межотраслевой дифференциации.
Высокий уровень неравенства в оплате труда наблюдается не только между, но и внутри отдельных отраслей, что можно проиллюстрировать данными о коэффициентах дифференциации фондов (табл. 1.12) по видам экономической деятельности. В последний предкризисный год самую высокую дифференциацию оплаты труда – с коэффициентом фондов более 25 раз – имели три вида экономической деятельности, каждый из которых связан с сектором услуг, – финансовый сектор, торговля и общественное питание, а также предоставление прочих (коммунальных, социальных и персональных) услуг.
Таблица 1.12
Дифференциация зарплаты внутри видов экономической деятельности в 2005–2009 гг., соотношение средней заработной платы 10 % работников с наибольшей и 10 % работников с наименьшей заработной платой, разы


* 10,7 раза – внутриотраслевая дифференциация на транспорте; 17,8 раза – внутриотраслевая дифференциация в связи.
Источники: Труд и занятость в России. 2007: Стат. сб. / Росстат. M., 2007. С. 399–400; Распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы (по результатам выборочного обследования организаций за апрель 2009 г.); см. сайт Росстата: http://www.gks.ru/wps/portal/OSI_N/ZAN
Отметим, что за годы экономического роста уровень дифференциации оплаты труда в финансовом секторе в целом снизился, а в торговле он рос до 2006 г. включительно, достигнув 32,7 раза, но в 2007 г. зафиксировано снижение до 24,7 раза, что обусловлено широкой распространенностью административных методов борьбы с малооплачиваемостью.
В начальный период экономического роста значительной неоднородностью характеризовалось сельское хозяйство, в котором на экономическое положение производителей существенно влияет природно-климатический фактор, однако в 2005 г. ситуация изменилась, чему способствовало проводившееся в этот период повышение минимальной зарплаты, повлекшее за собой рост зарплаты в среднем по отрасли и тем самым способствующее сокращению дифференциации. Виды деятельности, преимущественно представленные бюджетным сектором, попадают в категорию не отличающихся высоким внутренним неравенством в оплате труда.
Значимый вклад в неравенство вносят региональные различия в заработной плате, достигающие десятков раз, если сравнивать самую высокооплачиваемую отрасль реального сектора «богатого» региона и самую низкооплачиваемую отрасль «бедного»[21]. Так, в 2004 г. номинальная средняя заработная плата в промышленности Ямало-Ненецкого АО была в 26–36 раз выше заработной платы занятых в сельском хозяйстве Дагестана и Агинского Бурятского АО. Однако региональные различия в оплате труда в значительной степени обусловлены отраслевой структурой региональной экономики, поэтому обратимся к региональным данным в рамках одной отрасли, например здравоохранения, работники которого в странах ЕС являются типичными представителями среднего класса. В 2006 г. среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций здравоохранения в Москве (16 546 руб.) в 3,9 раза превышала соответствующий показатель для Республики Дагестан (4305 руб.). Ряд экспертов справедливо считают, что межрегиональные различия в оплате труда «одинаковых» работников в основном носят компенсирующий характер: работники получают в терминах заработной платы за более высокий уровень цен и относительно неблагоприятные условия проживания[22]. Но наряду с компенсирующим эффектом в бюджетных секторах территориальная дифференциация оплаты труда в рамках сходных видов экономической деятельности обусловлена возможностями региональных бюджетов и высокими барьерами для межрегиональной мобильности трудовых ресурсов.
Наконец, нельзя не обратить внимание на гендерное неравенство (табл. 1.13).
Таблица 1.13
Соотношение заработной платы мужчин и женщин по отраслям экономики в 1998–2004 гг., разы


Источник: Сборник Росстата «Труд и занятость в России» разных лет.
В целом разрыв в оплате труда мужчин и женщин составляет около 1,5 раза в пользу мужчин. В отраслях с высокой долей бюджетных организаций, для которых характерна более низкая цена труда, соотношение зарплаты мужчин и женщин ниже, чем во внебюджетном секторе. В годы экономического подъема гендерная дифференциация заработков росла как в бюджетном, так и в небюджетном секторе (разрыв в заработной плате мужчин и женщин увеличился примерно на 10 %). Вместе с тем не следует преувеличивать значимость гендерных и отраслевых различий в оплате труда при оценке доходного неравенства. На уровне домашних хозяйств гендерные различия нивелируются. Более того, мы не можем утверждать, что, например, работники бюджетных секторов с более низкими заработками отличаются и более высокими рисками бедности или более высокой вероятностью попадания в средний класс. Возможно, врачи и преподаватели вузов в основном попадают в число представителей среднего класса, но не они составляют основную численность занятых в образовании и здравоохранении, лидерство – за учителями школ и средним медицинским персоналом.

Рис. 1.10. Распределение работников различных секторов по децильным группам по доходу (100 % – все работники сектора)
Занятые в бюджетных и небюджетных секторах в одинаковой степени представлены в разных доходных группах (рис. 1.10). При высокой внутриотраслевой дифференциации по заработной плате на первый план выходят неравенства, обусловленные социальной сегрегацией на уровне домашних хозяйств, проявляющейся в том, что в рамках одной семьи собираются индивиды с близкими характеристиками человеческого капитала. При этом более низкие заработки женщин в семейных моделях распределения экономических и социальных ролей компенсируются большими заработками мужчин; в свою очередь они позволяют сочетать экономическую активность и больший мандат семейных обязанностей при дефицитности рынка социальных услуг. Гендерная дифференциация в оплате труда проявляется в тех случаях, когда в семье физически нет второго работника (например, неполные семьи с детьми), но данные РиДМиЖ свидетельствуют о том, что средняя заработная плата одиноких матерей выше, чем замужних женщин.
Таким образом, структурный анализ неравенства свидетельствует о том, что в современном российском обществе мы наблюдаем неравенства, обусловленные социальной сегрегацией работников на шкале человеческого капитала, которые являются следствием модернизационных социальных изменений. Они приводят к увеличению разрывов между социальными стратами по целому набору ресурсов (доходы, образование, занятость, квалификация), и при высоком уровне «старых» неравенств (межотраслевая и внутриотраслевая дифференциация зарплаты, различия в структуре региональных рынков труда, низкая мобильность населения) мы уже имеем новые (сегрегация человеческого капитала на семейном уровне, дифференциация региональных программ социальной поддержки), для преодоления которых недостаточно удвоения ВВП и реальных доходов населения. В этой связи на передний план модернизационного развития, о котором все чаще говорят эксперты и политики как единственно верном сценарии преодоления в России кризиса, выдвигается задача снижения неравенства. Сегодня уже очевидно: несмотря на то, что кризис был спровоцирован внешними по отношению к российской экономике факторами, он в полной мере обнажил внутренние диспропорции в экономике и обществе, обусловленные высокой зависимостью экономики от ресурсодобывающих отраслей, собственно, и задающей вектор неравенства.
Влияние текущего кризиса на дифференциацию населения, по официальным данным Росстата, заметно только в поквартальном разрезе (табл. 1.14). Учет ведется накопительным итогом с начала года, поэтому данная специфика измерения действует сглаживающим образом на дифференциацию при переходе к более поздним кварталам. Но даже при таком подходе, до и в ходе кризиса, мы видим мощный дифференцирующий эффект IV кв., что связано с выплатой годовых премий и бонусов. Причем 20 % беднейших исключены из данного процесса, а 20 % наиболее обеспеченных, наоборот, имеют максимальный доступ к нему.
Таблица 1.14
Распределение общего объема денежных доходов населения в 2007–2009 гг., %

Источник: Данные Росстата.
Повлиял ли кризис на дифференциацию? Если судить по макроэкономическим показателям дифференциации, то в целом нет, и только в I кв. наблюдается увеличение удельного веса доходов 20 % самых бедных в общем объеме доходов, что, как и в случае 2007 г., стало следствием двукратного повышения минимальной заработной платы. По сути это инициированный государством перераспределительный процесс, который не связан с кризисом и является инструментом реализации политики, определенной еще на этапе экономического роста. Влияние кризиса на неравенство в распределении наблюдаемой части заработной платы просматривается через призму различий в средней заработной плате по видам экономической деятельности и изменений дифференциации оплаты труда внутри видов экономической деятельности. Еще раз отметим, что кризис снизил коэффициент дифференциации фондов по наблюдаемой части заработной платы до беспрецедентно низкого уровня (14,7 раза). Произошло это, во-первых, за счет эффекта роста минимальной заработной платы в низкооплачиваемых видах экономической деятельности (сельское хозяйство, торговля, гостиницы и рестораны, образование и здравоохранение), во-вторых, за счет снижения высоких заработков в отраслях с избыточным неравенством (финансовая деятельность и добыча полезных ископаемых). Снижение меж деятельностной и внутридеятельностной дифференциации относится к позитивным результатам текущего кризиса.


